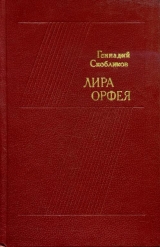
Текст книги "Лира Орфея"
Автор книги: Геннадий Скобликов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Подтянутый, легкий, остроглазый, всегда (если чем-то крайне не испорчено настроение) – с улыбкой, с любовью к своим подчиненным, к службе. Делами роты он занимался просто заразительно. Любой выношенный им план – что-то новое сделать в роте – он так умел подсказать взводным и сержантам, а то и всему личному составу роты, так умел заинтересовать, зажечь всех, что тут же начиналось горячее обсуждение, как все это лучше выполнить, а он, ротный, только слушал, довольный и веселый, что-то про себя уточнял, вносил свои замечания как бы на равных со всеми. И в результате его идея, пришедшая ему, может, только утром по дороге в часть, уже в тот же день становилась общей идеей всей роты, его желание становилось желанием всех, его стремление выполнить намеченное сейчас же – опять же стремлением всех тут же взяться за дело.
И это было не приемом и не хитростью ротного – это был его естественный стиль работы. Безусловное подчинение низшего высшему по должности и званию он, кадровый военный, признавал и принимал безусловно, но тут же – сам лично – считал, что, кроме этого, подчинение должно вытекать и из общего понимания подразделением всех задач, которые надо решать, из общей любви к делу, которому они все призваны служить. Правильные слова эти, конечно же, говорятся и всеми и везде, но их ротный никогда, кажется, и не говорил их – просто он сам был таким и своим отношением к службе заражал и подчиненных своих. В штабе ценили и уважали их ротного, но сказать правду, не без иронии при случае называли его «демократом», особенно, конечно, если случалось в их роте какое ЧП: вот, мол, тебе, Рукавишников, и твой д е м о к р а т и з м!.. Тем не менее их Рукавишников твердо стоял на своем, считал, что та же дисциплина – в первую очередь акт сознания, сознательного исполнения необходимого, а не вынужденное повиновение или даже страх, и каждое нарушение дисциплины у них выносилось в первую очередь на общее обсуждение взвода или всей роты, и только в крайних случаях, когда по-другому было просто нельзя, он прибегал к дисциплинарным взысканиям. Гауптвахту он категорически отрицал, считал, что на этой самой «губе» человек только портится, и если, приходилось, отправлял кого из своей роты на гауптвахту, то ходил как провинившийся перед самим собой и, кажется, искал любой зацепки, чтоб вызволить «негодяя». В роте это знали и умели ценить, и за каждый проступок солдата или сержанта чувствовала себя виноватой вся рота: «Опять Диму подвели!..» И уже сами так разговаривали с провинившимся, что другого наказания вообще-то больше и не требовалось.
Можно сказать, что рота просто хотела оберечь Диму от возможных ЧП. Особенно после летней истории в Одессе.
Весь почти полугодовой срок пребывания их там прошел без ЧП, но в последний вечер случилось-таки. Двое солдат, отпущенных в увольнение (всем желающим ротный дал увольнение на прощание с Одессой), связались в парке с какой-то шлюхой, она завела их в кусты... и там подняла крик, что ее насилуют. Милиция задержала всех троих, солдат передали патрулю, и тот доставил их в военную комендатуру. Утром ротный выяснил, в чем дело, сразу же позвонил о случившемся сюда, в штаб части... и тут произошло, как бывает, наверное, только в кино. В тот же самый момент, когда позвонил ротный, командир части только что подписал его документы для поступления в академию и писарь уже понес их, чтоб запечатать и отправить в Москву. И вот этот звонок и ЧП – и командир части задерживает документы... и год у ротного пропадает. Выяснение дела с теми двумя стоило многих сил и нервных издержек и командиру части, и замполиту, но особенно потрепала эта история их Диму. Он вернулся из Одессы похудевший, замкнутый и, честно говоря, откровенно обиженный на всю роту: такое пятно наляпали на себя, на всю часть. Теперь, по возрасту, у ротного оставался последний год – последняя попытка поступить в академию, и в роте просто боялись, как бы и еще кто не сорвался всерьез. Конечно же, и тот самый проступок Русого с этой его дурацкой самоволкой тоже не прошел бесследно для ротного, и не только по реакции в штабе, но и для самого Дмитрия Прохоровича лично, и Максим, конечно же, каждую секунду помнил перед ротным свою вину и не мог уже, как было всегда это прежде, смотреть ему прямо в глаза. Впрочем, и сам Дмитрий Прохорович, их капитан Рукавишников, – тоже избегал с той поры смотреть в глаза Русому: стыдился он бездумного его проступка, Рукавишников, тем более, что от кого-от кого, но от него, Русого, он этого никогда не ожидал.
Рукавишников отметил Русого еще в учебной роте, где сам – в звании старшего лейтенанта – был помкомандира роты. И когда, как раз перед выпуском курсантов, он получил линейную роту, он взял в числе других сержантов-выпускников к себе и младшего сержанта Русого – командиром отделения взвода разведки и секретарем комсомольской организации роты. И вот уже второй год службы в этой роте у них были те по-армейски деловые и строгие, и в то же время и по-человечески теплые отношения, лучше которых, по крайней мере ему, Русому, и желать было больше нельзя. А вообще же, если теперь, спустя годы, признаться, Максим просто любил своего ротного, и когда видел его, слышал его голос или просто вспоминал, ему всегда было просто счастливо, что вот выпало ему в армии служить под началом такого командира и человека, как их Рукавишников. И, конечно же, в первую очередь благодаря ему, Дмитрию Прохоровичу, и вспоминает он все эти годы так светло и так счастливо в общем-то и трудную и сложную тоже армейскую службу свою.
Вот и теперь, хотя и оставалось у ротного после его самоволки заметное к нему отчуждение и они оба выдерживали единственно возможный сейчас между ними официальный служебный тон, он все-таки решил пойти к капитану Рукавишникову посоветоваться. Никогда, сколько он знал Рукавишникова, не допускал тот несерьезного или вообще какого-либо легкомысленного отношения к любому делу, и вот теперь он тоже рассчитывал на его и участливый и разумный совет.
Выбрал час, когда ротный был один в своей комнате, вошел, сказал, по какому вопросу, и потом покороче и пояснее и рассказал Дмитрию Прохоровичу все. И сказал, что не знает теперь и сам, что посоветовать Лиде.
– Пусть не делает она этого, – сказал ему Дмитрий Прохорович. – Ведь ты-то ничего не можешь ей предложить сейчас, так?
– Ну, если она решит уйти, тогда, может, только деньгами? Мне отец, пишет, собрал там немного, чтоб я оделся после армии. Попрошу, напишу что-нибудь, – пришлет.
Ротный внимательно, как-то особенно пристально посмотрел на него. И чему-то серьезно усмехнулся.
– Лиде твоей, секретарь, не деньги нужны, – раздельно сказал он ему. – Ей ты нужен. Если, конечно, нужен, я же не знаю, как там у вас. А вам рано связывать себя, по крайней мере тебе. В институт поступать не раздумал?
– Нет, не раздумал.
– Вот и не решай этих вопросов, пока не поступишь учиться. Нужен ты ей – подождет. А сейчас пока уговори ее остаться дома. Мать – она и есть мать.
И на следующий день он так и сделал: пришел к Лиде на работу и стал уговаривать ее примириться пока с Полиной Герасимовной, не уходить. Потому что действительно – ни на чем был их этот конфликт и усугублять его тоже сейчас было незачем, не для чего.
– Хорошо, может, и прав ты, – согласилась, выслушав его доводы, Лида. – Останусь, потерплю и еще.
О каком-то возможном совместном их будущем не заговаривали ни он, ни она. У них и никогда еще, ни единого раза не бывало разговора об этом.
Два или три раза после этого приходил он к Лиде домой. Делал он это специально: им нечего таить свои встречи, пусть ее мать видит. Полина Герасимовна, пока он стоял на кухне и ждал, когда оденется Лида, не выпускала изо рта папиросы. На него она вообще не смотрела.
Потом Лида пришла к нему на КПП, вместе с Верой.
– Мать видеть тебя не хочет, так и сказала. Она разрешает мне встречаться с тобой, но только не дома.
– Идемте к вам. Мне с ней надо поговорить.
– Не надо, Максим.
– Тогда давай больше вообще не встречаться.
И они пошли. Лида с Верой остались на улице, а он вошел в дом. Настроен он был, можно сказать, решительно, хотя толком и не представлял, что хочет услышать он от Полины Герасимовны и что намерен ответить ей сам. Единственное, он знал, что при случае не постесняется сказать ей несколько ясных слов... за ее, так сказать, материнскую чуткость и любовь к Лиде: в конце концов, всему бывает предел.
Он постучался и, не дожидаясь ответа, вошел. Полина Герасимовна сидела на своем месте на кухне и нервно, тяжко курила. Сколько же времени прошло с тех пор, как ушли отсюда Лида и Вера, пришли к нему в часть, а она тут все никак не могла успокоиться? И вид у нее сейчас был – глубоко несчастного человека.
И это состояние Полины Герасимовны привело его в замешательство. Встреть она его как-нибудь злобно, руганью, он, наверное, был бы больше готов – че́м ей на это ответить. Но она почти даже и не посмотрела на него и ничего не сказала. И он почувствовал себя в чем-то действительно виноватым. Хотя и не мог понять – в чем.
– Простите, Полина Герасимовна, что я опять пришел к вам, – вежливо и виновато начал, волнуясь, он и произнес в том же сверхвежливом духе совсем неожиданную для себя свою извинительную речь, которую после никогда не мог вспомнить без стыда за себя самого. Смысл же этой сверхвежливой его речи сводился к тому, что хотя ему и стыдно говорить это ей, Лидиной маме, но он все-таки вынужден сказать, что она, Полина Герасимовна, несправедлива к ним, и что она зря их подозревает во всем недостойном и т. д. и т. п. И, говоря все это, он, наверное, думал, что не может же она, Полина Герасимовна, не поверить в конце концов его искренности и не мучить больше ни Лиду своими напрасными подозрениями, ни себя. Действительно, единственное, чего он больше всего хотел бы в эти минуты и вообще во всей сложившейся ситуации, – это чтоб восторжествовала в конце концов истина и чтоб и ни Лида, и ни Полина Герасимовна не страдали больше ни за что.
И Полина Герасимовна выслушала все, что он ей тут сказал. А потом и ответила, глядя ему прямо в глаза:
– А я не верю тебе. И ей тоже не верю. И не хочу, чтоб ты ходил к ней. В мой дом может ходить только тот, кто будет жениться на моей дочери. Вот и все. Она осталась у меня одна, и я хочу сделать все, чтоб она была счастлива. Вот тебе и все мои слова...
Что ж, это-то он и раньше в общем-то все понимал. Она – стареющая больная женщина с плохо сложившейся личной судьбой. Старшая дочь замужем за человеком, которого она, Полина Герасимовна, просто не терпит. Поэтому все в ее нынешней жизни и связано с Лидой и она только и думает о ее удачном замужестве, по всем статьям. А тут он, солдат из соседней части, тоже себе – жених!.. И все-таки такой вот – лобовой постановки вопроса он, конечно, не ожидал.
– ...Ну, что ж, простите, Полина Герасимовна, что я принес вам столько неприятного, – ответил он ей на это, решив, что, видно, надо и в самом деле как-то все это кончать. – Оставайтесь и живите спокойно, больше я не приду уже к вам. Только прошу вас: не обвиняйте напрасно вы Лиду, ни в чем и ни перед кем не виновата она.
Но Полину Герасимовну не поколебали и не растопили и эти его слова, она все так же жадно курила свой «Беломор» и смотрела куда-то в пространство. И лицо ее было как каменное.
И он попрощался и вышел.
Лиде он передал весь их короткий разговор с Полиной Герасимовной. Сам он тоже все еще находился во власти вдруг принятого решения, и он то же самое сказал и Лиде. Он сказал, что – да, ее мать по-своему права, и, наверное, лучше им не встречаться.
Он ждал, конечно же, что Лида будет ему возражать; но она ничего не говорила. Она плакала, уткнувшись Вере в плечо.
– Да я и так все равно пока не смогу приходить, – сказал он, стараясь смягчить ситуацию. – Через неделю я еду надолго в командировку.
На самом деле через неделю их часть выезжала на полигонную практику. Как раз с середины апреля, на месяц, или может даже месяца на полтора.
– Ты больше не придешь? – спросила его Лида, и голос ее был тихий. И спросила она его так, как если бы спрашивала: «Ты больше в о о б щ е не придешь?»
– Перед отъездом зайду на работу, – ответил он.
А дня через три Лида пришла на КПП. Повод у нее был: еще раньше он дал ей чистый альбом и просил переписать в него тексты ее любимых песен, и вот она принесла ему его, наполовину заполненный песнями. А он эти дни болел, врач заподозрил воспаление легких, и на следующий день его отправляли в госпиталь. Он попросил Лиду принести завтра на работу ее фотографии, она давно обещала ему их. И на следующее утро она принесла три своих фотографии, две портретные, а на одной она была снята «Аленушкой», на берегу Салгира. Две из них были подписаны ему еще январем. В обед она опять пришла на КПП. Его вызвали, и Лида дала ему адрес своей подруги – некой славной женщины Риты Марковны: – Это, если ты захочешь мне написать...
И в госпитале врач заподозрил сначала что-то серьезное, но тревога оказалась напрасной. Просто он на ногах перенес воспаление легких, от натужного кашля полопались капилляры – и рентген дал сначала плохую картинку. А потом все очистилось. Так что в госпиталь он попал практически в конце болезни – и через неделю его обещали выписать.
Еще в первый день он написал Лиде письмо. И потом тайно надеялся, что она навестит его. Но Лида не пришла ни в субботу, ни в воскресенье, и он обиделся на нее. Вот Женю, уязвленно все время сравнивал он, Женю она обязательно навестила бы.
А перед выпиской он получил письмо от нее. Лида писала, что и она тоже болела и что без него она ощущает сейчас «какой-то недостаток», что хочет увидеть его «хоть на несколько минут». «Сегодня утром, – писала она дальше, – шла на работу, увидела машину у вашей части и (смешно, конечно) у меня что-то «оборвалось» внутри: а вдруг в машине ты. ...Но, увы, этого не могло быть».
Прочитал – и обрадовался этим ее словам. И ему стыдно стало за свои недавние обиды. И теперь, после такого ее письма, он особенно ждал их встречи.
Его выписали из госпиталя, он вернулся в часть, но роты уже не было – все уехали в летние лагеря. В городке была оставлена та необходимая часть личного состава, чтобы нести караульную службу, да набралось еще несколько человек, по разным причинам пока не уехавших на полигонную практику. Эти последние были организованы в сводный взвод и размещены вместе в одном отсеке в казарме их роты. Приставлен к взводу был старший лейтенант, из незанудливых, с ним жить им можно было. Старший лейтенант сказал, что 2 мая он, сержант Русый, с группой солдат отбудет в лагеря, «а пока – пользуйся данным тебе в госпитале освобождением от нарядов, сиди над своими книжками». Так что две недели практически свободного времени были ему как подарок, тем более, что в последние два месяца он довольно-таки запустил подготовку к вступительным экзаменам в институт. Само собой, хотелось почаще и видеться с Лидой.
В первый раз после госпиталя он пришел к ней 17 апреля. Лида не знала, что его выписали, конечно же не ждала, – и он, помня ее письмо, ожидал увидеть радость на ее лице. Но она, отметил он, уязвленный, всего лишь удивилась его приходу. Даже и десятой доли того ожидания увидеть его хоть на несколько минут (как сама она писала в письме) не было сейчас в ее глазах. Она удивилась, что его так быстро выписали, но и только. А ему хотелось большего, хотелось увидеть ее радость, услышать такие же – как в письме – слова...
И еще раз, теперь уже действительно глубоко и уязвленный и обиженный, решил он, что и вправду, наверное, ничего у них хорошего взаимного не получится и пора им эти встречи кончать.
И в первое же увольнение он ушел в город с Егором, сержантом третьей роты, тем самым трактористом из Аман-Карагая, что так подолгу и хорошо пел тогда в их вагоне призывников свои песни. У Егора тоже была своя знакомая в этом городе – и своя глубокая боль, и им было о чем поговорить. Они ходили по весенним улицам под распустившимися каштанами, и долгий их разговор был одновременно и приятен и горек им.
25 апреля (ему врезались в память все эти даты из-за событий, что будут чуть позже, 1 Мая) они встретились с Лидой опять. И опять состоялся «последний» – мучительный для обоих для них разговор. Он не мог ей, конечно, в открытую рассказать о своем тайном давнишнем душевном голоде (да и рассказал бы, – что толку, если она, Лида, его не чувствует сама?..), и говорил о ее постоянной внутренней отгороженности от него, о ее чрезмерной сдержанности с ним. И чем так, чем им мучиться только, то не лучше ли им расстаться вообще...
Говорил он ей в общем-то правду, но и ждал, что она будет возражать ему, не соглашаться с ним и доказывать, что им ни в коем случае нельзя расставаться. Потому что он и сам хотел бы говорить ей все это. Но она, Лида... она и не опровергала и не оспаривала его.
– Хорошо, Максим, – подвела она итог этому их разговору, – пусть будет так, как хочешь ты. Я все равно благодарна тебе. Ты помог мне во многом, хотя сам и не знал этого. Даже в истории с мамой ты был единственным, кто советовал мне остаться, и правильно сделал. Ты знаешь, как мне было тяжело, как переживала я разрыв с Женей. Но ты был рядом, и мне было легче. Ну а теперь и тебя не будет...
– Мне тоже трудно быть все время рядом только для того, чтоб помогать тебе решать что-то, о чем я и не знаю, – сказал ей он. – Зачем мне эта роль?
– Ты всегда прав, – ответила она. – И сейчас ты тоже прав. И я не стану удерживать тебя. До свидания, Максим...
И этот вечер, когда он вернулся в казарму и до него наконец-то дошло, д о ч е г о они договорились, и все следующие три дня он жил как в лихорадке. Чтоб отвлечься, пытался заставлять себя заниматься: то немецким, то русским, то историей, но из этих его зряшных попыток так ничего и не выходило. Еще и еще сам собой возобновлялся в нем его мысленный разговор с Лидой, и он то опять же вроде бы вполне резонно и справедливо говорил ей об ее непонятной внутренней отгороженности от него, а то тут же ругал себя, дурака, что наговорил ей тогда наперекор своему истинному желанию: господи, да разве же сможет он хоть неделю, хоть еще день или два прожить вот так без нее!.. И он подолгу, почти постоянно дежурил у окна маленькой канцелярии пристроя, с окнами на улицу, в надежде – не покажется ли вдруг она.
Но Лида не появлялась ни на следующий, ни на другой день, и это становилось уже невыносимым. Уже в настоящей нервной лихорадке проводил он целые часы в этой пустой канцелярии, где его почти не беспокоили, и то по-прежнему дежурил у окна, выжидая и высматривая, не мелькнет ли где Лида, а то бросался к столу и на первых же попавшихся листках бумаги записывал такие же лихорадочные, обращенные к Лиде, стихи.
И все-таки на третий день он, кажется, увидел ее. Нет, не в лицо, не близко – промелькнул только ее красный платок. Но боже мой, боже мой, разве он мог спутать Лиду хоть с кем-то еще! И он опрометью бросился вон из казармы, так же бегом выскочил за КПП, на улицу. Но ее уже не было. Постоял, потом вернулся назад, поднялся на крыльцо канцелярии: может, все-таки она покажется еще? Но нет, больше Лида так нигде и не появилась...
А на следующий день (опять было солнечно и тепло) его позвали к воротам, что выходят на пустырь, к фабрике. За воротами его ждала Лида. С ней же был молоденький светловолосый паренек Славка, из их цеха. Он, Максим, знал о существовании этого Славки, Лида говорила ему о нем: парнишка был влюблен в нее по уши и выполнял любые ее просьбы и поручения. Теперь вот он согласился пойти с ней к части, потому что одной ей было идти неудобно.
Максим боялся взглянуть на Лиду.
А она была в светленьком летнем платье, косы распущены, немножко виноватый взгляд... Она пришла пригласить его на вечер.
– Завтра, в Доме учителя. Мы выступаем. Я буду петь. Придешь?
– Приду. Если достану увольнительную.
– Я очень хочу, чтоб ты пришел.
– Постараюсь.
Старший лейтенант понимал все с полуслова.
– Зазноба приходила?
– Она.
– До которого тебе?
– До 23.00.
– Вот до 24.00. На завтра тоже дам. И на 1 Мая до утра. Ты ж 2-го вечером уезжаешь?
– Да, 2-го.
– Вот и гуляйте эти три дня, пока я добрый.
...Зал небольшой, все места заняты. Освещена только сцена. Выходит из-за кулис Лида, за нею баянист. Лида в светлом узком платье. Держится на сцене хорошо. Стоит, смотрит пристально в зал. Может, его ищет? Он сидит в конце зала. Она смотрит будто бы на него, но – нет, глаза их не встретились. Впрочем, Лида немного близорука, она могла и не увидеть его.
И вот Лида поет, поет о любви, о чьей-то перед кем-то вине; и ему хочется, чтобы все, о чем поет сейчас Лида, все до единого слова, относилось к нему.
...Пойми меня,
Это трудно простить.
Прости меня,
Если можешь простить.
Улыбнись взглядом,
Будто мы снова рядом,
И обид не тая,
Прости меня...
Она едва заканчивает песню и в слезах убегает за кулисы. Какое-то время в зале полная тишина, потом настоящий взрыв: все долго и горячо рукоплещут, вызывая на сцену Лиду. Но нет, Лида больше не выходит петь. И он ее понимает, хотя сам и хочет, чтоб она пела еще.
После концерта должны были быть танцы. Он вышел в коридор, остановился у раскрытого окна, закурил, Подошла Лида. Она все еще была взволнована. Он поздравил ее с успехом. Хотел спросить, почему все-таки ее эти слезы, но промолчал.
– Наши все в буфете собираются, – сказала Лида. – Пойдем?
И он хотел бы пойти, хотел бы сделать приятно и Лиде. Но его комплекс уже сработал, и он сразу же внутренне отстранился, обособился и уже окончательно затормозил себя. Не может он, все еще никак не может – вот так, свободно, весело, вместе со всеми пойти в буфет. Не может, не умеет пересилить себя, нет в нем этой раскрепощенности.
– Иди, – говорит он Лиде, стараясь все-таки говорить как можно нейтральнее и естественнее, чтоб не обидеть ее. – Иди, иди с ними. А я пока тут постою.
И Лида, конечно, обижена: всегда с ним вот так. Но она и не станет его уговаривать, не станет его тормошить и весело тащить за собой: этого, он знает, от Лиды он не дождется. И она, все так же обиженная, поворачивается и молча уходит. А он остается, и ненавидит себя...
В коридоре он увидел знакомую девушку – Наташу. Славная девчушка. Год они вместе занимались в драмкружке в Доме офицеров. Спектакля так ни одного и не поставили, все руководители у них менялись, но на занятия ходили. Наташа – с золотистыми локонами, с огромными глазами – сама непосредственность, и говорить с ней легко о чем угодно. Она обрадовалась ему, как умела радоваться каждому знакомому, они отошли в конец коридора, сели на стулья и стали болтать.
Минут через десять-пятнадцать в коридор вышла Лида. Он увидел: Лида поискала глазами, увидела его с Наташей – резко отвернулась и ушла в зал.
– Извини, Наташа.
– Иди-иди.
Лиду он нашел в уголке зала. Она стояла лицом к стене. Глаза ее были полны слез.
– Я хочу уйти, – сказала она.
– Идем.
От центра до их окраины они шли пешком. Разговор не получался, и всю дорогу молчали. А когда вошли в калитку и остановились в темноте, прислонившись к забору, и он только лишь сделал попытку привлечь Лиду к себе, она обвила его шею руками (впервые так за все время) и заплакала...
На следующий день, 30 апреля, встретились опять. Бродили по прилежащим улочкам. Договорились, что завтра, 1 Мая, после демонстрации, в 11.00 Лида подойдет к части, и они встретятся и решат, как лучше провести праздник. Кажется, и Лиде тоже хотелось, чтоб они наконец-то подольше побыли вместе вдвоем.
Запись из той же тетради, тех лет (где писалась вчерне и поэма о целине), только несколько отредактированная. Думал он тогда или не думал, что когда-то она может пригодиться... для такого вот повествования о Лиде? Нет, конечно. Да и не до того тогда было ему.
В те дни, 4-го или 5-го мая, когда была сделана эта запись, – там, уже далеко от нее, над обрывистым берегом Буга, – эта запись была ему как единственная возможность хоть как-то выплеснуть, что терзало и душило его.
...Он ждал тебя в 11.00, так вы договорились. Ты сама назначила это время. Ты сказала, что никуда не пойдешь с подругами, нигде не задержишься, а сразу с демонстрации придешь к части и вы решите, как провести эти два дня – 1 и 2 мая. Он предлагал даже вместе уехать в Севастополь к его родственникам – увольнительная у него была на двое суток, и ты тоже не исключала этот вариант, хотя, похоже, имела в запасе какой-то свой. Но это и неважно было – где, главное – вместе эти два дня, а второго вечером он уже уезжал в лагеря. В 11.00 ты обязательно должна была прийти, потому что знала, что он ждет тебя, потому что вы так договорились, – и он ждал тебя к этому часу.
11.00, но тебя пока нет. Он медленно идет от части вниз по улице, то и дело оглядывается назад, не вышла ли ты из переулка к КПП. Оглядывается, но тебя нет. Он не сердится и не обижается на тебя: значит, тебя что-то задержало, и он готов простить тебе любую задержку. Только приходи. А пока он медленно будет ходить по этой неровной каменистой улице, которую – за эту невозможную ее ухабистость – они давно уже прозвали «улицей рок-н-ролл». Сейчас и на этой неровной улице полно гуляющих, и солдат – с девушками и без девушек, и просто городских, возвращающихся с демонстрации, и у всех на лицах свое приподнятое праздничное настроение.
12.00 – тебя все нет. Это уже значительная задержка, на тебя это непохоже, и ему, наверное, надо бы пойти сейчас к тебе домой, но он не может сделать этого – не хочет испортить праздник новой вспышкой раздора с Полиной Герасимовной. К тому же ты в любую минуту можешь выйти откуда-либо из переулка, и потому он не должен никуда уходить.
Ему уже неловко все время ходить одному взад-вперед мимо КПП, он присоединяет к себе Егора, того самого любителя пения, ты его знаешь, и они ходят теперь вдвоем вдоль белого каменного забора части, разговаривают о своем, а он все время ждет – высматривает тебя».
...И вот уже 13.00...
...И 14.00...
В 14.30 они были внизу, метрах в пятистах от части. Он обернулся назад и увидел тебя. Вернее – вас. Ты шла под руку с солдатом, и он сразу же догадался, что это – Женя.
Ревность? Нет-нет, это было уже потом. А сейчас – вскипело одно только недоумение, даже злость.
Вы подошли. Ты держала себя вполне спокойно. Ты оставила Женю, вы отошли в сторону.
– Ты извини меня, Максим, – сказала ты, – но так надо. Женя приехал на праздник, и я не могу не быть с ним. Это очень важно для меня.
Ну что ему было сказать тебе? И что сделать?
– Что ж, – сказал он, стараясь казаться спокойным, – раз важно, я тебя не задерживаю. Иди.
Женя стоял, ждал тебя. Такой спокойный, приятный парень. Ты подошла, взяла его под руку, и вы свернули в боковую улицу.
А они с Егором пошли дальше. Куда?.. Егор ничего не понимал, он захлебывался от невысказанного негодования. Но он, Максим, ничего не говорил о тебе, и Егор тоже молчал.
Откуда-то подвернулось такси. Не зная, зачем это делает, он остановил машину, кивнул Егору – садись, сел сам и указал шоферу куда ехать – за вами следом. Если уж так, то ему догнать бы вас на машине, остановиться чуть впереди, подождать, когда вы подойдете, и сказать, что он там намерен был сказать тебе. А он – сиволапость! – он остановил машину, не догнав вас, бросил шоферу деньги, выскочил из машины и побежал следом за вами. Потом он окликнул тебя, вы обернулись, и ты пошла ему навстречу.
– ...Я не связываю тебя, – выдохнул он. – Поступай, как тебе надо...
И опять: верил ли он тогда сам в то, что говорил? Не знает он, до сих пор не знает. Наверное, ему просто нечего было другого сказать – вот он и предоставлял тебе свободу. Но зачем ему надо было вообще догонять вас, говорить тебе этот вздор: разве ты уже не поступила так, как тебе надо? Или... Или, может, подсознательно он играл сейчас в кого-то слишком хорошего, доброго, всепонимающего – и, подсознательно же, хотел в конце концов выиграть этим в твоих глазах? Черт его знает, не поймешь. Но факт оставался фактом: в эту минуту он тебя уступал, отдавал...
А вот что ему ответила на это ты, он не помнит, не слышал. Скорее всего, ты ничего и не ответила. Или сказала что-нибудь незапоминающееся – «хорошо» – и пошла опять к Жене. А он вернулся к ожидавшему его Егору. И они пошли в часть.
Нет, и теперь тоже: никакой такой глубокой там ревности. Просто он был убит, он был в шоке от трезвого понимания реальности, что он только что потерял тебя и потерял навсегда.
В части он не находил себе места. Ушел с ребятами в город, набрали водки, уехали к знакомым девчатам этих ребят. Там были три сестры, они жили в частном доме на окраине города, у них была добрая, приветливая мать.
Они просидели за столом весь вечер, остались на ночь. Он был пьян, целовал подругу своего товарища, вспоминал, что ты сейчас где-то с Женей, – и теперь вот, сжигаемый вспыхнувшей ревностью и бессилием что-либо изменить, опять пил. В часть он вернулся утром, больной и разбитый. Не надо было идти, но – не удержался, не хватило характера, пошел к вам. Полина Герасимовна тоже, видно, всю ночь не спала, ярость в твой адрес так и кипела в ней. Но Максима, к его неожиданности, она встретила вполне дружелюбно. Сказала, что – да, нет тебя, что ты и не ночевала дома, что не приходила домой со вчерашнего утра. А ему – с явной откровенной издевкой: «Что, проморгал? Теперь вот кусай локти...»
Полдня он проспал. А вечером поезд увозил его все дальше и дальше от тебя.
Все дальше и дальше...
* * * *
Из давнего-давнего незабытого.
Из давнего-давнего. Из детских снов:
...Когда ему как будто бы из сфер, откуда-то из выси поднебесных лазоревых божественных глубин з в у ч и т о п я т ь то волшебством свирели – бузиновой поделки пастуха, то Песней Матери у сладкой колыбели;
и он вот тут, на этой вот земле, во сне на печке долгой зимней ночью, иль в летний день, улегшись на траве (в густой траве, один, никем не видим), забывшись в грезах или в полусне, – той песне, волшебству тому внимает,
то чудится ему, что это – Ты: то – полная любви Родная Мать с усталыми печальными глазами (какой ее – живую – помнит он), а то еще неведомая Кто-то, но тоже как Сестра или как Мать.
Ты чудишься ему, и он уж ждет, что ты сейчас присядешь к изголовью, погладишь ему голову, лицо, какие-то слова, что ждет он, скажешь, – и песню о любви, любви к нему, споешь ему, как Мать когда-то пела.
И то ли этим грезам верит он, иль ты к нему действительно приходишь, садишься, гладишь и ему поешь, о всех других на свете забывая, – не знает он; но так ему бывает безмерно сладко в этот чудный миг!








