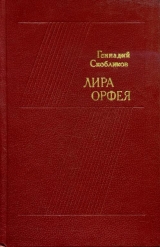
Текст книги "Лира Орфея"
Автор книги: Геннадий Скобликов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
* * * *
...Йог Рамачарака рекомендует расслабить все мышцы, освободить мозг от напряжения – и сон придет.
Я лежу на спине, пытаюсь расслабить все мускулы, пытаюсь ни о чем больше не думать, делаю глубокие вдохи. Но ничего у меня нынче из этих моих ухищрений не получается, и сон не приходит.
Попутчики ж мои уже спят. Вверху, напротив, огромной грушей под простыней лежит женщина – учительница из Сибири, назвавшаяся, кажется, Надеждой Александровной (после знакомства мгновенно забываю имена). А надо мной всхрапывает этот самый подвыпивший и обозленный орловский мужик – Илья. Поцапались они тут из-за ничего, Илья этот высказал и ей, и мне – что́ он думает и о нас с нею и вообще обо всех «сытых» и «довольных» (в их категорию, в его глазах, попали и мы с учительницей), и теперь вот спит, бормочет изредка что-то во сне. Да и учительница тоже спит: успокоилась помаленьку и уснула. Только мне никак не уснуть...
А поезд бежит и бежит, колеса стучат и стучат, и стук их сливается в известную однотонную мелодию. В былые годы под нее – как хорошо бывало уплыть, унестись мыслями далеко-далеко, в страну своих фантазий и грез, и с тем и уснуть незаметно; или, если уж не спится почему, достать блокнот и в полумраке лежать сочинять стихи. А нынче – ни тех неумелых стихов, ни былых голубых далей фантазии. Только вот эта тяжесть опять в голове, да какой-то всему тупик, из какого я просто не знаю выхода...
...Да и почему, собственно, он м н е́ высказывает свои наболевшие претензии? Я что – из другого теста, чем он? Или не знаю я без него, что он мне тут толкует?! Или я в ответе за все?!..
От него несло перегаром, и когда, в разговоре, он наклонялся ко мне, мне каждый раз так и хотелось оттолкнуть его, подальше его от себя, чтоб не дышал он мне в лицо прокисшей своей сивухой.
Но ведь я так и не оттолкнул его, не оттолкнул. И сам не отодвинулся от него. И мало того, мне почему-то всегда в таких ситуациях так, будто «он», вот такой вот, вправе быть, каким есть; что – да, есть у него какое-то свое право дышать на меня вонючим сивушным перегаром и говорить мне, «грамотному», все, что он считает нужным сказать, – что вот и этот теперь только что тут говорил. Так же, как и то, что лично я почему-то всегда будто д о л ж е н терпеть «его», каким бы он теперь ни был, и сидеть и слушать его, слушать, и потом вот еще пережевывать все сказанное им сто раз в мозгу. И не отбросить от себя всей этой любезной реальности, не освободиться от нее; и не уснуть.
Он был высокий, сутулый, в поношенном белом картузе, в сером двубортном пиджаке, синей рубахе, в солдатских галифе и кирзовых сапогах. Я еще при посадке заметил его высокую фигуру у нашего вагона, он стоял с мешком и кошелкой наперевес и, выпивший, с демонстративной откровенной озлобленностью смотрел на всех рядом с собой, в большинстве тоже нагруженных тяжелыми сумками и авоськами – как и всегда из Москвы. Тогда я подумал, что эта его озлобленность – своего рода защита, и отчасти так оно, наверно, и было. А потом мы оказались в одном купе, и вот тут он, уже в дороге, и наговорил много злого и несправедливого этой вот нашей попутчице, учительнице из Сибири, – только за то, что она едет на юг, отдыхать.
– А ты думаешь, я об ней об одной, што ли? – зло говорил он потом уже мне. – Вообще про всех, дармоедов... Порассядутся и едут в свое удовольствие, югами-кавказами этими там любуются. И никаких других забот у них нет...
– И ты тоже ж такой же, – продолжал он, глядя на меня в упор покрасневшими, навыкат глазами. – Думаешь, я не вижу, не чую? Повыучились, грамотные все!..
Что было мне возражать ему? в чем переубеждать? и что доказывать? Да и что он – один или первый, что ли, такой – и со своими неизменными заботами, и с этим вот сивушным перегаром, и с полупьяной озлобленностью и на себя, и на всех, и на все?..
Да только вот – что же ему она, попутчица наша, сделала, что он ее югом этим упрекнул. Что она – своей работой в школе (пойдите поработайте!) отдыха этого себе не заслужила? Откуда ж у нас моментами такая вот злость друг на друга, что мы готовы – минутами – поедом друг друга есть? И всюду: и в троллейбусе, и в очереди за какой-нибудь несчастной селедкой, и даже вот тут, в вагоне, где мы ни у кого не вырываем из рук куска и ни в чем не опережаем друг друга... И это – мы, мы ...веками умеющие даже врагам нашим, как никто, наверно, прощать. Так что же сами с собой мы иногда делаем, сами с собой?..
Вот это все я в ответ и высказал ему. И тогда уже встал, чтоб уйти от него и постоять в тамбуре. И освободиться, и отдохнуть. Но он меня не пустил, удержал.
– Ладно, все правильно, ты правду говоришь, это верно – поедом другой раз друг друга едим, сами не знаем за что. Это верно... Но вот, скажи: одним, значить, хоть раз, хоть месяц в году – а юги вот эти, крымы да кавказы подавай, – а другим-то вот как же? У нас вон бабы, с утра и до ночи на свекле. И каждый же год вот так, усю жизнь. Вот оно оттудова-то все и берется...
Нет, не уснуть мне нынче, не уснуть...
И я сбрасываю с лица одеяло. И на фоне тусклого желтого вагонного ночника – черная, с растопыренными полусогнутыми пальцами свесившаяся с верхней полки рука этого самого Ильи. А сам он – высокий сутулый орловский мужик лежит надо мной, и я словно ощущаю собой всю его тяжесть. И еще – будто душит меня изнутри еще многое и многое другое, что я тоже знаю, как и он, и пока еще не высказанное им. И то ли с тяжестью вот этой, то ли с другим каким тревожным чувством думается мне: а ведь немало еще, немало их вот таких, как он, – лежат сейчас на таких вот полках или ворочаются в полупьяном сне по своим домам. Немало еще их – каждый день и каждую ночь, озлобленных бог знает на кого и на что, пьяных мужиков твоих, Мать Россия? И все – все винят ведь в чем-то кого-то других, и все доказывают друг другу какую-то одну-единственную на всех, и, кажется, такую очевидную всем правду-матку!.. Господи, когда же научатся люди не искать другого виновного, а просто сами по-человечески жить!..
Участились стуки колес, замелькали по потолку и стенам отсветы огней – мы проезжаем какую-то станцию. С пронзительным воем сирены пронесся мимо встречный...
Чего же хотелось бы мне сейчас? Мне, взрослому человеку, откровенно уставшему от постоянных таких вот психологических перегрузок, от невозможности разрешить часто тот или иной конфликт? Что хотелось бы мне, и что сделать?
Неужели б вот это, мелькнувшее: сесть бы сейчас – пересесть – в тот (встречный поезд... и забыть постепенно обо всем, что было п о с л е, забыть об этих вот людях, что лежат рядом, о себе – сегодняшнем, о своей усталости, а выйти там в тамбур, как в тот первый раз, и, прильнув к стеклу, наблюдать, как мчатся назад и сливаются с ночью наши русские поля и перелески, и ощущать, как с каждым мигом сокращается между нами расстояние, – и с выношенной с детства любовью к не виданному никогда мной городу ждать встречи с ним, ждать первой встречи с Москвой.
Как я было это «в тот первый раз, сколько-то лет назад. А если точно, осенью пятьдесят второго. Всю ночь простоял я в тамбуре, смотрел в окно, ждал утра и сочинял стихи: «Скоро, скоро – нынче утром рано сбудется заветная мечта: в торжестве Октябрьского парада встанет предо мной моя Москва».
Бедные, ни в чем не повинные сами, эти мои стихи! В них было столько искреннего чувства и столько желания, чтоб все написанное в них и было правдой. Потому что, если фактически, то никакого октябрьского парада ни в тот, ни в ближайшие дни не ожидалось, и ехал я, по случаю того, что девятые классы нашей школы отправили на картошку, а меня, гриппозного, освободили, где-то в середине сентября и всего на неделю. Но об этом – о будничном – что же мне было писать! Вот и хотелось мне – поторжественней, покрасивее... Да ведь и приближался, приближался парад!..
Москва встретила меня дождем, сутолокой вокзала, вереницей машин на привокзальной площади. Проворный таксист высмотрел меня в толпе, без разговора забрал и затолкал в багажник мои две кошелки, связанные рушником, подыскал еще троих пассажиров, и мы поехали. За две-три минуты пути с Курского на Казанский он объяснил мне, как ехать в Люберцы, получил потребованную им тридцатку и высадил, не довезя до вокзала...
А в середине дня я уже ехал на Красную площадь. В длинном до пят плаще созерцал я себя отраженным в окнах метро, и грудь моя вздымалась от избытка счастья, что и я наконец в этом мире, где все так вот чудесно и так благоустроено и где и люди, конечно же, должны быть особенными – само воплощение самой высшей человеческой чистоты и дружелюбия. Да и как не могли они быть такими, если сам я был счастлив от одного лишь прикосновения к ним!
Подогретый такими мыслями, я (помню это хорошо) обернулся к девочке-школьнице, она стояла рядом со мной и ее красивую головку с мальчишеской прической я уже долго тайком рассматривал в окне; с чувствам безграничного дружелюбия посмотрел я ей в глаза и во всю ширину скул своих улыбнулся ей – я просто не мог сдержать этой своей улыбки. Но у меня, видимо, не получилось: она презрительно окинула меня с ног до головы и отвернулась. И до площади Революции я уже ни на кого не поднимал глаз.
Узкой улочкой мимо здания ГУМа вышел я на Красную площадь. Тут все знакомо по открыткам и кино: Мавзолей, собор Василия Блаженного, Спасская башня, красная зубчатая стена Кремля...
Моросил дождь – мне он не мешал. Я шагал по отшлифованной брусчатке площади, смотрел на Кремль... и если о чем и думал тогда, то это было одно: там, вот за этими зубчатыми стенами... совсем рядом со мной, в кителе и с трубкой в зубах сейчас сидит и работает ОН. И я чувствовал себя бесконечно счастливым и гордым от такой нашей с ним близости, мысленно произносил его святое имя и словами поэта благодарил его за то, что он живет на земле.
Рослый милиционер остановил меня, сказал, что подходить к Спасской башне не разрешается, и отправил назад. И я понимал, что так оно и должно быть, и был удовлетворен и горд, и доволен, что его так вот хорошо охраняют, что у нас такая бдительность и никакие происки врагов нам не страшны.
На углу у Исторического музея чернобородый старик с носом и горбом бабы-яги продавал стеклянных чертиков. Когда в них дули, изо рта тонкой струйкой била вода. Тут же торговали пирожками, водой, мороженым. Запах горячих пирожков щекотал ноздри, но я не мог позволить себе есть их тут, вблизи Кремля, вблизи от НЕГО. И с непониманием смотрел на всех, кто покупал и тут же ел эти самые пирожки: н е у ж е л и о н и н е ч у в с т в у ю т и н е п о н и м а ю т?!..
В Мавзолее мне побывать не удалось – для оформления пропуска (тогда в Мавзолей впускали по пропускам) не было документов. Почти все дни шел дождь. Часами вымерял я московские улицы, пока случайно не выходил к Большому театру, Третьяковке или Зоосаду – с вопросами к москвичам я обращался лишь в крайнем случае.
Ночевал я у брата в общежитии, в большой угловой комнате с двумя окнами. Одно выходило на проспект, на здание кинотеатра «Победа». Вечерами он светился огнями реклам, и я любил наблюдать их разноцветное сияние. Другое окно выходило на пятиэтажное здание женского общежития. Недавние фэзэушиики называли его «Серый дом» и со смаком еще им понятной аббревиатурой, приводить и расшифровывать которую тут, естественно, невозможно.
Из «Серого дома» к нам приходили девчата – штукатуры. Особенно запомнилась пышная Юлька, по прозвищу Безотказная. О чем они все говорили? Кажется, каждый раз об одном и том же: о стройке, о бригадах, материли (оглядываясь на меня) прорабов и мастеров, судачили, как прожить месяц на сто рублей, сообщали о чьих-то абортах и беззлобно ругали ребят. Те клянчили у них на бутылку, выпивали, и все вместе потом уходили. А я оставался один, иногда на всю ночь, отбрасывал все эти не стоящие внимания впечатления, смотрел в окно на огни реклам и машин и сочинял стихи о праздничной и солнечной Москве...
Нет, как ни жаль, дорогой, говорю я себе, но в тот поезд тебе уже не вернуться...
15
И. ШАМО. УТРЕННЯЯ МУЗЫКА. Вокальный ансамбль Киевского камерного хора. Начиная работать, он часто ставит эту пластинку.
Никакая другая музыка не настраивает его так на «вашу тему», как эта, будто тут – и твой голос, и твои давние чувства, и твои мысли, и твое настроение; и вот сама ты, какой знает тебя только он, без слов и поешь-рассказываешь ему теперь о себе, поешь-рассказываешь ему сама о себе...
И он, включив и слушая эту запись, начинает просматривать и перечитывать написанное, или наброски к тому, о чем нынче будет писать, и постепенно, ничуть не забывая о реальности, все-таки забывается и на какое-то время будто утрачивает и чувство расстояния, и чувство времени и опять возвращается к той давней боли, что вот уже полжизни и не отпускает его...
* * * *
6.07.60.
«Здравствуй, Максим!
Получив твое письмо, я была сильно удивлена, так как думала, что ты вообще забыл о моем существовании. Я рада, что ты помнишь обо мне...
Так что, заготовщик сена, пишете, что скучно? Да, я верю, что может быть скучно любому, но тебе... Ведь ты очень любишь свою деревню, лес, где (ты рассказывал) часто раньше проводил долгие часы. Сейчас у тебя все это есть: деревня, лес и хорошая здоровая работа. Остается ли время для скуки? По-моему, ты не умеешь скучать. К тому же ты еще и рыболов, а рыболовы – народ веселый.
Мне сейчас тоже немного скучно, потому что приходится иметь дело с учебниками. До обеда хожу на консультации, а после обеда готовлюсь к экзаменам. Мы с Верой поступаем в технологический техникум. Все это время занимались и вот теперь будем сдавать экзамены. Если бы ты знал, как я боюсь?! Помнишь, я когда-то тебе говорила: «Ну чего ты боишься? Вот если когда-нибудь буду я поступать, я не буду бояться». Теперь я беру эти слова назад, потому что действительно страшновато.
Выполняю твою просьбу. Если у тебя запланирована поездка в Крым, планируй ее, как удобно будет тебе. Отпуск свой я уже взяла с 1-го июля (ведь я сдаю экзамены и нужно готовиться). Но если, путешествуя по Крыму, ты удостоишь своим посещением мою резиденцию, – будьте так любезны, вам будут очень рады. Я шучу, конечно, но если ты и впрямь будешь в Крыму – заходи, я думаю, у нас будет о чем поговорить, тем более, что ты пишешь о необходимости в этом, а у меня найдется время и так, не обязательно для этого нужен отпуск. Мы с Верой тоже хотели провести свой отпуск на Южном Берегу (нам говорили, что экзамены будем сдавать в августе), а вот теперь приходится использовать его для подготовки, неудачно получилось. Ну, ничего, когда сдадим, можно будет и отдохнуть, ведь отпуск за свой счет положен по закону.
Ваша часть, по-моему, здесь, потому что, когда я работала, мне часто передавали привет от тебя, правда, я не знаю, просил ли ты кого-нибудь об этом. Если нет, должна заметить, что твои друзья весьма великодушны ко мне. Нас с Верой даже на вечер приглашал какой-то солдат и сказал: «Как пройти к нам, я объяснять не буду, ваша подруга знает, она была у нас на вечерах». Странно, меня знают все, а я, кроме тех, кого показывал ты, не помню ни одного, вероятно, плохая зрительная память.
Ну, о себе писать почти нечего, все по-старому. Недавно смотрели балет И. Штрауса «Большой вальс». Великолепно. А музыка! Слушала оперу Ж. Бизе «Кармен». Была так расстроена, что и не передашь словами. Такая опера чудесная и такие отвратительные артисты. Голоса ни к черту, а сама Кармен – морж какой-то, толстая, неповоротливая. Единственный хороший голос – у Микаэли. В общем, испортили все впечатление.
Сегодня смотрела картину «Вдали от Родины» по мотивам книги Дольд-Михайлика «И один в поле воин». Мне понравилось, другие говорят, что очень мало показали, потому плохая. У всех разные вкусы.
Ну вот пока и все. Да, Максим, помнишь мою племянницу Валю, мы были у нее в Севастополе? Она уже вышла замуж. Я часто бываю у нее, вижу в Севастополе и твою тетю. Она жаловалась, что ты им совсем не пишешь. Напрасно обижаешь их. Наверное, загордился? Ведь ты теперь студент 2-го курса, а это не шутка.
До свиданья, Максим. Пиши. Лида».
Было яркое крымское утро, и когда ты вышла из белой глинобитной времянки, солнце ослепило тебя, и ты заслонилась рукой.
Пятью минутами раньше ты еще спала, а он стоял на улице перед вашим домом и не решался постучать в твое окно: так был он взволнован, что вот опять оказался тут, у вашего дома, у твоего окна. Чтоб не маячить перед окнами, он отошел к забору (помнишь его – черный от времени, высокий деревянный забор между вашим и соседним домами и в нем – скрипучая калитка во двор? вечерами вы часто стояли, прислонившись к нему...), закурил, чтоб переждать волнение, но и сигарета мало помогала, тогда он решительно подошел к окну и постучал. Он постучал раз и еще раз и стал ждать, кто же выглянет – ты или Полина Герасимовна? Но на стук никто не показывался, и он уже подумал, что вас нет. Тут из калитки вышла соседка и сказала, что у вас ремонт и вы переселились во времянку.
Под взглядом соседки он направился к времянке и постучал в дверь. Ты, видно, увидела его, потому что тут же отозвалась: «Подожди, Максим, я сейчас». Он отошел подальше от времянки.
И вот ты вышла из полумрака времянки, тебя ослепило солнце – и ты закрылась рукой. На тебе было легкое голубенькое платье, и вообще вся ты была такая летняя, домашняя. Ты только встала и не успела заплести косы, лишь расчесала волосы, и они – длинные и пушистые – сыпучим золотом спадали по спине. На оголенных руках был легкий, совсем не ваш крымский загар. Ты вышла босиком, и это ему тоже как-то особенно было хорошо.
Чуть склонив набок голову и защищаясь ладошкой от солнца, все еще заспанная, ты со смешным прищуром смотрела на него, и в губах твоих держалась улыбка: то ли ты немного смущалась, что он видит тебя такую вот заспанную, то ли ты с этой своей улыбкой разглядывала – а каким же он стал в Москве за прошедший год? А он стоял на месте, смотрел на тебя и тоже так же неопределенно улыбался...
Э, да что там говорить! Ему б, по тогдашнему глубинному его желанию, не обращая внимания на открытые двери ваших соседей, схватить бы тебя в охапку и закружить, кружить и кружить... Но ты ведь еще как-то давно обмолвилась: «Какой-то ты не такой, как другие парни...», и он, без всякого намеренного желания не походить на тех каких-то других, еще больше сдерживал себя с тобой. И теперь было то же самое, он сам подавлял в себе свои желания, или быть точнее, даже не давал им заявить о себе: он все еще не считал свои собственные желания позволительными для себя. И он стоял и курил...
– Подожди, Максим, я умоюсь, – сказала ты, кивнула, что это, мол, быстро, и ушла в вашу времянку. Вы даже не сказали друг другу – «здравствуй».
Ты там умывалась, а он закурил и еще одну сигарету и медленно расхаживал по вашему тесному дворику. Волнения, как минуты назад на улице, он уже не испытывал. Почти не удивлялся он и тому, что он опять тут, в вашем дворике и снова видит тебя. Ведь за этим он и ехал сюда.
– Проходи, Максим, – позвала ты.
Внутри времянки было не так затемненно и прохладно, как казалось это со двора, где ярко палило солнце. Но все равно, тут было прохладнее и, несмотря на тесноту, уютно. Так же уютно, как бывало всегда и в твоей комнатке, где он часто подолгу ждал тебя с репетиций.
– Видишь, как у нас тут, – улыбнулась ты. – А там мама с ремонтом замучилась.
– Очень хорошо тут у вас.
– Да уж!.. Проходи. И, пожалуйста, не смотри на меня, я заплету косы.
Будто он мог не смотреть на тебя! Но он повиновался, как повинуется примерный совестливый школьник любимой учительнице, и старался честно не смотреть, как расчесываешь ты гребнем свое сыпучее золото, как заплетаешь толстые косы. Да, конечно же, слишком долго оставался он примерным, исполнительным школяром, слишком долго...
А потом...
Что ж потом. Тоже, как он это всегда и знал, – ничего нового. Все как и было. Как оно и должно было быть.
Тут же стоял твой письменный столик. И на нем – под стеклом – он увидел несколько фотографий Жени. Одного только Жени...
И все...
...И все как-то сразу опустилось в нем и померкло. И нечего было ему сказать тебе на этот счет. И он ничего и не сказал. Потому-то такими неопределенными, такими никуда не ведущими и были все ваши последующие разговоры.
Через день ваш цех уезжал на уборочную в Красноперекопский район, ты тоже обязана была ехать. В другом случае ему бы – вместе с вами, отработал бы за тебя – и могли бы вы спокойно ехать вместе в тот же Севастополь, покупаться вместе в Учкуевке или на Омеге. Так ведь просто! Но ни ты не предложила ему такого варианта, ни он не осмелился на него. И поехали – ты на север, в совхоз, он на юго-запад, в Севастополь. И только туда, на адрес его тетки, прислала ты из Орловского наивное, немало посмешившее его письмо – будто бы от его товарища. И этот «товарищ» – «Александр» – приглашал его приехать к ним в совхоз и сообщал: «Я сказал девчонкам, что ты, вероятно, приедешь ко мне, они даже обрадовались... Ночевать будешь с нашим старшим» (!). Вот ведь каким конспиратором был этот «Александр»!..
Ты-таки уехала из совхоза пораньше, дала ему об этом знать, и он из Севастополя приехал к тебе. Остановился он в части, благо, казарма была почти пуста – часть выехала на полигонную практику. Но Дима и старшина по каким-то причинам оставались тут. Встретили его радостно, поселили в казарме. Лучшего и не надо было желать: ты в пяти минутах ходьбы от него, и он стал приходить к тебе каждый вечер, лишь бы только ты была свободна.
Так и прошли эти три дня.
Вы охотно встречались... и опять ты все больше замыкалась, уходила в себя. Ваша надоевшая неопределенность тяготила и тебя и его, и никто из вас не брал на себя инициативу или смелость сказать наконец-то последнее «да» или «нет».
...Так и уехал он тогда от тебя, ни тебе ничего не дав, ни для себя ничего не решив.
Единственное, что вызвали вы в себе, это очередное обострение постоянной вашей неопределенности. Да новую вспышку гнева Полины Герасимовны, о чем в скором времени ты и написала ему.
«11.08.60.
Здравствуй, Максим!
Как видишь, терпения моего оказалось недостаточно, чтобы ждать твоего возвращения в Москву, – пишу в деревню. Все эти дни были для меня настоящей пыткой, я не находила себе места. Мне мучительно стыдно перед тобой за все, что было. Максим, родной, прости меня, я так глупа... Как могла я причинить тебе столько неприятностей? Прости за все, особенно за последний вечер. Мне было так стыдно, что я готова была провалиться сквозь землю. А ты понял это как-то по-своему и ушел, не сказав ни слова. После твоего ухода я еще долго сидела, стараясь слезами заглушить боль. Мне было непосильно заходить в дом. В эту минуту я ненавидела все: и дом, и ее, и больше всего себя. Но когда я замерзла, решила все ж войти, о чем тут же пожалела. Град проклятий и самой грязной ругани, какую можно только слышать, услышала я, войдя в комнату. Не стесняясь Веры, она придумывала разные гадости. Я легла в постель, обняла Веру, и мы до самого утра проплакали с ней. В шесть утра ушли из дому. На работе, вспоминая все, ни я, ни Вера не могли сдерживать слез. В три часа мы отпросились с работы, не имея сил больше сдерживать себя. Для Веры все это было так неожиданно и жестоко, что она не находила слов. Когда я им рассказывала все, спрашивая, как поступить, они могли предполагать все, но не такую грязь, потому что мне было стыдно рассказывать обо всем... И после всего, ты думаешь, я буду стараться, чтоб найти общий язык с ней? Нет, никогда. Я согласна, вполне согласна, что мы с тобой злоупотребляли временем, но ведь мы столько не виделись, да и разве это должно давать повод для всей этой грязи? Разве нельзя было сказать все иначе? Никогда мы не найдем с ней общий язык, даже потому, что я никогда, пока буду жива, не забуду и не прощу ее. Мне стыдно признаваться, но это так и ничего не поделаешь. Для меня она не существует, я перестану замечать ее, не обмолвлюсь ни одним словом, забуду совершенно о ней. Это будет трудно, потому что мы живем под одной крышей, но я приложу все усилия, чтобы освободиться от этого дома, от всего, что с ним связано. Сейчас я еще не знаю, что смогу сделать, но уверена, что это будет, обязательно будет и не позже февраля. Теперь ты можешь представить мою радость и восторг, когда ты сказал мне о Москве. Сердце мое готово было выскочить, я от радости чуть не кричала, хотя выразить словами это не могла. Какая-то дикая скованность всегда в такие минуты мешает мне. Она сковывает меня до такой степени, что я совершенно теряюсь и не нахожу слов... А иногда, сама того не желая, я становлюсь отчужденной, дерзкой, грубой, хотя в душе совсем наоборот. Как это мешает мне в жизни, а вот изменить ничего не могу... Может, если бы я попала в какую другую среду, мне было бы легче? Не знаю. Но я хотела бы, конечно, стать такой же, как все. Ты прости, что я пишу тебе все это. Но, Максим... Скажи, зачем ты приезжал? Перевернул в душе все вверх дном и уехал, оставив все разбросанным. Я так мучительно долго отвыкала от тебя. Не переставая любить, я продолжала ненавидеть тебя, сама не знаю за что. Нет, вру, знаю за что: что ты так далеко от меня, что молчишь, не пишешь. Если бы ты сказал мне, что любишь меня и смог доказать свою любовь, я была бы самая счастливая из всех девушек. Но увы, такого не случилось... Понимаешь, Максим, я совершенно увязла в своих доводах и размышлениях. С одной стороны, судя по твоим действиям, тобой руководила любовь ко мне. С другой... Если ты любишь, почему так легко соглашаешься на разрыв? Расценивать это как поступок благородства я не хочу только потому, что никогда не сказала тебе «нет». Может, я настолько глупа и не могу разобраться в этом? Черт его знает. Ты вот часто говорил мне, что я менее свободна с тобой, чем с другими, точно у меня какая-то тайна от тебя. Тайна? Да, у меня есть тайна – грусть о том, что уж слишком надолго расстаемся с тобой. Ты уезжаешь, а я не могу видеть, как ты уходишь от меня, не в состоянии больше переносить оскорбления, которые без конца наносят моей любви, не могу убить ее в себе, но и не могу не понимать, что я дошла до последнего предела унижения, разочарования во всех своих глупых надеждах и мечтах. Когда ты мне говорил о Москве, я осмеливалась думать, что я для тебя стала, как воздух: жить без него нельзя, а его не замечаешь. Разве неправда? На скамейке, недалеко от «Лестницы любви», я тебе сказала об этом, хотя совершенно другими словами. Ты мне ответил: «Раз мы будем вместе, ты уже не будешь одна. Я познакомлю тебя с нашими девчонками из группы». Твой ответ навел меня на мысль, что это и есть самая большая любовь, но потом вдруг показалось, что это значит, что тебе одной меня очень мало. У тебя свои друзья, свой круг знакомых, и большее время тебе надо будет быть с ними, а я, как же я? Думая обо всем этом, я ужасно боялась неизвестности. И так все время: то одно, то другое и ничего определенного, хотя люди всегда, постоянно ждут чего-нибудь счастливого, интересного, мечтают о какой-нибудь радости, о каком-нибудь событии.
Извини, Максим, что отвлекаю тебя. Если я не умею говорить, то хоть напишу, и то легче будет. Прошу прощения за такой ужасный почерк, но я очень волнуюсь и мне трудно писать.
До свиданья, Максим!
Пиши, я очень жду.
Лида».
...Забрать бы ее в Москву, снять где-нибудь крохотную комнатенку подешевле и начать жить. Она могла бы пока работать – устроиться в Москве не проблема, – после учиться; он бы тоже вечерами подрабатывал.
Н о к т о в п у с т и т е е в М о с к в у, к т о? Какая инстанция и за какие коврижки пропишет ее в этой столице хотя бы временно, хотя бы на год? Куда стучаться ему, к кому идти? К ректору академику Петровскому? К председателю Моссовета? И рассказать им, что у тебя есть где-то девушка и ей надо переехать в Москву? Но это вариант для соответствующего романа или кино, там-то все можно. А как-то еще, по-другому, придумать бы еще что-нибудь? Нет, на это бездарный он, не умеет он ничего делать окольными путями, не умеет, не приспособлен. Другие умеют и могут, он знает, очень многое умеют и могут, и те же прописки устраивают в той же Москве. А он вот не умеет, не может; и никогда и нигде не умел...
...И еще этот Женя, еще этот Женя!.. И зря она обманывает себя, зря. Он же это хорошо и чувствует и понимает...
* * * *
...Держал в руках мелко исписанные фиолетовыми чернилами листки в клетку из школьной тетради и не зная, что думать обо всем этом: и радость, и боль, и недоумение, и злость, и обида – все сразу ожило в нем, и он, прочитав письмо, давал теперь себе время, чтоб отойти от первого потрясения, успокоиться и прочитать его еще и еще.
За окном их большой комнаты на Стромынке (они жили еще на Стромынке) густо и тихо падал снег. Ху, Джо и Ли (Ли не был жильцом их комнаты) сидели за общим круглым столом и с китайской своей основательностью добросовестно долбили латынь. Вадим, как и всегда вечером, лежа на кровати читал французский словарь, и быстрые гримасы на его скорбном лице безнадежного скептика, особенно тонкие твердые губы, выдавали, как печется он о произношении. Худой темнолицый непалец Бахадур Протап, будущий специалист по русской литературе, читал Льва Толстого в английском переводе. Ярко светила лампочка в сто пятьдесят свечей, и падающие за стеклами окон белые снежные хлопья смешивались там с собственными черными тенями.
А на его тумбочке в тисненом белом паспарту стояла ее карточка: беззащитная девочка, приоткрывшая в легкой полуулыбке красивые ровные зубы...
«4.12.60.
Здравствуй, Максим!
Сегодня, наконец, получила от тебя письмо. Не стану скрывать, я его давно ждала, и вот не ошиблась. Я, конечно, не могу написать такое обстоятельное письмо, но все же постараюсь как можно лучше и понятней изложить то, что много лет старательно скрывала не только от тебя, Жени, всех людей, но и от себя. Мне хотелось забыть о той позорной, страшной тайне своей, которая, вероятно, будет угнетать меня всю жизнь. Когда я познакомилась с тобой, я даже не предполагала, что эта тайна и ложь моя перед тобой так отразятся на наших отношениях. Мне очень трудно писать об этом даже сейчас. Я вот пишу письмо, а сама не знаю, хватит ли у меня воли, чтоб послать его. Судя по твоему письму (хотя очень многое в нем непонятно), все, что связано у тебя со мной, представляется тебе прошлым, вспоминать о котором тяжело. Читая твое письмо, я с болью воспринимала все, что в нем написано. Ты хочешь, чтоб оно было последним, только поэтому я решилась написать тебе всю правду о своей жизни. Я понимаю, вполне понимаю низость своего положения, свою вину перед тобой, хотя ты и пишешь, что ни в чем не винишь меня. Позволь мне не верить этому, потому что во всем виновата я и никто больше, я не должна была скрывать от тебя ничего, и кто знает, может, сейчас все было бы иначе. Извини, если покажется скучным мое письмо, но веселого ничего не найдется в моей жизни, если только смешное и глупое. Начну, наверное, с самого начала. Только не взыщи, если займу у тебя много времени. Я постараюсь изложить все по возможности кратко.








