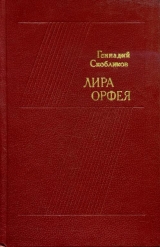
Текст книги "Лира Орфея"
Автор книги: Геннадий Скобликов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
10
Полина Герасимовна, по обыкновению, плела коврик. Лиды, сказала, еще нет, но должна скоро прийти, – «проходи». И он прошел через кухоньку в комнату, повесил шинель, шапку, расправил перед зеркалом гимнастерку, причесался. Может даже, и полюбовался собой, всем происходящим: молодой и здоровый, сержант последнего года службы, в этой уютной, всегда приятной ему комнатке Лиды... Чего, собственно, ему еще надо и чего ему еще хотеть? И ни есть ли это как раз все то, чего он всю жизнь, может, тайно и хотел и ждал?.. И не решиться ли ему, не осмелиться ли – взять и сказать обо всем этом Лиде? А уж там – пусть как получится, это ее уже будет дело – решать. По крайней мере, все станет и ясно и определенно, и он больше не будет мучиться и гадать – что с Лидой? и как ему с нею быть? и что ему вообще делать в жизни дальше? Все может решиться одним разговором, одним ее словом, а дальше... дальше они всегда уже будут вместе решать. И с этим, наверно, и кончится его давний глубинный голод, и его тайное одиночество, и его (при всей его и активности, и общительности, и веселости) – его какая-то отстраненность ото всех. Отстраненность и давний глубинный голод, которых ему ни разу еще не удавалось никогда утолить...
Разумеется, если только, конечно, он осмелится сказать это Лиде; если будет уверен, что он действительно может ей все это сказать...
Странным и непонятным виделось это ему и самому, но он все еще оставался каким-то внутренне скованным с Лидой, внутренне напряженным, неуверенным, робким. И то ли эта скованность и напряженность передавались ему от Лиды, то ли наоборот, исходили они от него? «С Женей мне было проще», – сказала ему как-то она.
Впрочем, он и сам знал за собой эту плохую черту своего характера – часто усложнять в жизни все; но и всегда не мог ничего с собой сделать. Потому что и сама усложненность исходила как естественное из его самых-самых глубин, и ему часто только и оставалось, что тайно мучиться этим. И было это с ним еще и в детстве, и в школе, и в училище, и на целине, и теперь в этом вот городе в армии: часто на тех же их вечеринках, танцах или вечерах, в своих молодежных компаниях он вдруг ощущал почти физически больную свою отторгнутость от всеобщего веселья и, молча страдая, что некому ни угадать и ни разделить с ним этого его состояния – и ни вывести его из этой его отторгнутости и одиночества, часто уже и сам сознательно еще более и более отторгался и уходил в себя. И может, отсюда где-то и начинались и его скованность, и его напряженность, и его неумение быть порою таким же, «как все».
Лиде, например, нравились его волосы – мягкие, русые, немного волнистые. В хорошие минуты она иногда перебирала их в своих пальцах и восхищалась – до чего ж они мягкие! А один раз взяла расческу и сделала ему прическу на свой вкус. «С твоими волосами, – сказала, – шикарный кок можно сделать». И прозвучало это, он услышал, у нее, как и некий упрек, что не умеет он (и дело не в армии) – не умеет быть модным. И он ничего и не стал возражать ей на этот ее явный упрек, потому что и сам знал, что это правда. Чтоб носить тот же кок, с какими ходили тогда все городские пижоны (и коих они, военные, естественно, презирали), и вообще быть раскованным, модным, ему надо было родиться и вырасти каким-то совсем иным.
Да что там какие-то моды, или тот же рокк, который и Лида (признавалась ему) в компаниях тоже танцует, и даже немного хвасталась, что он у нее здорово получается! Что там моды, если его скованность, усугубленная еще и армейским мундиром, доходила сейчас до того, что он, например, не решался пригласить ту же Лиду хотя бы в кафе: он просто боялся, что будет смущаться и ее, Лиды, и окружающих. Знает же он, что Лида любит чебуреки, что с получки они всей цеховой компанией идут в это самое кафе – «Крымские чебуреки» и Лида потом с восторгом и смехом рассказывает, как они уплетали их и как смеялись своему же обжорству, – знает, а пригласить ее туда – не решается. Да он и вообще пока не мыслил себе ситуацию, что вот они могут сидеть вдвоем с Лидой хотя бы в том же кафе, запросто есть и разговаривать. Все их нынешние отношения, все общение проходило на какой-то натянутой ноте, и вот это-то, казалось ему, больше всего и сковывало и его самого.
Но ведь тем не менее они продолжали встречаться, и Лида, было похоже, тоже не могла б уже долго без него. Хотя все еще и оставалась в чем-то и скрытной и замкнутой и постоянно как бы ограждала что-то в себе от него. И он, естественно, мучился этим, но все равно каждый раз с нетерпением и радостью шел к ней сюда. И ничего другого, равного тому, что происходило с ним теперь, у него никогда в жизни не бывало.
Это было похоже, пожалуй, на какую-то счастливую лихорадку.
Полина Герасимовна продолжала работать на кухне, а он до прихода Лиды оставался один в ее комнате. Он знал тут уже, кажется, все, каждую вещь, каждую вышивку на стене. Знал – и любил эти вещи, их порядок, создаваемый ими уют. И когда ему приходилось тут дожидаться Лиду, он никогда не тяготился временем. Лиды не было – но все равно она как бы присутствовала в этой комнате, в ее укладе я порядке, и он, сидя в тишине, с книгой, часто отрывался от страниц и еще и еще оглядывал комнату и как-то по-особому наслаждался и своим пребыванием в ней, и незримым присутствием Лиды. И он даже хотел бы, наверное, чтоб и Лида тоже знала о таких его чувствах; но, конечно же, разве говорится друг другу о подобных вещах!..
...Сидел у стола, перелистывал взятую с полки какую-то книгу, но, кажется, так и не задержался ни на единой строке...
А потом он увидел на столе письма, адресованные Лиде, на них стоял воинский штемпель. И зная, естественно, что делает недозволенное, недопустимое, он тем не менее взял один конверт, вынул письмо и стал читать. И чем ни больше читал, тем больше недоумевал и тем сильнее поднималось в нем что-то горячее и тесное, составленное из этого вот недоумения, злости и обиды за Лиду. Он-то думал, что письма от Жени... А это писал некто заочно знакомый, какой-то солдат. Писал небрежным почерком, неграмотно – и, главное, писал то самое пошлое казарменное послание, какие пишутся, бывает, и у них в роте, иногда даже коллективно, двумя-тремя доморощенными остряками. Пошлая игривость, пошлые намеки... И вдобавок к этому, по письму было видно, что Лида (господи, – Лида!) уже отвечала ему...
Нет, она явно не знала себя, не понимала – кто она есть. Иначе – зачем бы опускалась она до такого вот уровня, зачем бы ей такие вот письма – да еще и отвечать на них! Пошлость, низкопробная пошлость. И к кому, к кому?..
Лида, Лида!.. Да если б она только знала, как он иной раз ее чувствует... может, только он один так вот и чувствует ее. И ее чем-то сильную и глубокую ранимость, и ее одиночество, и ее – как и у него тоже – невысказанность свою. Ведь сколько раз, в их вечерние прогулки, бывали у него минуты или мгновения, когда он чувствовал ее в ее наступившем молчании – как если бы чувствовал так себя, со всем этим ее одиночеством и всей невысказанностью ее, и не хватало только обыкновенного ее доверия к нему и обыкновенной простой откровенности, чтоб рассказать ему это свое затаенное личное и положить конец и этой ее отчужденности, и ее замкнутости, и ее молчанию. Казалось бы: и так все легко и так просто, однако она и теперь, спустя столько времени, не доверялась ему. Она как бы утаивала себя от него, замыкалась, хотя сама же и мучилась от того.
А тут – какая-то пошлость этого заочного ее знакомого, и она играет с ним в какую-то игру, отвечает ему!..
И он не находил себе места и даже не знал, что ей скажет, он был возмущен и оскорблен за нее.
В это самое время и пришла Лида. Увидела из кухни его шинель, выразила вслух удовольствие, что он пришел, и тут же вошла в комнату. Раскрасневшаяся от мороза, веселая, радостная.
Но он и не собирался скрывать, что читал эти письма. Одно или все – какая разница! Они лежали перед ним на столе. А он с обидой и злостью смотрел на Лиду. Он был готов – и ему хотелось этого – уличать ее.
Лида посмотрела на него, потом на письма на столе и все поняла.
– Не стоит читать, – подчеркнуто небрежно сказала она. – Заочник какой-то узнал мой адрес, вот и пишет. – И забрала со стола и то письмо, что прочитал он, и все остальные.
И опять все это несочетаемое взбесило его: она, Лида, он сам – с его нынешней болью о ней, и тут же эти позорные письма, этот пошляк заочник – и, главное, эта ее подчеркнутая небрежность, с какой она отнеслась только что ко всему.
– Так зачем же ты их читаешь? хранишь?.. – Он еле сдерживался: такой тон, такая пошлость – и к кому! к кому!..
– Да так... Что тут особенного. – И она отвернулась и положила письма в бельевой шкаф.
– Как «что особенного?» – И он действительно этого не понимал и словно впервые смотрел на нее. – Ты – понимаешь? Ты – и принимаешь эту пошлость?..
– Это давние письма. Я больше не отвечала ему.
– Зачем же ты их хранишь? Дай их мне.
Лида отвернулась, достала только что спрятанные письма и стала по одному рвать. И опять во всем этом было страшно несочетаемое: она, Лида – как чувствует и принимает ее он, и она же – вот такая отчужденная от него, явно недовольная им, что он застал у нее эти письма, и вот это вот показное (как понял это он) ее безразличие, с каким она теперь на глазах у него уничтожала их. И он, ничего ей больше не говоря, демонстративно оделся и ушел.
До самой части его давила изнутри невыплеснувшаяся горячая волна обиды, злости и оскорбления за Лиду. Как же она могла? Как она может? Такой тон! Такая грязь! Пошлости эти! И она отвечала, хранила эти письма... Она, Лида... Как же она могла?..
Думать о чем-то недостойном ее он не думал – ему и в голову не пришло бы думать о ней такое. Но как же она могла? как может? почему позволяет так обращаться к себе?..
В казарме он закрылся в комнате ротного и написал ей большое письмо. Злость, обида, оскорбленность – и за нее, Лиду, и за себя тоже – все было в этом письме. Всего было тут и много и жестко сказано. И он, не раздумать чтоб утром, тут же пошел и опустил в ящик письмо.
Прошло дней пять. Лида не давала о себе знать. Он не выдержал и в час обеденного перерыва на фабрике вышел через пустырь к их забору, попросил позвать Лиду, Ему сказали, что ее нет, что она дома, болеет. Он отпросился на час и пошел к ней домой.
Полины Герасимовны не было. Лида лежала в постели. Он был поражен, когда увидел ее: бледная, похудевшая, разбитая... Но он не встал на колени, не попросил прощения, хотя и это тоже хотелось бы сделать ему. Но – нет, он не встал на колени, все еще сильна была в нем его оскорбленность за нее, и он все еще считал себя вправе послать ей такое письмо. Жалея Лиду, он все равно все еще не мог простить ей, что она кому-то позволяет так обращаться к себе. Не мог простить, забыть – и в то же время и жалко было ее, и больно, и стыдно было ему смотреть сейчас ей в глаза...
Они проговорили около часу. Лида не винила его, не обижалась. Она будто покорно принимала все его слова в том письме, все обвинения – и даже соглашалась со многими из них. Она сидела на кровати – с расплетенными косами, бледная, с покусанными губами, в потемневших глазах почти что покорное согласие со всем... – и говорила, что да, она не обижается, потому что он прав, и имел, наверное, право высказать ей все. Но что же, говорила она, теперь делать ей, что ей делать? У каждого свои боли в жизни – вот и у нее будет еще одна своя боль. Возвратить ему это письмо? Зачем же, оно должно быть у того, кому адресовано. Да и не надо ему ни в чем раскаиваться, ведь уже сказано – что же еще?! Глупо, конечно, что его письмо уложило ее так вот в постель, сама удивляется, что такая слабая, Но и это пройдет, все проходит... Пусть уж он извинит ее, что она доставила ему столько неприятных минут, что он мучается из-за нее – она постарается, чтоб этого больше не было...
Лида говорит спокойно, тихо, смотрит ему прямо в глаза.
И он понимает – это же и есть для него самое страшное: она не играет, не хочет вызвать его жалость к себе, она высказывает именно то, что в ней есть, и высказывает все прямо и ясно.
...Да, она знает, что он готовится в институт, – продолжает Лида, – что ему надо спокойно заниматься – и она больше не заставит его терять время на нее. У него своя в жизни цель, она понимает, – и зачем она будет мешать ему...
– Так лучше будет, Максим, – заключает она. – А теперь иди, ты же не в увольнении, час уже прошел. Да мы и сказали друг другу все...
Он мало возражал Лиде, когда она говорила. Да и что было ему возражать? В письме он был прав, в этом он был убежден, что должен был написать ей такое письмо, что должен был высказать все, что в нем было.
И в то же время его терзала сейчас боль за нее, терзала собственная вина: ведь именно он, он сам и никто другой, причинил эту вот боль Лиде. И она, естественно, обиделась на него, и все у них и кончается теперь. Глупо, неверно, не должно так все быть – а кончается. И хотя в глубине души не мог он поверить, не мог просто представить себе, что это действительно конец, поведение Лиды, ее спокойствие, ее слова, ее смирение (но и какое гордое при этом!.. и без какого-либо чувства вины) не давали никаких надежд на то, что все еще можно поправить. И еще знал он, в глубине себя уже знал, что если и не конец это, то все равно: вряд ли Лида уже когда до конца сможет довериться ему, что никогда уже не будет она с ним так откровенна, доверительна и открыта, как того хочет – всю жизнь свою хочет он сам.
– Да, так будет лучше, Максим, – повторяет она.
– Лучше ли?
– Лучше. Зачем т е б е мои дела. Эта, как пишешь ты, грязь. Иди.
– Выздоравливай, пожалуйста.
– Спасибо. Я постараюсь.
Он выходит во двор. Под ногами мокрый снег. Несильный, но холодный и сырой ветер. Закуривает. И стоит во дворе, у темного мокрого деревянного забора: не решается уходить. Ему не верится, что это и есть конец, он будто ждет, что Лида должна еще выйти. И точно, он видит: из-за дома выходит Лида, в платьице, даже не набросила на худенькие плечи пальто. Зачем же она – так вот раздетая? И – с чем вышла, что она скажет ему?
– Возьми, ты забыл, – говорит она и подает ему пять лотерейных билетов.
Это была первая – республиканская – лотерея. Он купил тридцать билетов. У пяти билетов серии сошлись, а номера еще не были опубликованы. Как-то он показал Лиде эти билеты, и они со смехом гадали, что может он выиграть. Тогда он и оставил билеты у Лиды, пусть первой узнает она.
И теперь вот – эти проклятые билеты! Но ничего и не сделаешь, и он берет их. А сам не смеет поднять глаз на Лиду – и все-таки поднимает, смотрит, надеется: может, все-таки смягчится она, улыбнется, простит? Только нет, Лида не улыбается, она все та же, спокойная спокойствием человека, пережившего потрясение, но потом все же пришедшего в себя и принявшего единственно правильное решение. Нет-нет, ему не на что надеяться, она и не сердится и не улыбается, она просто спокойна в своем окончательном решении, она поворачивается и уходит, скрывается за углом...
И он тоже уходит, направляется теперь к своей части, хотя, может, надо бы все-таки вернуться и сказать ей «прости». Но он и не знает, лучше ли это будет, готова ли она, Лида, так же вот искренне, как хочет этого он, простить его. Не знает он, не опытен он в таких вот делах и не всегда ведает, как ему поступить лучше. Почему-то всегда в своих собственных личных делах всего труднее не наделать ошибок.
И вот уже пройдена и ее улица, и узкий переулок, ведущий к части, и вот уже КПП, и городок, и темная, покрашенная охрой, деревянная их казарма...
Нет, он не мог, конечно, не пойти к ней – и пошел через день, в воскресенье, в десять часов, с первой сменой увольняемых. В тот час Полина Герасимовна дома не бывала, по воскресеньям она всегда уезжала на рынок, продавать коврики, а квартирантка у них уже не жила. Когда он пришел, у Лиды была уже ее самая близкая подруга – Вера. Они сидели вышивали. Лида еще не одетая, в постели, Вера на стуле рядом. Лида была все еще бледненькая, слабая; но веселая. И его она встретила хорошим взглядом. По глазам Веры Максим понял, что та все знает – и что очень хорошо, что он пришел. Вера – чуть лишку полноватая и всегда аккуратно и строго одетая, собой чернявая, добрая и всепонимающая – была действительно самой близкой и лучшей подругой Лиды; кажется, самое главное в ней и было – любовь к Лиде, забота, чтоб было у Лиды все хорошо. Вот и теперь она смотрела и на Лиду и на Максима такими добрыми глазами, благословляющими глазами, что он сразу понял, что между ними, Верой и Лидой, все-все-все переговорено и что они пришли к какому-то единому хорошему согласию.
– Выйди, Максим, я оденусь, – сказала Лида.
Он подождал на кухне. Лида надела веселенькое голубое платье и теперь стояла перед зеркалом и расчесывала волосы. Она увидела в зеркало, что он смотрит на нее из кухни, и хорошо улыбнулась ему. Не стесняясь Веры, он подошел к Лиде, поднял к лицу россыпь ее волос и спрятал в них лицо; так и стоял он какое-то время...
– Не заплетай их, – попросил он.
Он принес с собой новый роман одного высоко возносимого в то время нашего автора и, доверяясь хвалебным газетным оценкам, стал и сам говорить, что это должен быть интересный роман, – и предложил читать его вслух.
– Хорошо! – обрадовалась Лида. – Правда, Вера? Читай, Максим, а мы с Верой будем слушать я вышивать.
Они хорошо устроились. Лида с Верой уютно уселись на постели, он рядом с ними на стуле. Но вскоре Лида не захотела больше вышивать, отложила работу, легла, положила голову ему на колени и смотрела снизу вверх на него и слушала. Роман все больше и больше не нравился ему, и уж точно такая «производственная проза» была не для чтения вслух. Но так удобно, так уютно лежала на его коленях Лида, так было ей – и ему – хорошо, что он не решался как-то разрушить блаженство этих минут – и читал, читал этот посредственный и конъюнктурный (на его позднее понимание) роман. А Лиде, кажется, было все равно сейчас, что́ он читает, она, наверное, и не слушала особенно, жила чем-то своим: все смотрела на него снизу вверх, протягивала руку и перебирала в пальцах его мягкие волосы.
...И опять, в отдельные моменты, было ему сейчас так, что и это вот – ка́к она смотрит сейчас на него и трогает рукой его волосы, тоже откуда-то давно-давно знакомо ему...
* * * *
В городе вспыхнула эпидемия гриппа. Увольнения были запрещены. Даже сверхсрочников перевели на казарменное положение.
Все бы ничего, но он заранее пообещал Лиде, что в ближайшую же субботу они пойдут в театр, билеты у Лиды уже были. И когда в пятницу он вышел через пустырь к забору их фабрики, попросил позвать Лиду и потом объяснил ей ситуацию, она расстроилась.
– А я так хотела, чтоб мы вдвоем пошли...
– Но ведь понимаешь... – пытался объяснить он ей всю невозможность что-либо сделать.
– Понимаю, – говорила она, а сама, не скрывая обиды, прикусила губу и потупила голову. – Я так ждала этой субботы...
И он не выдержал, дал слабинку и сказал, что он ничего ей не обещает, но, может, что и получится.
– Но если до половины седьмого меня не будет, то я уже не приду, иди одна.
– Нет, я буду ждать тебя, – сказала Лида.
Он, когда обещал, рассчитывал, что попросит увольнение у ротного, хотя и не хотелось никогда ему пользоваться хорошим расположением к нему командира роты. Но потом ни в пятницу, ни в субботу так и не решился подойти к капитану – просить для себя исключения и решил вообще не ходить, подавить в себе это желание. И думал, что так оно все и пройдет.
Но в 6 вечера в субботу, когда ротного уже не было, он заполнил имевшийся у него в запасе заверенный и подписанный ротным бланк увольнительной и вышел из части.
Патруль им встретился сразу же на трамвайной остановке, а потом с ним – с секретарем комсомольской организации роты!.. – вели долгие нравоучительные разговоры в штабе, сначала замполит, потом секретарь партийной организации батальона. И все эти правильные разговоры были хуже самой гауптвахты, куда все же не посадили его, но самое стыдное, что он пережил в эти дни, это была вина перед ротным. Естественно, об увольнениях в ближайшее время ему и думать не приходилось, и ему пришлось что-то близкое к правде и Лиде об этом написать.
Но утром 8 марта, хотя ему и рано было еще думать об увольнении, он не удержался и после завтрака, когда роты ушли в клуб в кино, попросился у дежурного по части выйти ненадолго за КПП – «поздравить с праздником девушку». И дежурный ему разрешил.
Дома у них на стук никто не ответил, но двери были не заперты, и он вошел. Полины Герасимовны, оказалось, вообще не было дома, а Лида еще спала.
Он вошел, увидел, что она спит, и тихо присел на стул рядом с кроватью. Пять или десять минут смотрел он на Лиду, чувствуя и неловкость, что смотрит на нее спящую (вдруг еще и Полина Герасимовна придет), и боясь разбудить ее. И в то же время ему было так хорошо смотреть на нее. Шея и руки ее были обнажены, волосы свободно лежали на белой подушке и пододеяльнике, худенькое лицо чуть тронуто румянцем, за кружевной отделкой сорочки угадывались маленькие груди. Спала Лида, чуть приоткрыв губы, почти незаметно дыша. И, кажется, только теперь он, наблюдая вот так свою Лиду, и открыл, и особенно ясно увидел, какая же и сама она незащищенная и совсем-совсем девчонка еще. Сутки, наверное, просидел бы он тут, не отводя глаз с Лиды и не смея прикоснуться к ней.
Но она вдруг открыла глаза и сразу же увидела его. И инстинктивно подтянула до подбородка одеяло:
– Бессовестный!
И улыбнулась ему. И он наклонился и поцеловал ее.
– Выйди, я оденусь, – сказала она ему.
Он отдал ей свой подарок – дешевенький газовый шарф и клипсы, еще раз поцеловал Лиду и вышел.
И пока она одевалась, он сбегал в ларек, метров пятьдесят от ее дома, и купил бутылку какого там было вина. И потом они сели за стол.
Что с ним было, он и сам не понимал себя, но когда он стал наливать в рюмки вино, один на один вот так с Лидой, руки его дрожали. И Лида заметила это его волнение и тоже, ничего не понимая, удивленно смотрела на него.
– Что с тобой? Почему они у тебя так? – спросила она его.
– Не знаю, – кратко ответил он. Он и без того был зол на себя, что не сумел совладать с собой.
– ...Странный какой-то ты, – сказала она ему.
И он ничего не ответил ей. Потому что ему нечего было ответить ни ей, ни себе. Он опять, как и прежде, стеснялся Лиды и был скованный и напряженный при ней, ему не нравилось, что пришлось купить такое дрянненькое дешевое вино, и еще он опасался (как, похоже, опасалась и Лида), что вот-вот придет Полина Герасимовна и застанет их за этим застольем. Да еще ко всему этому катастрофически быстро летело время (не говоря уже о том, что его могли и хватиться в части), и надо было идти.
И все равно – как же было ему хорошо!..
И вообще бы могло показаться, что все у них пока хорошо, если бы сам он не чувствовал, что чем ни больше и больше привыкают они с Лидой друг к другу, тем все яснее и глубже ее упорная душевная отгороженность от него, какая-то непреодолимая ее недоступность. Вроде бы и тянется она к нему, и с ним она, и страдает, когда они поссорятся и он уходит, – и в то же время не с ним. К чему-то, наверное, самому тайному и глубокому своему не подпускает, не допускает она его. И ему, – и он и это за собой сознавал, – ему нечем было пока растопить ее, он не давал ей реальных и простых оснований – безоглядно и полностью, и со всем своим тайным, довериться ему. Он просто не был еще готов – хоть сегодня, хоть завтра взять ее жизнь на себя, и она (он это тоже, конечно же, понимал) знала это. А последующие события должны были и еще больше уверить в этом ее.
Он записался в увольнение, никто его не вычеркнул, и вечером он был у Лиды. Полины Герасимовны опять не было дома. Лида, когда он вошел, причесывалась, стоя перед большим зеркалом. Видно, она вымыла незадолго волосы, и они были особенно пушистые, пышные. Он снял шинель, вошел в комнату – и не удержался: подхватил Лиду на руки, закружил по комнате, потом опустил на кровать. Лида удивилась такой его резвости, да и он сам уже почувствовал себя неловко: отпустил ее и сидел на стуле, смущенный. Потом они оделись и весь вечер гуляли по своему обычному маршруту – по пустынным окраинным улицам. И ничто не предвещало пока сгущавшихся туч.
А когда он пришел в следующий раз, Полина Герасимовна не поздоровалась с ним. На улице Лида ему рассказала, что был у них дома очень нехороший, плохой разговор: мать обвиняла их в близости. Лиде было трудно, стыдно говорить все это ему, но вот приходилось. И они оба не могли взять в толк, откуда, из-за чего возникли у Полины Герасимовны такие подозрения. Скорее всего, кто-то из соседок в прошлый раз увидел в окно, как кружил он Лиду на руках...
Он еще приходил, раз или два, и чувствовал все возрастающую неприязнь к нему Полины Герасимовны. И вот как-то днем его вызвали по телефону на КПП. Племянница Лиды второклассница Танюшка принесла ему записку. Лида писала, что у них дома скандал и чтоб он не приходил к ней домой – встретятся там-то во столько-то.
Теперь при каждой встрече (а встречались они по два-три раза в неделю, Лида в обеденный перерыв приходила к их КПП) она говорила, что дома у них плохо. Мать по-прежнему обвиняет их, обзывает Лиду всякими словами...
Было очередное увольнение. Время они провели как обычно – гуляли по улицам. Разговор шел невеселый. Максим предлагал, чтоб он пошел и поговорил с Полиной Герасимовной, но Лида этого не хотела. К концу его увольнения они подошли к КПП, он отметился, и они долго еще стояли у самой двери проходной – Лида все не хотела идти домой.
На следующий день, вечером, его вызвали на КПП. Ждала его Лида. Сказала, что уходит из дома.
– Она добивает меня медленно и верно, – сказала Лида и заплакала. – То она все хотела выдать меня замуж, набивались тут двое в ы г о д н ы х женихов, а теперь я и не знаю, чего она хочет от меня. А я не могу больше так. Я буду отдавать ей половину зарплаты, но жить с ней больше не буду.
Ну, что было ему сказать ей на это и что посоветовать? Разве не знал он, что́ единственно нужно было б сейчас ему сделать, чтоб действительно помочь Лиде? Да только не был он, совершенно не был готов на это. И она, Лида, если тоже по справедливости, не слишком все время шла навстречу ему. Разве был он уверен, что нужен ей только он? Разве не было еще и Жени?..
Но Лида пришла, Лида ждала хоть какого-то слова, и он должен был как-то помочь, что-то посоветовать ей. А он просто терялся. Ну, куда ей уходить было сейчас, одной и на кого оставлять без средств и к тому же больную Полину Герасимовну? Неужели действительно до такого у них там дошло?
– И все-таки ты подожди пока, не уходи, – сказал он. – Подожди. Может, что и придумаем.
Но она только усмехнулась на это:
– Что можешь придумать ты?!..
И на следующий день Максим решил зайти к командиру роты, посоветоваться с Дмитрием Прохоровичем, как ему быть теперь и что делать.
...Да, вот и настала тоже давно долгожданная им возможность сказать несколько слов и еще об одном дорогом ему человеке – о бывшем командире их Первой роты Дмитрии Прохоровиче Рукавишникове, или просто Диме, как любовно всей ротой называли его они.
Все три года службы прошли у него под командованием Дмитрия Прохоровича Рукавишникова – сначала в учебной, а потом и в линейной роте, и осталось на всю жизнь только чувство радости и благодарности, что выпало ему в армии прослужить под началом такого человека.
Помнится – всегда в первую очередь вспоминается Дмитрий Прохорович в одном их разговоре, как бы вобравшем в себя все-все-все, что и было главным для них в их командире роты капитане Рукавишникове. Они сидели, как это и нередко бывало, вдвоем, в его, командира роты, комнате, где часто работал и он, секретарь комсомольской организации роты сержант Русый, и Дмитрий Прохорович, много готовившийся тогда к последней попытке поступить в академию (выходили годы), делился, как идет подготовка.
– Ленина сейчас, секретарь, штудирую, Ленина... – говорил в удовольствие Дмитрий Прохорович и положил руку на стопку красных томов собрания сочинений Ленина, их он брал в библиотеке части и пачками носил к себе домой. И на его, Максима, вопрос – тяжело, мол, наверное (самому ему тогда еще не приходилось серьезно знакомиться с работами Ленина, так – две-три статьи о литературе, по программе), ротный ответил, что совсем тут не в этом, совсем не в тяжести дело.
– Не в сложности и не в тяжести дело, секретарь. Не в этом... А жалко вот, что спешить надо. Спешить, спешить... А Ленина всего б прочитать, и спокойно. И понять все как следует, и взять для себя. А то вот цитируем, цитируем все на каждом шагу, делаем вид, что знаем, что все понимаем, а знать – знать-то чаще всего ничего и не знаем. Да и понимаем тоже... Читаю вот сам – и вижу: часто мы, часто мы, секретарь, за цитатами саму суть упускаем. Главное у Ленина часто и упускаем. А он многое, многое, секретарь, мог бы нам дать, многое...
Помнится, ротный говорил все это и серьезно и озабоченно, но все равно у него было хорошее настроение. Сидел улыбался, а в острых его глазах была какая-то стыдливая застенчивость от такого вот невольного своего признания. Видно, он действительно много занимался в те месяцы: похудел, острый нос еще более заострился, и залысины на лбу стали больше, заметнее.
– Вот и тебе тоже, секретарь, запомни, – вполне серьезно говорил ему ротный. – Поступишь в свой институт, куда ты там собираешься, много всего вам там переворошить придется, но вот этого, – и он благоговейно положил руку на стопку красных книг Ленина, – этого никогда не забывай. А то легко заблудиться можно...
Да, вот таким ода и помнит его всегда, Дмитрия Прохоровича Рукавишникова. Искреннего и чистого в каждом слове и в каждом шаге своем.
Рукавишников, насколько он знает, не кончал военного училища, в армию был призван в самом конце войны, прослужил два или три года рядовым и потом шаг за шагом последовательно прошел через все звания и должности, пока не получил вот эту их роту, а год спустя и звание капитана. Вполне возможно, что и звания и должности несколько запаздывали к ротному – по истинной подготовке и личным качествам Рукавишников, наверное, мог претендовать и на большее, – но уж тут, правильным будет признаться, не ему, Русому, было судить об этом. Зато уж ротный он был у них, капитан Рукавишников, – еще бы кого-нибудь любили так в части!








