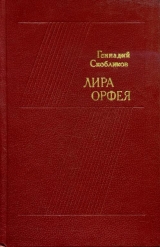
Текст книги "Лира Орфея"
Автор книги: Геннадий Скобликов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
...Курск, родная деревня – всего-то пять дней назад, друг его Федя и его – с быстрыми черными «азиатскими» глазами – городская девушка Надя. Федя учится в Курске, в электромеханическом техникуме, живут они с Надей на одной улице, дружат – и вот Федя пригласил ее, Надю, к себе в деревню. Хорошо это у них, все и легко и просто – и он так по-хорошему завидует своему другу: ведь сам он никогда не осмелился бы пригласить и привезти Ее к своим – к своему отцу и мачехе, к себе домой. (И хотел бы, чтоб такое могло случиться и у него, но – не решился бы он на это, не получилось бы. У них в семье этого не получилось бы...)
Так вот. Сначала, еще в Курске, они вчетвером – Федя, Надя, двоюродная сестра Феди Любочка и он – сходили в фотографию, сфотографировались на память перед отъездом на целину, а потом, вечерним поездом, приехали все в деревню. Ах, как завидовал он своему другу там, в деревне, не знает этого Федя, и как завидует он ему и теперь, этим вот вечером, сидя в теплом и прокуренном директорском газике под ночным дождем в черной степи. Такая подруга у его друга Феди, такая подруга!.. И всего-то пять дней назад, всего пять дней назад! Танцы на улице под патефон, у них – у амбара Максима, и его (признавайся!) очарование подругой своего друга. И он не хотел бы скрывать этого очарования от них обоих и в то же время (признавайся, признавайся!) от Феди старался скрывать. На следующий день он уезжает сюда, вот в эту кустанайскую степь, Федя с Надей и другие ребята и девчонки провожают его, и вот, когда уже все простились, он задерживается с Надей, и долго, минут десять или пятнадцать, они стоят и говорят, одни на дороге посреди поля, а Федя с остальными, они отошли уже далеко, остановились и ждут, стоят и ждут, когда же они там наговорятся.
Друг – самый лучший его друг, самый понимающий, он, конечно, не ревновал к нему там, стоял и, должно быть, шутил. Но, наверное, и недоумевал он, друг его Федя, о чем же могут они, знакомые только со вчерашнего дня, так вот долго стоять и говорить, говорить...
А он? Он стоит разговаривает с Надей и откровенно завидует своему другу, завидует им обоим, что они, и Федя и Надя, остаются тут, дома, среди этих вот – сейчас особенно таких кровных ему – курских полей и лесов, а он – один как есть, – уезжает отсюда, уезжает куда-то на далекую целину... и кто знает, кто знает, когда ему еще придется вернуться сюда и когда он опять увидит всех их: и его, лучшего своего друга, может даже единственного своего настоящего друга, и его подругу, такую вот славную, озорную, с «восточным» овалом лица и «восточными» черными глазами – Надю... И когда в «Сталинском» в числе других вариантов приходил им на ум и вариант катить назад к своим курским соловьям, грезилась ему, как самая желанная и близкая, и его встреча и с Федей и с Надей...
Хотя, конечно же, он понимал, что его очарование подругой своего друга – всего лишь кратковременная вспышка, и этому не должно и не нужно никакого продолжения. А уж о бегстве с целины... то вряд ли он сумел бы посмотреть своему другу прямо в глаза! Никогда не сумел бы он объяснить своему праведному и во всем правильному другу Феде, что это был бы самый лучший выход – удрать. Да и Федя, – он-то, Максим, знал своего друга, – хотя прямо и не упрекнул бы его, пощадил бы, но в глубине души не одобрил бы и никогда бы его не оправдал.
...А еще у них – у Феди и Нади – было свое «дурашкинское» словечко – «чжик-у», невинное и веселое. Оно, наверное, совсем недавно попало им на язык, в какой-то хороший для обоих момент, обрело для них некий тайный смысл, впрочем вполне очевидный для всех, – оба переживали пору первой влюбленности друг в друга, и они одинаково оба злоупотребляли этим словечком, его звучанием, произносили его на разные лады по делу и не по делу, но у них-то получалось, что всегда по делу, так как они выражали одним этим словом многое-многое такое, чего, наверное, не осмелились бы или просто не сумели бы выразить другими словами: о чем-то речь, или просто игровой момент, или какая особая минута – и их взгляды друг на друга (более ровный, сдержанный – у Феди и быстрый, мгновенный, вызывающий – у Нади) и – это вот странное, ничего не значащее для других, но только не для них! – это вот «чжик-у»... Короче, это было и х слово, и попытка всех «третьих» и прочих включиться в их игру просто была б неуместной...
Дождь мелко сыпал по мокрому брезенту, свет фар высвечивал его толщу в черноте ночи, не поспевая работали «дворники», запахи бензина уступали место свежести. Он все это видел и ощущал, бессознательно отмечал, зачем-то запоминал... а сам был одновременно и тут, в машине, и днем назад в «Сталинском», и в Кустанае – доказывал свою правоту товарищу из областного управления совхозов, и дома на родине, в Курске – сначала в фотографии, а потом дома в деревне, у их соснового амбара на зеленой майской траве, и он много танцевал с Надей, а потом, вечером, они все вместе долго сидели на Федином выгоне над горой... – как хорошо и как совсем недавно, всего пять дней назад, это было!..
Ну а потом что ж: Курск, его последний, нежданный для нее визит к Лиде (его п е р в о й Лиде, милой студенточке педагогического училища, он познакомился с ней прошлым летом, в ее деревне, где он был на летней практике, – об этом, он надеется, у него еще будет рассказ впереди; вообще же ему просто везло на твое имя...), вокзал, вторая платформа, свои ребята – весь мужской выпуск училища, оркестр – и лица, лица, сотни незнакомых лиц с платформ и соседних поездов: всем было и любопытно и интересно посмотреть на отъезжающих на целину...
Да, что ни вспомни из прошлого, что ни возьми из нынешнего, сиюсекундного – все было как очередная и обязательно нужная страница все той же одной, одной нескончаемой книги...
Книги, которой, он это чувствовал с грустью, ему самому, конечно, никогда не суметь написать...
В совхоз приехали, дождь еще шел. Остановились у конторы. Было темно, огни усадьбы светились поодиночке, не разгоняя тьмы.
Директор сам привел их к длинному одноэтажному общежитию из серых шлакоблоков, сам проводил подлинному коридору в одну из комнат. «Этих молодых людей надо устроить на ночь», – только и сказал он сидевшему на койке парню. Покровительственно и дружелюбно кивнул им и ушел.
Парень назвался Юркой, горьковчанином. Это был рослый светловолосый красавец, только слишком уж давно не бывший в парикмахерской – длинные его волосы лежали чуть ли не на плечах.
Когда они вошли, Юрка сидел на смятой постели и лениво перебирал струны гитары, оклеенной цветными фотографиями полунагих красавиц. В комнате был редкостный, но тут, похоже, привычный беспорядок, стол завален остатками, наверное, недельной еды и такими же старыми окурками. Но Юрка нисколько не смутился ни их, посторонних, ни того, что и директор видел все это безобразие; он и встать-то даже не попытался при виде Коновалова. Правда, и Коновалов тоже сделал вид, что вроде не заметил ничего.
– Устраивайтесь, – сказал им Юрка и кивнул на свободные четыре койки. Постели на них были кое-как заправлены, но на каждой висела или просто лежала мужская одежда.
– Они разве свободные? – не совсем поняли они.
– Кому из наших не хватит – у девчонок переночуют. Да они и так, наверное, не придут.
Последние слова Юрки, сказанные им как о чем-то, похоже, естественном тут и привычном, достаточно резанули их. Но не высказывать же им было перед этим самым Юркой свою высокую нравственность, свое целомудрие, а проще сказать – зеленость! Не обнажаться же им было перед Юркой в стыдливой непорочности своей!
И они, конечно, не бросились тогда ни себя, высоконравственных, демонстрировать, ни других осуждать. Напротив, они постарались принять все как должное и в тон Юрке понимающе усмехнулись. Оба девственники, они тем не менее хотели оставаться с опытным Юркой на высоте и потому не стали задавать наивных и глупых вопросов.
Вечер прошел в разговорах. Много, много интересного порассказывал им тогда этот Юрка, о чем они хоть и могли иметь представление, но, конечно, не с такими подробностями. И о голой степи, где теперь была их усадьба, и о тракторном поезде, и о палаточном городке, и о веревках между палатками – чтоб не сгинуть в пургу и не замерзнуть в степи, и о тяжелых и опасных многосуточных поездках зимой на тракторах на станции за строительными материалами... Сам Юрка был разнорабочим на стройке, но с трактористами и шоферами везде побывал и рассказывал обо всем со знанием дела, с подробностями, о которых им нигде б и никогда не прочитать. Рассказывал он и о том, сколько было понаехало сюда и разной шпаны, проходимцев и прочего сброду, что хватило тут в свое время и воровства и драк тоже, но эта летучая публика в общем-то скоро поотсеялась, поуехали кто куда, и остались в основном – кто приехал работать, а особенно у них, в тракторно-полеводческих бригадах: там ребята и вовсе всякий мусор не станут терпеть.
Так же просто, ничего не смакуя, рассказывал Юрка и о трудностях жизни в совхозе, о том, как приходилось тут туго зимой, а особенно, конечно, девчонкам. И вот этот-то его рассказ о «девчонках» – Юрка почти с нежностью произносил это слово – больше всего другого и поразил тогда их.
– Они ж больше на стройку оформлены, – рассказывал Юрка, – а какая тут зимой на фик стройка! Месяцами без дела. Ну и без денег, конечно. С осени, правда, авансы выписывали, но потом и их перестали давать. И по домам, хоть на зиму, отпускать не хотели, боялись, что не вернутся весной. Да и что по домам – ни тут, ни там, это ж тоже не дело. Ну, ребята-то все равно кое-как зарабатывали: с трактористами то в Кустанай, то в Аман-Карагай или еще куда, то в шептыкульские степи за сеном. А у девчонок доходило – что и на хлеб с килькой рубля не было. Ну и жили, как получалось, чего уж тут: привезут ребята водки, еды – и к девчонкам. Так и перезимовали. Многие, конечно, и домой уезжали, иные насовсем, а иные и вернулись весной. Сейчас-то, летом, работы тут, конечно, навалом...
В восемь утра они завтракали в совхозной столовой. Столовая была большая, просторная. Но ложек не хватало, пришлось им сбегать в общежитие за своими, взять из чемоданов. И чай тут пили из полулитровых стеклянных банок.
В столовую все время подходили из общежитий девчата и парни, заметно больше было девчат, и он смотрел на всех на них сквозь призму вчерашних Юркиных рассказов. Он и сочувствовал им, всем разом, этим совхозным девчатам, может, даже уже болел за них, и в то же время все-таки осуждал. Но вот что больше и удивляло, и поражало, и даже как-то и обижало и злило его – так это какая-то безотчетная веселость этих самых девчат, их непостижимая для него беспечность: будто ничего порочащего за ними и не было и нет. И ему, со всем максимализмом его собственной непорочности (от которой ему-то самому, конечно, давно мечталось избавиться...), было и обидно и стыдно сейчас за них, и он – как это и раньше всегда бывало с ним – все еще никак не мог понять, как это могут они, девчата, вообще вот так легкомысленно и даже весело переносить свое падение. Что ж, что было, то было: он слишком долго всего вот этого не понимал...
Конечно, потом-то, позже, когда он получше узнает тех же самых совхозных девчат, он уже не будет стричь их всех под одну гребенку, и тем более – безоговорочно осуждать. Но все это придет к нему позже, потом. А в то утро он все еще был под впечатлением от Юркиных рассказов и не мог их тут всех не судить. И уж, конечно, когда в 9 утра, как было условлено, пришли они к директору, он смотрел на любезного и вежливого с ними Коновалова уже с большой поправкой: уже предъявляя этому уверенному властителю совхоза вполне определенный нравственный счет.
Вася, напарник, тут же у директора встретился со своим бригадиром, из Третьей бригады, и остался с ним по делам на центральной усадьбе. А он, получив в бухгалтерии подъемные, расспросил дорогу во Вторую бригаду и пошел за двенадцать километров пешком.
...И по мере того, как уходил он все дальше и дальше от центральной усадьбы, слякотный осадок в его душе исчезал. Да и день начинался, умытый ночным дождем, – и радостный, и солнечный, и теплый. И над черной вспаханной степью радостно же струилось густое прозрачное марево. И свободно и хорошо дышалось.
И словно не было уже двух первых неприятных им дней на целине, и поднялась в душе радость от этого черного степного раздолья, от бесконечной прямой дороги, от солнца, бьющего прямо в глаза, от голубого неба, от вольного ветра, от звонких жаворонков над головой, от перелетающих впереди по дороге степных белых чаек, от рыжих толстых сурков, стоявших столбиками у глиняных своих нор. И эта его радость была такой хорошей и такой естественной, что он где-то глубоко в душе уже знал и верил, что и все дальнейшее, что будет у него тут, в конечном итоге принесет ему только радость: большую и ясную радость, несмотря ни на что...
Стоит вот теперь у окна, смотрит в черноту ночи и огни города, а памятью, зрением – там, в том солнечном ярком утре, на той бесконечной прямой дороге, в той черной прекрасной степи под голубым майским небом, уже и распаханной и засеянной до него. И все двадцать лет помнится то утро на целине так вот ярко ему; уже даже больше, чем двадцать...
...А как он попался тогда на эту самую степную удочку – как подшутил и с ним этот самый степной мираж!
Идет, и только что до самого горизонта была черная пахота – и вдруг там огромное блестящее озеро, и дорога идет прямо в воду. И он останавливается и не знает, с какой же стороны будет теперь обходить его: в совхозе, рассказывая дорогу, об озере ему ни слова не говорили.
А там, прямо по воде, движется что-то черное, и он стоит и гадает, что же это может быть. Похоже на обычную конную подводу, но так причудливы, так зыбки и изменчивы очертания...
И только тут дошло до него, что все это необозримое озеро впереди – мираж, обычный степной мираж. И он опять останавливается и стоит, дивится и любуется им. И поджидает того, из «воды».
Две гнедые лошади, повозка, на ней возница. Они уже выехали из «озера» и теперь быстро приближаются к нему. Дорога хорошая, накатанная, ночной дождь почти не испортил ее, лошади – видно – бегут легко, быстро. А возница, кто его там, – поет. Многие километры такой вот езды по степи – бог ты мой, что найдешь лучше, чем не жизнь!..
Все ближе и ближе они друг к другу, все ближе и ближе.
Возница уже не поет. И конечно же, с любопытством смотрит на встречного: чемодан, плащ на руке – явно приезжий. Куда ж он пешком по степи? И к кому?..
Возница – то ли казах, то ли татарин, лет тридцати. «Хабар бар?!» – надо бы поприветствовать хозяина степи пешему, как это и делается во все века тут между своими: «Новости есть?!» И возница, приятно удивленный, наверное бы ответил: «Бар!» – «Есть!» Но он тогда еще не знал этого степного приветствия, и «Черного Араба» Пришвина тоже еще не читал.
– Здравствуйте, – приветствует он возницу на своем русском, подождав, когда тот остановит подводу.
– Здорово, – на чисто же русском отвечает хозяин степи, показывая белые зубы. Он смуглолицый, глаза черные, в черной спецовке и в черной же кепке, в руке черный ременный кнут.
– Не скажете, где тут Вторая бригада?
– А прямо по дороге. Скоро увидишь. А еще через четыре километра Третья будет.
– Нет, мне во Вторую.
– Тогда первая отсюда. Километра три еще.
– Спасибо.
И некоторое время они стоят и молчат.
– А ты к кому там? – спрашивает-таки возница.
– Работать, – охотно говорит о себе приезжий. – Помощником бригадира буду.
– А!.. Хорошо! – И возница смеется.
– Почему – хорошо? – несколько озадачен приезжий.
– А почему должно плохо? – в свою очередь не понимает возница.
Против такого ему сказать нечего. Действительно, почему всегда должно быть плохо, а не хорошо.
И он соглашается, смеется. И они оба смеются. Смеются минутной заминке в этом хорошем их разговоре, смеются друг другу, веселому солнцу, степи, просто жизни.
Он достает папиросы, угощает возницу, закуривает сам.
Они хорошо, с улыбками, прощаются, кивают друг другу – и каждый следует в свою сторону, к своей цели.
Идет – и «озеро» отступает, все дальше и дальше. Не было, не было ничего в нем – и вот уже призрачный, яркий и фантастический городок. Или, вернее, два: один над «водой», другой отраженный. Чуть позже, подойдя еще ближе, он разглядит: вагончики – голубой и зеленый, и коричневый; и светлую большую цистерну; и строгим порядком серые ДТ-54; и голубые и зеленые сеялки...
И это и будет она, его Вторая бригада. И он остановится и долго-долго будет смотреть на этот их городок: зеленый квадрат нетронутой целины и на нем разноцветные кубики...
И где-то там будут они, ребята-трактористы его Второй тракторно-полеводческой бригады, где он никого-ни-кого еще не знает и с кем, одному богу ведомо, как сложится тут его жизнь...
4
Майский день, солнце, чистое просторное небо. И такая же просторная, тронутая первой дымкой всходов вокруг степь – от сиреневой до чисто зеленой.
И полевей стан их – как чистый акварельный рисунок: густой зеленый квадрат непаханой целины и на нем – голубой, зеленый и коричневый вагончики, две алюминиевого цвета цистерны (теперь уже две, одну при нем привезли), ряд тракторов, голубые и зеленые сеялки, плуги, культиваторы, сцепки борон...
Они отсеялись – за восемь дней почти четыре тысячи гектаров, и теперь, довольные сделанным, отдыхают, приводят себя в порядок.
В их голубом – «бригадирском» – вагончике сейчас парикмахерская. За мастера – Иван Чабаненко. Бреет он – будто всю жизнь был парикмахером, так умело и смело работает он своею опасной бритвой. Уже только по этому, как охотно, просто-таки с удовольствием стрижет и бреет он всю бригаду, в нем виден свой «общежитский» человек.
Ивану лет под тридцать, он женатый, отец двоих детей. Семья на Украине, где-то под Гуляйполем, а он вот тут, на целине – приехал «гроши зароблять». Авторитет у Ивана в бригаде безусловный. Бывалый (на каких только стройках он ни работал – и трактористом, и бульдозеристом, и крановщиком...), рассудительный, надежный. Наверное, мало кто в бригаде, как он, знал тракторы – и уж явно никто больше не шел с такой готовностью разбираться в неполадках чужой машины. А кроме естественной для него необходимости всегда пойти и помочь другому, Иваном двигал еще и азарт специалиста, профессионала: мол, как это так, что не сумеет он разобраться в какой-то там заковыке. И все равно тут: идет ли речь о кропотливейшей какой регулировке или же надо просто-напросто выбить кувалдой неподдающийся палец из гусеницы С-80 (была одна такая тяжеловесная и неэкономичная на полевых работах махина и у них в бригаде). Коренастый, широкоплечий, сильный, Иван, казалось, без всякого усилия управляется с кувалдой.
Сейчас он был в синей, слинявшей от пота майке, и белое его тело казалось слишком нежным для такого богатыря; руки, лицо и шея – заветренные, красные от загара.
Еще был Иван и прирожденным юмористом. Часто сама по себе ничего не значащая фраза, – казалось бы, ничуть не смешная, – произнесенная Чабаненко, вызывала всеобщий хохот, и Иван тоже упивался вместе со всеми своим же умением рассмешить. Да и в самом лице его было что-то, когда сразу угадывается умный, серьезный человек и безобидный весельчак. Вообще же имел он белое заостренное лицо, острый нос, острый подбородок, твердо сжатые губы. Стригся почти наголо, носил короткую светлую челку.
Сейчас на языке у Ивана был он, их молодой помбригадира, и Чабаненко, ко всеобщему удовольствию присутствующих, буквально упивался своим веселым и безобидным подзуживанием.
...– Так ты, Максим, по правде скажи, – спрашивает Иван, а сам тем временем выбривает «под Котовского» Алика Шевцова, – по правде скажи: який бис понес тебя сюды, на эту самую целину? А?
– Хлопец, мабуть, романтику шукаить, – дружески подсовывает шпильку мягкий и доброжелательный Вася Вязовченко.
– А, Максим? – подхватывает Иван и по-доброму, смеющимися глазами смотрит на него. – Той же думал, должно: а дай же и я на нее, на чертяку цию целину побачу, правду пишут о ней, чи нет?! А?
Все смеются.
От души смеется и он, Максим. Всего несколько дней он в бригаде, а свыкся уже с ребятами. И уж, конечно, не обижается, что они нет-нет да и пройдутся по его «романтике», хотя он, понятно, сам и слова этого тут ни разу не произносил. Просто действительно: тут, на месте, все громкое радио-газетное и песенное о целине самими ребятами обыгрывалось не иначе как с юмором. Да и как оно могло еще быть!
– Вот же и я, Максим, як и ты, – продолжает Иван, управляясь с бритвой: – дай же, думаю, побачу на эту чертову целину – шо вонэ цэ такое ист?
– А я из-за жинки, – смеется любимец бригады Петро Галушко. – Включила Марина радио, а там писню про цю целину спивають. Ну и покатил я по матушке России...
Петро лобастый, глаза маленькие, сидят глубоко. Он меньше среднего роста, не крупный, но крепкий. Правая рука у него – трехпалая, мизинец и безымянный оторвало на войне, от этого ладонь у него узкая. Когда он, Максим, знакомился с Петро, то даже растерялся от неожиданности, вдруг ощутив в руке непривычную узкую ладонь, на что Петро весело расхохотался. Петру – тридцать, но можно дать и больше. Они с Иваном Чабаненко – земляки, из-под Гуляйполя оба. Пооставили там семьи и два года назад приехали сюда, работают на одном тракторе. Дружные, никуда друг без друга.
– Скажи, Махно, грошей захотел! – с веселым вызовом бросает в адрес Петра молодой здоровяк Алик Шевцов, приехавший сюда из-под Москвы, из Истринского района. Собой Алик – будто сошел с плаката, на каких рисуют этаких молодцов, олицетворяющих рабочий класс: молодой, здоровый, завидной силы, приятный, веселый, уверенный...
– А ты, москаль, до куркулек сюда приихав! – поддевает Алика его друг и напарник по трактору черноглазый и худенький Коля Корж – уроженец Винницкой области, после Максима самый молодой в их бригаде. – Ось, побачишь, окрутит тебя теща, только вот на центральную переидимо.
– Мне лишь бы бражку варила, – смеется, шуткуя, Алик, – а потом, пока опомнится, я уже в армии буду. А вот тебя твоя куркулиха точно окрутит.
Одессит Алексей Горица лежит молча, читает Достоевского. Он хотя и одессит, а малоразговорчивый. Но и читая, Горица все слышит и видит, и в черных его глазах под длинными ресницами и на тонких губах – тончайшая же усмешка и ирония ко всему, что тут говорится...
Обедают в отдельном вагончике, у Бабы Кати. За грубым деревянным столом, дочерна замусоленным мазутной одеждой, два десятка гавриков. А если точно, то в бригаде двадцать один человек, трое из них – женщины: повариха Баба Катя, учетчица Ольга и трактористка Вера.
Царствует тут безраздельно Баба Катя. Она и в целом держит себя комендантом в бригаде, а в своем столовском вагончике и подавно. Полная, выглядит на все свои пятьдесят с лишним, откровенно надменная, язвительная. Ее и почитают и побаиваются, а она – и любит свою бригаду, и как бы за что-то презирает всех их, особенно кто помоложе. За стол она берет с каждого около четырехсот в месяц, это не слишком дорого – Баба Катя скажет, что вообще задарма кормит, и так уничтожающе посмотрит на того, кто, случится, вдруг заговорит о деньгах, что больше уже никто не захочет спрашивать. Готовит же она, правду сказать, хорошо и охотно. Она то ли украинка, то ли болгарка, то ли есть в ней и от украинки и от болгарки, а те и другие, как не без похвальбы и не без вызова «москалям» говорит Баба Катя, и любят и умеют стряпать. И если надоедают ребятам почти бессменные рис и сушеная картошка, то Баба Катя тут не виновата: других продуктов в совхозе просто нет.
Обедают весело, под словесную перестрелку с Бабой Катей, из которой она редко не выходит победительницей. Но бывает – подлавливают и ее, к единодушному мстительному восторгу всей бригады.
...– Так куды ж я ее, черта, заховала? – ищет теперь Баба Катя свою поварешку. Ищет, пока и не подозревая о подвохе.
– А шо, немае? – невинно справляется черноглазый Корж.
– Так вот немае, – озабоченно вторит ему Баба Катя. – Взяла – и сама же куда-то заховала...
– А була, да? – опять поднимает на Бабу Катю невинные глаза Корж.
– Як же ж не була! Тилько ж вот шо була, прокаженная! – сердится повариха и опять обшаривает весь вагончик.
Корж с показным сочувствием следит за поисками Бабы Кати, сам же вот-вот готовый прыснуть со смеху. Но та пока не замечает.
– Ты шо, не бачив, чим я шти разливала? – продолжает сердится она на участливого Коржа.
– Так я ж и кажу, Баба: була, а як вот подывишься – так и немае. Ага?
– Так вот и немае...
– А була... – свое Корж.
И тут повариха наконец прозревает.
Бедный Корж!
Она подходит к нему, останавливается перед ним: для своих пятидесяти довольно дебелая, должно быть, прошедшая и Крым, и Рым, и медные трубы, – руки в боки, лицо – сама надменность, в суженных стальных глазах уничтожающее презренье:
– Ось, подывитесь, люди добрые, на недоноска. Ще и к дивкам бегаить! Та я таких масклявок, як ты, в ляжках душила – и пикнуть не успевали!..
Какая уж тут еда!.. И больше всех трясется от смеха, но все ж таки и уничтоженный изрядно – сам Корж. Сменяет постепенно гнев на милость и Баба Катя. Но до конца обеда она все еще будет шпынять Коржа.
...А когда засеяли последнюю клетку, организовали первую при нем общебригадную пьянку. И тогда же в первый раз он увидел, как они тут играют в «салочки».
Это уже перед вечером, все были, что называется, хорошенькие. Им бы о чем другом поговорить, а тут как раз спор вышел – чей трактор быстрее. Ну что, казалось бы, взять с ДТ-54: всего-то и скорость – восемь километров в час. Ан поди ж ты: ч е й б ы с т р е е?!
– Конечно, мой! – заявил Алик и даже встал при этом: все ж они знали, что его № 8 – самый быстрый в бригаде, а, может, и во всем совхозе. Алик, как только получил его новенький, сразу же, еще на станции в Тоболе, снял ограничитель подачи топлива.
– А споримо – догоню? – подскочил азартный Галушко. Петро, по его рассказам, любитель гонять на мотоцикле, но и тут задор подхватил его. – Споримо! – И глаза у этого бывшего фронтовика горели, как у мальчишки.
– Ха! Слабо, Петро. Обставлю, – уверенно Алик.
– Иван! – хлопнул напарника по плечу Галушко. – Чуешь?
– А шо, Петро?! – загорелся и обычно рассудительный Иван. – Покажем ему... хрен в викно! А? – И, весело улыбаясь, с предстоящим удовольствием состязания, встал.
И это было как команда.
– Заводи! – разнеслось громко, по всему стану. И все повалили из вагончика.
И уже через две-три минуты стан буквально оглушили своим высоким ревом пускачи, потом глуше и солидней заработали дизели. Два десятка фар осветили полевой стан. Он, пом бригадир а, кажется, ждал, что они выедут на дорогу и на прямой померятся в скорости. Не тут-то было!
Тракторы один за другим срывались со стоянки сразу на пятой скорости – и вот уже на пятачке стана меж вагончиков закрутилась карусель ревущих на полном газу, ослепляющих друг друга машин. Кто тут кого догонял, кто кому пересекал путь – нечего было и понимать: для каждого все остальные были соперниками. Из бывших на стане (часть ребят уехала на центральную) не участвовали в этой забаве лишь трое: Баба Катя, почитатель Достоевского Алексей Горица и он, помощник бригадира; самого бригадира, Краснова Павла, на стане не было.
Баба Катя наблюдала эту игру со ступенек своего вагончика. Стояла – руки фертом, голова высоко, и выражение – что твой верховный судия! Он подошел к ней, стал рядом. Он, как-никак отвечающий за них их маленький начальничек, откровенно растерялся: добром такая игра не должна была кончиться, а как остановить ее, он не знал.
– Любуешься, помощничек? – не глядя на него, встретила его Баба Катя и так сказала, будто это он сам и заварил всю кашу. – Что ж, подывимось, чим ся басня кончится...
А тракторы продолжали гоняться вокруг вагончиков, слепили друг друга, чуть не сшибались, но чудом каким-то избегали столкновения, разворачивались на месте и опять бросались в погоне друг другу наперерез.
О самой площадке уже и говорить не приходилось: этой чистой зеленой лужайки меж вагончиков, куда тракторам у них вообще был запрещен въезд, и обычно ребята сами следили за этим, – этой лужайки, их бригадной гордости, теперь просто не было. Ее всю изрыли, истерзали гусеницами, тут и там чернели кучи взрытой при разворотах на месте земли...
Наконец его осенило – и он, уловив момент, вскочил на секундной остановке в трактор Алика. Тот приветствовал помощника бригадира азартной улыбкой.
– Давай на дорогу! – заорал он Алику. – На дорогу давай! А они за тобой!
Алик погнал на дорогу – от стана. И вот и другие тоже, решив, видимо, что № 8 хочет удрать, погнались за ним. И вскоре все восемь ДТ, освещая друг друга, мчали от стана по ровной прямой дороге.
Алик остановил трактор, они вылезли на гусеницы и замахали руками: остановка. Тракторы, на пятой скорости, чуть не врезались друг в друга. И вот, наконец, все были на месте. Ребята повылезали из машин, что-то кричали друг другу – азартные, довольные, совсем не пьяные. С веселым смехом обсуждали перипетии потехи, спорили, что-то доказывали. Рассматривали глубокий шрам на топливном баке ДТ за № 37: № 24 забрался-таки на него, как на вертикальную стенку, потом соскользнул – и, падая, резанул гусеничным пальцем по баку. Слава тебе господи, что не насквозь. И вообще, все, к счастью, обошлось хорошо. Если не считать изрытой лужайки стана.
– Идите, побачите, шо вы с ним зробыли! – в своей манере, надменно, сказала Баба Катя, кивая на стан. Она тоже пришла сюда и стояла слушала их разговор: Баба Катя все должна была видеть и слышать сама.
– А, хай его, Баба! – весело отозвался Иван. – Гулять так гулять! За лито все позарастает...
Но уже в пять утра Иван поднял несколько человек, и до завтрака они дисковали изрытую площадку и приглаживали ее швеллерами от сцепки. И потом, за лето, она действительно заросла.
* * * *
Да, конечно, и они были не ангелы, всего и у них тоже хватало, скучать не приходилось. И все-таки, безусловно, ему повезло с ребятами, с бригадой, и он потом только с одним теплым чувством будет вспоминать всех их.
Но совершенно особое, с годами тоже переросшее в боль, осталось в нем от Галушко. И дальнейшие годы, когда он – сначала из армии, а потом из Москвы, студентом, – изредка переписывался с Петром, только закрепили ее.
Он и Лиде, бывало, еще там, в Крыму, все хотел рассказать бы ей о Галушко. Но, конечно, не мог он ей, не получилось бы, как хотел, рассказать. Да и ей, Лиде, – какое ей могло быть особое дело до какого-то там комбайнера или тракториста, которого она и не видела никогда: хватало у нее и своих забот. И только сам он, сам никогда не забывает его. И даже вот на сеансах, в «ночи», его каждый раз опять и опять возвращает туда, в их осеннюю черную кустанайскую степь, на полевой стан их бригады: словно неспокойная совесть опять и опять приводит его туда. Хотя, конечно, если говорить обычно, ни в чем-ни в чем он перед этим своим Галушко в жизни не виноват.








