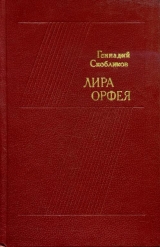
Текст книги "Лира Орфея"
Автор книги: Геннадий Скобликов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Так вот эта история с приездом на каникулы в совхоз его милой, приятной дочки. Как неожиданно повернулась она для всех для них.
Приходит этот комичный, но по-человечески тонкий и деликатный Кубышко к ним в бригаду принимать отремонтированные в дни летнего техухода сеялки, и на какой-то его вопрос их бригадир, Павел Макарович, в присутствии почти всей бригады и ляпнул: «Да вот, хоть зятя своего спросите!» – И громко, в сытость захохотал.
– Чьего зятя? – не понял Кубышко.
– О! – опять заржал бригадир. – Наш Максим свое дело туго знает!
Ситуация – ему, без вины виноватому, хоть сквозь землю провалиться. И Кубышко просто оторопел, когда до него дошло, о к о м речь. А бригадир, как и частенько, красноватый с похмелья, все в удовольствие ржал, совершенно искренне не понимая всей неуместности и неловкости своей шутки. Впрочем, так же бессовестно, черти, смеялись и все остальные.
– Так вы о дочке моей? – Кубышко наконец понял. И повернулся к их бригадиру. – ...Так... как же вы смеете, Краснов? Она ж – ребенок. Понимаете, – ребенок. И вы... Вы смеете отцу говорить такое. Это же... Это же дико! Или вы не понимаете?.. Вы же сами отец...
И вот теперь уже всем стало и неловко и стыдно. И бригадиру, Павлу Макарычу, тоже. Он ведь и ляпнул не подумавши, так, шутки ради. Ну, а ему-то, ему-то, «зятю»? И что он мог бы сказать Сергею Ивановичу в свое оправдание, что? Что он – ни в чем тут не виноват?..
– Бесстыдно, Краснов, – еще раз повторил обиженный и растерянный Кубышко. – Бесстыдно. Вы же сами отец...
И ушел. Ушел из бригады, так и не доделав дела до конца.
Вечером на танцах в клубе ее уже не было.
А на следующий день он, Максим, счел необходимым пойти к ним домой и объясниться с Сергеем Ивановичем. Он не хотел, чтоб Кубышко думал о нем как-нибудь плохо, очень не хотел этого. И не за что было, да и уважал он Сергея Ивановича.
На его стук вышла она. Удивилась:
– Вы ко мне?
– К Сергею Ивановичу. – Ему было виновато смотреть на нее. Но он все же спросил:
– У вас неприятности? Из-за меня?
– Да, папа не разрешил мне больше ходить в клуб.
Он рассказал ей, как все получилось.
– Я так и подумала, что папе где-то что-то сказали. Подождите, он скоро придет.
И она тоже в свою очередь виновато улыбнулась, что не может остаться тут с ним на улице – и тем самым нарушить запрет отца, и ушла в дом. А он стал ходить поблизости, курил и ждал Сергея Ивановича.
– ...Ничего вам не надо мне объяснять, – прервал его, чуть послушав, Кубышко. – Что вы можете мне сказать? Я же вас отлично понимаю. Вам стыдно, вы боитесь, что я плохо подумаю о вас, и вот вы пришли ко мне объясняться. А объяснять вам нечего. Понимаете? Нечего. ...Вот вам мой совет, если хотите послушать: уезжайте отсюда. Да-да, уезжайте, совсем. Вы – молодой, еще не испорченный, и вам сейчас... совсем-совсем другое, в общем, нужно. Просто необходимо. А это же, это же...
Он, Максим, был обрадован, что Сергей Иванович не сердится на него, будто гора с плеч свалилась: ведь сам он, в конце концов, ни в чем перед ним не виноват. Но он хорошо понимал сейчас и Сергея Ивановича: обиделся он на неудачную шутку их бригадира да и на всех на них вместе, глубоко и серьезно обиделся. И хотя, от обиды от этой, Сергей Иванович, конечно, перебирал, все-таки в главном, по большому счету, он был, наверно, и прав: есть, бывает в жизни черта, которой никому и нигде переступать не дозволено, – и Максим, слушая сейчас обидные слова Сергея Ивановича в адрес их бригадира и вообще всех ребят, и не соглашался в чем-то с Сергеем Ивановичем, но в то же время и понимал и оправдывал его. И еще он понимал, что – да, конечно, не для этой их совхозной жизни Сергей Иванович Кубышко, не каждый, видимо, может принимать то, к чему не привык.
– Серьезно вам говорю, и вы послушайте меня, – продолжал Сергей Иванович. – Не задерживайтесь вы тут долго, ни в коем случае. Вам надо учиться, вам нужно, просто необходимо сейчас другое общество, другая работа. И не в совхозе, конечно. Вот и все наши с вами объяснения. И не мучайтесь вы этой своей виной, ни в чем и ни перед кем вы не виноваты...
Вот тогда-то он, кажется, в первый раз всерьез и задал себе вопрос: а действительно, сколько вообще собирается он проработать в совхозе и что думает на дальнейшее: чем будет заниматься, куда в ближайшее время намерен путь держать?
Ему нравилась их Вторая бригада. Он быстро привык и привязался к ребятам, привык к своим обязанностям, работал охотно, в удовольствие. Но все равно чувствовал сам (как было это и в училище), что, хотя он и разбирается более-менее сносно во всей этой технике, душа у него к ней не лежит и руки его не «чуют» железо, как «чуяли» они его у Петра, у Ивана, у всех других истинных трактористов и комбайнеров.
По-видимому, все-таки было ошибкой, что он, боясь потерять год, пошел тогда в техучилище. Что-то другое, наверное, с большей силой могло захватить его. Да и мал ли он был – этот широченнейший мир вокруг, мало ли было в нем и всяких других возможностей, чтоб сразу и навсегда останавливаться именно тут и на этом единственном: на тракторной бригаде, на совхозе?..
Так что слова, сказанные Сергеем Ивановичем Кубышко, совпадали и с его собственными мыслями: он, Максим, и сам уже исподволь чувствовал, что рано или поздно, а надо ему будет уезжать. Хотя он и не имел представления, когда это он решится уехать и куда. Просто совершенно не представлял.
Завершилась уборочная, вывезли они наконец все зерно со своего тока, к половине октября закончили осеннюю пахоту. На центральную переезжали, кажется, в самый тревожный день того года: достигло пика обострение в Каире. Советское правительство направило весьма серьезное послание Эйзенхауэру, ожидался ответ Вашингтона на послание Москвы, а они тут в бригаде еще с утра отправили «бригадирский» вагончик с приемником (новые батарейки достали) – и до самого вечера оставались в неведении, как же развиваются события.
Было тревожно. Опасались прямого столкновения, опасались войны.
– Не нравится империалистам, ух как не нравится, что и в других странах жизнь не на ихнюю дорогу поворачивает, – зло говорил Петро. А в отношении войны, скрывая глубокую озабоченность, высказался неожиданно и тоже зло:
– А я, – говорил он, – и думать о ней не хочу. Заварится каша – без нас не обойдутся, призовут, тогда и хлебнем снова. Наверное, так и посгораемо в ней. А сейчас – не хочу и думать. Еще и та, с фрицами, по ночам снится...
Но это, он, Максим, понимал, как раз и было от глубокой озабоченности и глубокой тревоги. Он-то, Галушко, знал, что такое война.
О многом они в тот день говорили с Петром. Их ДТ, № 38, уходил последним с опустевшего стана. Чабаненко вел трактор, а он и Петро уселись сзади на санях, загруженных разной мелочью, курили на вольном воздухе и все одиннадцать километров вели свою беседу, переходя от темы к теме и все время говоря как бы об одном.
...– Слушай, объясни мне, Максим, отчего все-таки этот Фадеев застрелился, а? – спрашивал Петро о свежей, повергшей их тогда в недоумение новости. – Неужто только от цей проклятой водки? Умный же, грамотный, большой человек, писатель, говоришь, большой, член партии – и себе ж пулю в лоб! Чего ж ему-то, я не пойму, не хватало, чем же ему-то жизнь невыносима стала? Невжель правда, что тилько от алкоголя, а?..
И он, тот самый младозеленый Максим, пытался что-то и тут объяснить Петру, строил какие-то свои предположения. Хотя – что же мог объяснить он Петру, что он сам знал, и что понимал?..
Разве мог он тогда уже знать, что́ это такое, когда у художника и вообще у человека – тупик, и нет и не видится из него выхода, и не разорвать замкнувшуюся в себе самом цепь... Слишком рано было тогда ему это знать...
Ожидавшейся более интересной жизни центральная усадьба не дала. Наоборот, тут, среди сотен людей, где как бы растворилась и перестала существовать их Вторая бригада, он особенно остро почувствовал свое одиночество и необязательность своего пребывания тут.
Он жил теперь на частной квартире, у клубной библиотекарши, где, в их большом частном доме «местных куркулей», ему была отведена приличная отдельная комната. Столовался он тоже у хозяев, и весьма за умеренную плату. В целом было все хорошо, он был доволен хозяевами, их вниманием, их заботой. Было приятно и то, что старшая из двух дочек хозяев – Лида (опять Лида, и он, как говорится, не виноват, ему просто везло на твое имя), год назад окончившая десятилетку, ненавязчиво, но и откровенно оказывала ему знаки своего внимания. Не раз бывало, когда, вечером, он вдруг отрывался от книги или от своей тайной тетради и видел в своей комнате Лиду: она стояла у порога и близорукими большими черными глазами смотрела на него. Да, ему было приятно ее внимание, ему было хорошо от ее расположения к нему, но он не мог позволить себе, будучи их квартирантом, сделать хотя бы один ответный шаг. Единственное, что он мог и что делал, давал понять, что он благодарен ей.
Впрочем, кто знает, как развивались бы события дальше, останься он на всю зиму в совхозе и не чувствуй он так остро временности своего пребывания тут...
А временность пребывания в совхозе... Что ж, они многие чувствовали себя временными тут, особенно молодые: не все же, в конце концов, на всю жизнь они должны были приехать сюда.
Испортила настроение в совхозе в ту осень и непонятная история с премией.
По какому-то там существовавшему постановлению или положению им за каждый сданный государству сверхплановый центнер зерна полагалась премиальная надбавка. План был – одиннадцать центнеров зерна с гектара, а они дали на круг по двадцать шесть с половиной. И премия, как прикинула совхозная контора, ожидалась внушительная. Это был первый настоящий урожай на целине – урожай пятьдесят шестого года, первая такая премия, и конечно же, в совхозе все ждали ее. Да и когда пахали зябь, – трудная была пахота, мешали и солома и дожди, – совхозные руководители не раз подбадривали их: «Давайте, ребята, поднажмите. Допашем, а там и премия подойдет. Такую премию отхватите!..» И хотя трудно было, и устали, и от холода и дождей замучили чирьи, работали все азартно, остервенело. А те, кто были в совхозе с его основания и на уборке выработали хорошо, как те же Галушко и Чабаненко, могли рассчитывать на крупные премии. Конторские поговаривали: тысяч по десять-пятнадцать, а то и больше придется кому.
И вот незадолго до Октябрьской вернулся директор из Кустаная. Собрал узкое совещание. И по словам присутствовавших на нем (помбригадиров не приглашали), сказал, что премия, мол, конечно, им будет, уже начислена, но не такая, какую тут ожидали все.
Настроение, естественно, было испорчено. И поскольку ничего ясного – как? отчего? почему? и по чьему там решению или постановлению? – во всеуслышание сказано не было, пошли по совхозу самые разные толки. Всюду: у конторы, в бригадах, в столовой, в бане – разговоры только о премии. Злые, неприятные разговоры. И это как раз перед Октябрьскими праздниками, когда, по ранним наметкам, и ожидали все получить эту Большую премию. Кроме того, многие были просто без денег: очередную зарплату тоже не получали еще.
И вот то неприятно памятное утро 4 или 5 ноября. Уже часам к восьми потянулись к конторе совхозные. Было немало выпивших. Ждали директора. Надвигался явный скандал. И трудно было предугадать, чем все это кончится.
И вот тут...
И вот тут директор показал, что он довольно умен. Видно, все он, Коновалов, предчувствовал и что надо предусмотрел.
...И вот тут вышла к собравшимся бухгалтерша и объявила, что можно идти к кассе и получить премиальный аванс. Рублей по двести-по триста. Директора нет и не будет, но он распорядился выдать к празднику в счет премии деньги. Так что, кто желает – пожалуйста...
И этого ее выхода вполне, оказалось, хватило, чтоб разрядить обстановку и спустить пар. Коновалов все правильно рассчитал.
Бухгалтерша объявила и ушла. А следом за нею, сначала по одному, а потом уже и валом, обгоняя друг друга, двинулись и все остальные – занимать в кассу очередь.
А после Октябрьской выдали и премию. Не такую, как обещалась им раньше, но по полторы, по две и даже по три тысячи лучшим трактористам и комбайнерам пришлось. Так что все постепенно и успокоились.
И еще после, когда он будет уже в армии, получат они премию из директорского фонда, за прошедшую уборочную. Да только он, – вспомнилось вот, – свою тысячу не получит, хотя во время расчета и видел себя в ведомости: тогда ему сказали, что этих премиальных денег пока еще нет и ему их попозже вышлют, пусть сообщит адрес, но ему их так и не выслали, отмолчались, и только после, уже на запрос замполита, ответили, что бывшего помбригадира Русого, мол... лишили премии, за то, что он-де жег на полях солому. И ему только и оставалось, что изумиться да покрутить головой, отдавая должное изобретательности директора и его бухгалтерии: кто же там из армии приедет их проверять! Не говоря уже, конечно, об этой самой соломе: ее они там все и повсюду жгли со стерней, когда она мешала пахать.
Но, конечно же, не о премии этой речь, она вспомнилась просто так, к слову. Но вот тогда, осенью, когда закончился весь их летний полевой цикл работ и началось довольно однообразное и скучное межсезонье, он всерьез и задумался: а что же, действительно, дальше и сколько еще намерен оставаться он тут? Как загадка – далекая романтическая загадка целины, в рамках его недавнего поэтического интереса к ней, эта совхозная жизнь была хорошо ясна, остальное было бы просто работой. И его явно не удовлетворяла бы эта работа в совхозе, он уже знал это, и что-то совсем другое ему предстояло искать.
Еще во время пахоты, в октябре, их с Аликом вызвали на комиссию в военкомат. Сказали, что, хотя и есть отсрочка на целинников, их призовут, и велели тут же идти в парикмахерскую, остричься наголо. И он и Алик приняли это с готовностью: армия так армия, и раз служба неизбежна, то и не надо никакой отсрочки. Пошли в парикмахерскую, остриглись. Алику перед самой Октябрьской прислали повестку, и он сумел слетать к себе в Истру домой, повидаться с родными. А ему, Максиму, вдруг дали отсрочку на два года, к нескрываемому удовлетворению директора совхоза.
И тогда будто кто подстегнул его. Наперекор директору он добился-таки у него расчета, сам еще в ранее назначенный день явился в военкомат, опоздал – их партию уже отправили в Кустанай, но узнал, что его документы там, у представителя райвоенкомата, и на попутной машине уехал в Кустанай. Там-таки среди ночи он и нашел, где ночуют призывники, разыскал свой район, и все получилось, как надо: без лишних слов его внесли в список, передали «покупателям» из воинских частей его документы... и вот он уже в том, тоже памятном ему эшелоне призывников-целинников.
И вот опять: прошлое было позади, впереди – неизвестное будущее: через три года опять все начнется сначала. А пока... Пока – длинный состав из товарных вагонов-«телятников», двухэтажные дощатые нары в обоих концах вагона, в центре – железная круглая печка, раскаленная антрацитом до малинового цвета, и они – тридцать человек, вчерашние целинники и завтрашние солдаты, и нынешние их командиры – два сержанта-«покупателя», твердо скрывающие, где и в какой части предстоит им служить. Настоящее было: дни и ночи движения по замысловатому маршруту товарняков, с частыми, долгими стоянками, умеренные выпивки с негласного дозволения сержантов («Только не наглеть!»), разговоры, анекдоты, смех, хохот, а перед сном, когда все поутихнут, – задушевные песни вчерашнего тракториста Егора Фаризова из Аман-Карагая.
...Заснеженные первым снегом белые поля России, мчит и мчит по ним длинный состав из коричневых «телятников», светит малиновыми боками раскаленная печка, по обе стороны от нее на деревянных нарах, постелив под бока телогрейки и положив под головы вещмешки, лежат три десятка парней, каждый со своими скрытыми мыслями; и всех их, таких разных и еще по существу незнакомых, объединяет сейчас одно общее им простое и глубокое чувство от песен этого самого Егора:
...Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати...
И странное дело! Впереди были три года армейской службы, неизвестно какой и где, может, и вовсе трудной, а лично ему, Максиму, было все время так, будто он вступал в самую лучшую пору своей жизни. Будто он ощущал уже ее счастливый приход.
8
...Стояла, чуть склонив голову набок, и пристально смотрела на него. И вот тут, в этом ее взгляде, в какой-то мгновенной его глубине, он и узнал ее. Узнал, ничего-ничего совершенно не зная о ней.
Хотя чисто внешне он мог, наверное, и много раньше заметить ее.
– Отнесешь эти нашим соседям, – сказал ему днем раньше комсомольский бог части, когда он был у него в штабе, и он понес их, двадцать пригласительных билетов, вложенных в голубой конверт.
Этот крымский октябрьский день был и сухой и теплый, но пасмурный. А у них в цехе – ярко от ламп дневного света, и резко пахло ацетоном и красками. На его появление от рабочих столов поднялись женские, девичьи и мужские лица, и он, как это часто и бывало с ним в подобных ситуациях, сразу почувствовал себя скованным, застеснялся, и даже не столько женщин и девчат, сколько парней, тоже с любопытством смотревших сейчас на заявившегося сержантика. Он спросил, кто у них секретарь комсомольской организации, его спросили – зачем, он ответил, и девчата, явно обрадовавшись случаю прервать работу, сразу же окружили его, стали наперебой расспрашивать о вечере и откровенно подмигивали друг другу: видели, как смущается он. Наконец одна из них призналась, что секретарь – она, и он вручил ей билеты и, все так же смущенный, поспешил поскорее уйти.
Вечер этот был одним из мероприятий в их части по упрочению связей с гражданским населением. Бог уж там знает, как далеки были они тогда друг от друга и насколько ближе должны были стать теперь... но вот он, сержант Максим Русый, в самом конце второго года своей службы, две недели спустя после этого вечера, отыскал (к немалому своему удивлению: он думал, что она наверняка подшутила – назвала несуществующий адрес) – отыскал и улицу и номер дома (все оказалось в минутах ходьбы от части) и наугад постучал в дальнее от калитки, крайнее окно...
* * * *
Робея, он постучал тихо в это самое дальнее от калитки, крайнее окно – и, оказалось, угадал: это было ее окно. Лида отогнула занавеску, увидела его и скоро вышла.
Она узнала его. И удивилась, что он две недели помнил адрес. А потом они стояли, и он совершенно не знал, как себя с ней вести и что ему теперь вообще делать дальше.
Потому что прошедшие две недели уже подчинили этой Лиде его.
Все две недели, и с каждым днем все заметнее, не выходила она из его головы, и он, вспоминая ее: ее лицо, ее сдержанную, заметно лукавую полуулыбку, с какой она смотрела на него, и особенно этот ее первый пристальный взгляд, как бы призывающий его, – он, вспоминая эту новую знакомую Лиду, все время испытывал ощущение, что будто бы откуда-то давно уже знает ее именно вот такой. Что-то необъяснимое, неуловимое, но и давно-давно будто знакомое было в этом ее пристальном взгляде, особенно в какие-то мгновения – словно из самых ее глубин был этот взгляд, и ему недоставало теперь, казалось, может, одного лишь какого-то момента, чтоб уловить и узнать – что́ же такое знакомое увиделось в ней для него.
Конечно, если б он знал (она расскажет ему об этом позже), что тогда, в цехе, когда он отдал билеты и ушел, у них, у девчат, затеялся шуточный спор: чьим будет на вечере этот стеснительный сержантик, и она, Лида, сама не зная зачем, подхватила вызов затеявшей все первой среди них обольстительницы – Томки, и потом, на вечере, они с Томкой, продолжая затеянное, попеременно и приглашали его... возможно, знай он все это, он, может, и по-другому увидел бы и ее этот взгляд, и ее улыбку и не доискивался бы теперь каких-то далеких глубин, о т к у д а о н з н а е т е е. Но, к счастью или к несчастью, не знал он об этой их шутливой затее, и потому ничто из наигранного ими не мешало ему и помнить и думать о ней. И вот этот ее первый пристальный взгляд на него, ее скрытая, лукавая, но и со значением полуулыбка, ее спрятанные за спину руки и едва уловимое движение головой, как бы призывающее его к себе... во всем тут было для него в ней будто что-то знакомое, и он через это знакомое тоже будто откуда-то узнавал и ее. Эту совсем ему незнакомую приятную видную девушку в сером светлом костюме и модной нейлоновой кофточке, с редкими теперь у девчат и так идущими ей богатыми русыми косами.
А вообще же, конечно, она слишком хороша была для него, для «солдатика», да и был у нее, наверное, парень из своих, из гражданских. Это она просто так, развлечения ради на вечере, зачем-то подурачила его и даже назвала свой адрес, если, конечно, шутки же ради, не выдумала его. И все-таки он решил осмелиться и сходить к ней по этому адресу.
И вот она стояла теперь перед ним, эта самая Лида, к кому он все две недели и хотел и не решался пойти. Теперь она не была такой нарядной и модной, на ней было старенькое черное демисезонное пальто, на голове темный полушалок. В общем-то обыкновенная, ничего сверхъестественного, что ему там могло показаться. Но он был уже полностью во власти ее...
* * * *
И он и еще и еще приходил теперь к ее дому и стучал в ее окно. И они все часы его увольнения большей частью бродили тут же вблизи ее дома и его части, по малоосвещенным и безлюдным улицам и переулкам этой окраины, застроенной одноэтажными частными домами. И то говорили о чем-то, о чем там у них получалось, а то и подолгу молчали.
Потому что сразу же что-то не то и не так начинало складываться у них. И они оба и чувствовали и понимали это; и оба ничего не могли изменить.
Для него она с того самого первого взгляда ее не была просто хорошенькой новой знакомой, с кем можно было бы приятно проводить увольнения. Для него, – он ведь это сразу увидел, – для него она приоткрылась тогда с чем-то более глубоким в себе, чем-то будто знакомым и близким ему, что он как бы откуда-то давно уже знал; и вот теперь, когда они стали встречаться и что-то взаимное будто все больше и больше сближало их, ему не терпелось, чтоб она, эта вот его новая Лида, побыстрее и подоверчивее как-то там открылась ему, посвятила бы его во все свое самое-самое – и, конечно, почувствовала бы, поверила, что и он способен все-все в ней понять и принять. Не говоря уже о том, что сам он был готов на самую наисвятейшую откровенность и доверчивость.
Он даже и не подозревал, каким и наивным, и зеленым, и нетерпеливым он был.
Неисправимо доверчивый сам (и тут жизнь так ничему его и не научит), он и от других, с кем его близко сводила жизнь, всегда ждал такой же бесхитростной откровенности, такого же взаимного доверия к нему. И если встречал в ответ чью-то сдержанность, тем более недоверие или отчуждение, то и не понимал этого, и в глубине всерьез обижался. Ему лично всегда казалось, что его собственные бесхитростность и доверчивость должны были быть сразу видны.
Так же было у него теперь и с Лидой.
Тем более, что их обычные разговоры стали все больше и больше походить на игру в одни ворота.
Каждый раз, когда ему случалось говорить о себе, Лида молча и, кажется, с интересом слушала его. Но потом, если он обращался теперь уже к ней, спрашивал о чем-нибудь даже незначительном, что касалось лично ее, она чаще всего отмалчивалась и опускала глаза. Ни разу, или почти ни единого разу не спросила она его ни о чем, что касалось бы его самого, ни разу не поддержала такой вот его разговор. Она просто слушала его и молчала. И фактически ни слова о себе; так, разве что самое общее. И вот это ее умолчание, ее ощутимая отгороженность в чем-то своем от него в глубине и обижали его.
К тому же он никак не мог понять и причины ее сдержанности и замкнутости с ним. Певунья в цехе (он это знал), звонкая хохотушка со своими фабричными, она при встрече с ним как-то сразу менялась, становилась и сдержанной и замкнутой, и когда он приставал к ней с расспросами – что с ней и почему она с ним такая вот замкнутая, она только закусывала губу и опускала в землю глаза... И вот так они иногда подолгу и ходили по своим темным улицам и переулкам, маясь от тягостности своих отношений и не зная, как им самим себя изменить.
А он потом, вечерами после отбоя, уединившись, по обыкновению, в комнате ротного, переживал ее молчание с ним и еще и еще – и опять и опять адресовал ей полные обиды и непонимания очередные свои стихи. Зная, конечно, что ей-то, Лиде, эти его стихи никогда не читать...








