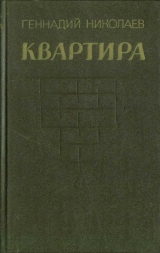
Текст книги "Квартира (рассказы и повесть)"
Автор книги: Геннадий Николаев
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Долго, уныло и томительно гудело и щёлкало в трубке. Долбунов, отставив трубку от уха, глядел прямо на Сергея, но глаза его, тёмные, навыкате, с жёлтыми обвисшими мешками и красными припухшими веками, выражали одно лишь застывшее в них страдание. Глядел и не видел, смотрел сквозь него, думая о своих бог весть каких делах. Нохрин отчуждённо смотрел в окно, глаза его тоже были где-то далеко-далеко.
Один тут был у Сергея союзник и доброжелатель – Киндяков. Видно, он и настоял, чтобы нарушили привычный ход распределения жилья и пригласили Сергея для разговора. Не друзья, не приятели, Киндяков в отцы ему годится, никаких между ними не было прежде отношений – только раз, на пуске дома по улице Петра Лаврова пришлось как-то вместе тушить пожар, вытаскивать из подвала полуугорелых девчат-отделочниц. Чем-то, видно, запал ему Сергей в душу с того самого раза, потому что стал выделять его Киндяков при встречах, руку жать с особой крепостью, на собраниях отмечать…
Наконец откликнулась трубка, заговорил и Долбунов. Он коротко, усталым голосом сообщил какому-то Василию Петровичу, что на кооператив прошёл Метёлкин Сергей Иванович, каменщик, комсомолец, семья – три человека. Василий Петрович, видно, записал данные, сказал "добре", и Долбунов повесил трубку.
– Всё, Метёлкин, можешь идти заколачивать на кооператив, – усмехнувшись впервые за весь разговор, сказал Долбунов.
Киндяков и вслед за ним Нохрин пожали Сергею руку. Долбунов подал свою вялую горячую ладонь и сморщился, покачав плешивой головой, – зуб донимал его немилосердно.
3
Сергей вышел в коридор, оцепенело застыл возле старого, побуревшего от солнца и пыли плаката.
ПРОГУЛЯЕШЬ – ПОТЕРЯЕШЬ!
Дневную зарплату,
Премию,
Право на путёвку в д/отдыха и санатории,
Право на материальную помощь,
Право на отпуск в летнее время,
Очерёдность получения жилплощади,
А самое главное – потеряешь УВАЖЕНИЕ коллектива!
Он машинально читал, без конца перечитывал текст плаката, а сам думал, хотя думаньем это тоже нельзя было назвать – просто приходил в себя, свыкался с новым настроем, прислушивался к быстро нарастающему тиканью внутренних часов-ходиков, пущенных несколько минут назад в кабинете начальника. Он думал не о том, где займёт или раздобудет деньги, а о том, что вот с этой минуты вся жизнь его, и Надюхи, и отчасти Оленьки должна в чём-то измениться, стать строже, подчиниться одной главной задаче. Он ещё не знал точно, в чём именно будут заключаться эти перемены, бросит ли временно учёбу в институте, пойдёт ли на поклон к тестю, согласится ли на давние зазывы Мартынюка на вечернюю халтуру или попробует подыскать что-нибудь самостоятельно, – не об этом думал сейчас Сергей, стоя перед старым и пыльным плакатом «Прогуляешь – потеряешь!» Он думал о том, что хоть он и устал уже изрядно от совмещения работы с учёбой, но что всё это были семечки по сравнению с тем, что предстоит, и к этой новой тяжести надо было как-то примериться, хотя бы мысленно, прикинуть свои силы и возможности своей маленькой семейки. Очень не хотелось ему, чтобы и Надюха впрягалась в этот тяжёлый воз, не хотелось по причинам, далёким от сентиментальности, скорее по соображениям мужского престижа: что же он, муж, отец своей дочери, глава семейства, не сможет заработать себе на квартиру?! Стоит только Надюхе пойти вместе с ним на вечерние заработки, так сразу же надо будет устраивать в чьи-то надёжные руки Оленьку. А куда ещё более надёжно, как не ж бабушке, – значит, тестю новый повод для разговоров. Он просто-напросто слегка подрастерялся в первый момент и теперь пытался перебороть растерянность, чтобы выйти к Надюхе с какой-то хоть маломальской уверенностью на физиономии, ведь Надюха ждёт, волнуется. К тому же она не знает про новый срок…
Кто-то мягко взял его за руку, он вздрогнул – Надюха.
– Ну что?
Он не умел врать, не умел утаивать, так же как и она. Всё, что за душой, – на лице. И Надюха тотчас поняла по его лицу больше, чем он мог сказать ей.
– Согласился? – только и спросила она.
Он кивнул, и в кивке его не было ни радости, ни торжества, а была лишь напряжённость. Напряжённость и ожидание. Может быть, даже нечто жалобное мелькнуло на какой-то миг в его глазах, потому что Надюха, постояв молча с закушенной губой, вдруг посветлела лицом, встряхнула его руку, сказала с искренней лёгкой уверенностью:
– Ну и правильно! Достанем денег – займём, заработаем! Зато квартира будет, понимаешь, Серёга, наша, своя, отдельная!
Он не мог так быстро принять её лёгкую веру, и она, видя его сомнения, ещё крепче тряхнула его руку, мягкой ладонью примяла торчавшие вихры. К Сергею вдруг разом вернулось прежнее спокойствие. Они посмотрели друг другу в глаза и неожиданно рассмеялись.
– Ничего, нас двое, выплывем! – сказала Надюха.
– Ты всё-таки молоток у меня! – похвалил её Сергей.
– А ты сомневался?
– Что ты! Но имей в виду, не к пятнадцатому июня, а к первому надо сдать денежки.
– А я уже знаю, секретарша сказала, пока ты у Дол-бунова сидел. Она, между прочим, обещала подыскать заказчиков, к ней часто обращаются.
– Ты что, тоже хочешь работать вечерами?
– Конечно, руки не отвалятся.
– Ой, не хотелось бы, – скривился Сергей.
– Почему? – удивилась Надюха.
– А куда Оленьку?
– Ну, неужели мама не посидит с ней какой-то месяц? Я об этом даже и не думаю.
– Ты не думаешь, а я думаю.
– Из-за отца?
Сергей хмуро кивнул. Надюха посмотрела жалостливо, как на больного.
– Какой ты, Серёжка! Уже, кажется, не раз говорила: отец – не твоя забота. Вы разные, под одной крышей вам нельзя, ну и ладно, я же не спорю, ушла же с тобой от отца… Его не переделаешь, да и он по-своему неплохой человек. Тяжёлый, да, а кто лёгкий? Ты лёгкий? Я лёгкая? Так что давай не будем. Денег мы у него просить не станем, нечего и надеяться. Позавчера ездил в Гореловское садоводство, дача вроде бы уже на мази. Если в этом году сорвётся, мама как-нибудь уломает рублей на двести-триста.
Надюха потянула его из коридора на улицу и во дворе сказала с нескрываемым торжеством:
– Если хочешь знать, я уже прикинула, тысячу можно собрать прямо с ходу!
– Шустра! – рассмеялся Сергей.
– А ты не смейся. Вот, смотри, завтра получка: сто пятьдесят без квартирных – это раз. Магда Михайлина даст триста, – загнула Надюха второй палец, – два!
– Что, уже говорила с ней?! – поразился Сергей.
– Конечно! Это два, – продолжала торжествовать Надюха. – У мамы есть заначечка, точно знаю, к совершеннолетию Оленьки по пятёрке откладывает – там немного, ну, рублей сто двадцать, наверное, собралось. Это три. Пятнадцатого мая аванс – тоже рублей сто пятьдесят. Это четыре. Считаешь? Я-то считаю: семьсот двадцать, так? У девочек из бригады по полсотни наверняка подстрелю. Это, считай, ещё двести пятьдесят. Вот тебе и тысяча.
– Шустра! – повторил довольный Сергей. Пока она считала, он тоже шевелил мозгами, накручивал, как на арифмометре, и теперь, напялив каску, тоже принялся загибать пальцы:
– У Кузичева сотни две – раз, сотни три ссуда в КВП – два, халтурку какую-нибудь организуем рубликов на триста – это три, сотни три-четыре отец пришлёт – четыре. Вот тебе и вторая тысяча! А уж пятьсот-то сами набегут.
Надюха прижалась было к его плечу, но тут же отстранилась и, засмеявшись, отряхнула рукав кофточки.
– Я теперь управленческая, можно сказать, начальство, с работягами не знаюсь. Ой, Серьга! Какая у тебя куртка грязная! Сейчас только заметила. Захвати-ка её домой, прополощу хоть.
– Ну да, – отмахнулся Сергей, – не один час мыть. Ты лучше скатайся-ка нынче к родителям, попробуй батю расколоть.
– Да я уже маме позвонила, чтобы за Оленькой заехала, а я, – она помялась, – надо тут в одно место.
– Куда это? – насторожился Сергей.
– Ага! – Надюха рассмеялась. – Проверочка! Да нет, Магда просила заскочить к ней, что-то она там хочет мне показать.
Они вышли из затенённого двора на улицу. Яркое солнце висело над крышей противоположного дома, слепило своей предвечерней яркостью. Где-то тарахтели отбойные молотки, с Литейного доносились грохот и лязг транспортного потока. Они стояли молча, ошеломлённые этим внезапно ярким солнцем, шумом и выпавшей на их долю заботой, которая внесла в их жизнь не только тревогу, но и ещё что-то, к их удивлению, светлое и пронзительное, что-то такое, что сблизило их ещё больше за эти несколько минут.
Надюха, глядя на него растроганно, с любовью, провела рукой по его лицу.
– В институт поедешь сегодня?
– Вряд ли. С институтом вообще, наверное, нынче не получится.
– Ой, Серьга, не бросай учёбу, год же пропадёт! Уже столько отмаялся, как-нибудь выкрутимся. Я готова день и ночь работать, только не бросай, Серьга!
И столько горячего, искреннего желания прозвучало в её голосе, с такой мольбой смотрела она на него, что Сергей согласился:
– Ладно, посмотрим. Зачёты, конечно, сдам. Осталось-то всего ничего. Третьего мая – диамат, "Роль труда" Энгельса. Говорят, у всех спрашивают.
– Ну вот видишь, – засияла довольная Надюха. – Да я ни капельки не сомневаюсь: всё ты успеешь, всё сдашь. Ты же у меня, – она понизила голос, и он прозвучал с ласковой хрипотцой, – вумненький, ми-иленький.
Тут, возле арки, они и расстались. Надюха пошла обратно в управление, где временно работала в группе снабжения. Сергей – на свою стенку, кончать раствор. Такой у него был закон: класть, пока из ящика не будет выбрано всё подчистую. Можно бы, конечно, вывалить остатки на леса, с лесов спихнуть на землю, как это делают иной раз каменщики, но Сергею всегда было жалко выбрасывать материал. И не потому, что он такой уж совестливый или сознательный, нет, тут, скорее, сказывалась хозяйская жилка в его характере, проявлялся рационализм будущего инженера: раз уж приготовили для тебя раствор, подняли на пятый этаж, пусти его в дело, тебе же выгодно, на сдельном аккорде, не повременно работаешь. Но точно так же ему было жалко выбрасывать раствор, когда работал и повременно, – было тут какое-то смутное чувство связи, слиянности его, Сергея, рук, ног, глаз с этой наращиваемой стеной, с дырчатыми красными кирпичами, с мастерком и раствором. Как будто не просто ведро или полведра неживого цементного месива выбрасываешь на свалку, а часть самого себя, часть своей не пущенной в дело жизни.
4
Нынче раствора оставалось ещё много, и Сергей взялся за него с весёлым ожесточением. Кирпичи так и замелькали в его руках. Он перешёл на ускоренную кладку: набрасывал раствору на пять-шесть, а то и восемь кирпичей и шлёпал их друг за другом, врастяжку. Такую кладку нельзя было назвать халтурой, допускалась нормами, но сам каменщик не мог долго вынести сумасшедшего темпа, сбивался с дыхания, с руки, стену уводило, кособочило – невыгодно было гнать с такой скоростью, на кладке выгоднее было идти средним шагом. Сейчас Сергею надо было крепко подумать, а раз крепко подумать, то и работу надо пускать вразгон, потому что как работается, так и думается – прямая связь. Хотя… думай не думай – сто рублей не деньги, это уж точно!
После разговора с Надюхой так тепло сделалось у него на сердце, такая щемящая струнка заиграла в душе, что, пока шёл до своего участка, пока лез по лесам на стенку, пока размешивал загустевший в ящике раствор, тёплая волна так и бродила в нём и сама собой складывалась в нём твёрдая вера в то, что будет у них квартира, а вместе с верой возникала как бы клятва перед самим собой: пластом ляжет, ни сил ни времени не пощадит, а сделает так, чтобы Надюха как можно меньше утруждала себя вечерними работами. У неё и так со здоровьем что-то неладно: сыпь высыпала на руках – то ли экзема, то ли аллергия какая-то от краски, – короче, сияли временно с отделочных работ, перевели в управление. А он здоров как конь, хоть круглые сутки паши – выдюжит.
Две возможности имел он перед собой: занять и заработать. Насчёт займа всё было более-менее ясно, а вот насчёт заработка – сплошной туман. Иные запросто сбивались по двое, по трое, ходили вечерами – кто по квартирам, кто по гаражам, белили, красили, клеили обои, циклевали паркетные иолы, рыли погреба и смотровые ямы в гаражах, перекрывали крыши, А ему всё было некогда: после армии женился, кончил курсы каменщиков, родилась Оленька, поступил в строительный на заочное – с утра до ночи круговерть, не до халтуры. Дома, у тестя, все ремонты всегда сами делали, на пару с Надюхой, правда, и тесть помогал, тоже мастер на все руки, хотя сноровка, конечно, не та, да он вообще медлительный, тяжеловатый на подъём. Сергей с Надюхой побелку, поклейку обоев делали, а он уж всегда красил – с толком, с чувством, с расстановкой. В очках, в тапочках на босу ногу, в старом пижамном костюме, ещё кепку козырьком назад напялит и возит кистью. Сопит, бормочет себе под нос и язык высунет от удовольствия. Тёща, Ольга Трофимовна, бывало, терпит, терпит его художество, потом молча возьмёт кисть и, пока он на работе, быстренько докрасит полы или окна. А Сергей с Надюхой отлично срабатывались, особенно обои клеить ладно у них выходило: почти без слов, с одного взгляда понимали друг друга, и так ходко да красиво ложились полосы – одно загляденье.
У Сергея вообще руки золотые: и по газу, и по сантехнике, и по электрике, и плитку облицовочную кладёт – дома всё сам делает, а вот на заработки ещё ни разу не пробовал выходить. Теперь придётся: один путь заработать, потому что сколько ни занимай, а отдавать придётся быстро. Людям тоже денежки нужны не только завтра и послезавтра, но и сегодня, сейчас, так что как это ни будет огорчительно для Надюхи, а придётся, видно, перенести на будущий год зачётную сессию и экзамены и все силы бросить на квартиру. Только так, иначе не выходит.
Кончив раствор, он тщательно очистил ящик, оббил молотком и, собрав инструмент, сунул в свой рабочий чемоданчик. Кузичев и Мартынюк тоже уже сворачивались – рабочий день кончился уже полчаса назад, они тоже, видно, добивали раствор. Кузичев нынче поднялся выше всех, Мартынюк шёл за ним. Сергей приотстал из-за вызова в управление. Ну, два ряда – это, конечно, чепуха, завтра нагонит. Вообще, когда в бригаде не крохоборствуют, не подглядывают друг за другом косым взглядом и все вкалывают на совесть, то такая работа самое милое дело: и подмочь можно, когда человек отстаёт, и отпустить по срочному делу или за пивом, если тяжеловат с утра и требуется поправить здоровье. В кузичевском звене так и было заведено: ни сам Кузичев, ни Мартынюк, ни Сергей не крохоборничали, не заводили склок из-за двух-трёх лишних кирпичей – делили заработок поровну, хотя почти каждый раз при дележе Кузичев делал Мартынюку втыки за разгильдяйство: тот не промах был заложить за воротник, и из-за этого нередко случались в работе сбои. Но Мартынюк был хорош тем, что всегда чистосердечно признавался в своих грехах и так горячо и искренне ругал себя и клялся, что "завязывает", что Кузичев, чьё слово действительно было золото, молча, с отвращением плевался и лишь махал рукой.
Теперь, спрятав инструмент, они собрались все трое возле кузичевской стенки выкурить на прощанье по сигарете и ещё раз прикинуть глазом общую дневную выработку. Сергею же особо нужна была эта последняя перед расставанием минута, чтобы поговорить насчёт денег и халтуры. Он и начал без всяких околичностей: рассказал про кооператив, про то, кто как себя вёл в разговоре с ним в долбуновском кабинете, и сразу – к делу: попросил у Кузичева сотни две-три до осени. Кузичев, задумчиво смотревший на раскинувшийся перед ним город, перевёл на Сергея глаза – они у него были серые, льдистые, тяжёлые.
– Сотню дам, – сказал он, не раздумывая. И не счёл нужным объяснять, почему не может дать больше.
Сергей знал – такой уж он человек, Кузичев: если бы мог дать больше, глазом не моргнув дал бы. Значит, не может. К Мартынюку обращаться было бесполезно – деньги у него не держались: приходили легко и так же легко и уходили. Он постоянно подрабатывал, почти каждый вечер бегал по квартирам, сшибал пятёрки, трояки, десятки. И у него имелась уйма всяких вариантов на примете. С первого дня их знакомства он то и дело подбивал Сергея на совместные выходы, но Сергей отказывался – был занят своими делами, к тому же в душе он брезговал связываться с Мартынюком, делишки его казались мелочными, копеечными. Теперь приходилось обращаться…
Мартынюк оживился, полез по карманам куртки, среди стёртых бумажонок нашёл одну, разобрал с трудом адрес, ткнул Сергея в грудь.
– Во! Давно в заначке, одному тут делать нечего – вдвоём надо. Печь вынести, голландку. Пошли, гроши пополам.
– А сколько дадут? – спросил Сергей.
– Посмотрим, прицепимся, – уклончиво сказал Мартынюк, и карие глазки его, вдавленные, меленькие, заблестели, как перед выпивкой.
– Сходи, – обронил Кузичев, хмурясь то ли от ветра, то ли от своих каких-то невесёлых мыслей.
Из люка вылез Ботвин. Левой рукой, локтем он прижимал папку, правой держался за поручень. Нос у него был фиолетовый, под цвет берета, и а копчике висела простудная капля. Он то и дело смахивал её рукой, по капля появлялась снова. Обойдя стенку, он записал выработку, помараковал с карандашом над блокнотом, стоя в сторонке и шмыгая носом. Кузичев показал Сергею на него глазами:
– Спроси. Может, даст адресок.
Сергей подумал: чем чёрт не шутит, за спрос не дают в нос, и подошёл к прорабу.
– Юрий Глебыч, помогите в одном деле.
Ботвин посмотрел на него рассеянно, моргнул и словно сморгнул его речь – ни да, ни нет, точно так же сопит, как и сопел.
– Поможете?
– Ну, ну, говори, я слушаю, – монотонно откликнулся Ботвин. Голос у него был глухой, сипловатый, как у всех работающих на открытом воздухе.
– Кооператив выделяют, так денег надо. Подзаработать бы, вечерами. Может, у вас есть где?
– При одном условии, – проворчал Ботвин.
– Каком?
Ботвин указал карандашом на Мартынюка:
– Без него.
– А что?
– А то, чтоб без халтуры. Тебе могу доверить…
Сергей пожал плечами: дескать, это дело не его, хотя, возможно, прораб и прав. И тут же почувствовал укол совести: Мартынюк к нему со всей душой, как к своему товарищу, а он, Сергей, таится, как бы замышляет что-то против Мартынюка.
– А он, что, подводил вас?
Ботвин неопределённо повёл сырыми, нездоровыми глазами и, наклонив голову, отчего берет перевалился в ту же сторону, сказал, понизив голос:
– Есть одна семья. Старик – профессор истории, друг моего отца. Сын – инженер, невестка – пианистка. Интеллигенты. У них четырёхкомнатная, огромная квартира, хотят сделать косметический ремонт, плитку в кухне и ванной. – Он вдруг умолк, задумался и, помолчав, спросил: – Может, на пару с женой? Или с Кузичевым? Смотри. Хочешь, зайди к ним, посмотри, тут рядом. Адрес дам и записку.
Сергей поглядывал на Мартынюка. Тот, казалось, так и приплясывал от любопытства, вострил уши, не спуская глаз с Ботвина. Но услышать что-либо было невозможно – Ботвин говорил тихо, к тому же дул сильный боковой ветер.
– Ну? – спросил Ботвин. – Писать?
Сергей кивнул. "Бог с ним, с Мартынюком, перебьётся на своих печках, – подумал он. – Всё равно пропьёт, а тут квартира горит…"
Ботвин написал короткую записку, вырвал лист из блокнота, протянул Сергею.
– Смотри, только с моим условием. Проверю. Если подведёшь, приду, сверну работу. Ты меня знаешь.
Да, Сергей знал: из интеллигентов Ботвин, вежливый, ругани не услышишь, но с принципами и твёрдый, вежливостью своей так проймёт – хуже, чем руганью.
Осторожно, как-то по-стариковски ставя одну ногу к другой и чуть пережидая после каждого шажка, Ботвин полез вниз по лестнице. Про него говорили, что ребёнком он пережил блокаду и потому такой хилый. Хилый-хилый, а целый день не присядет, лазит по этажам, раньше всех приходит, позже всех уходит, дотошный, въедливый, упрямый.
Сергей сунул сложенный листок в боковой карман и вернулся к стене, возле которой докуривали сигареты Кузичев и Мартынюк. Кузичев лишь прищёлкнул губой, зато Мартынюк набросился без всяких церемоний:
– Ну что, адресок дал? Квартира? Покажи.
Кузичев равнодушно отвернулся. Сергей похлопал по карману, где лежал листок, и не без смущения отшутился:
– Военная тайна. У сумасшедших одних потолок обвалился.
– Ну, ну, – надулся Мартынюк, но тут же и отошёл, такой у него был характер, вроде бы лёгкий. – Шут с тобой! Мне эти квартиры во уже где сидят: месяц на одном месте шарашиться. Я люблю мелкую работёнку: час-два – и на бутылку наскрёб. Верно, Кузьмич?
Кузичев вместо ответа сплюнул через стенку.
– Все, кто куда, а я в сберкассу, – сказал он как бы нехотя.
Это была его любимая присказка, он не уставал повторять её каждый день, и всякий раз "в сберкассу" означало разное: домой в конце дня, в столовую во время перерыва, бригадир зовёт в прорабскую – тоже в сберкассу. Кто куда, а Кузичев, разумеется, в сберкассу. По годам он был самый старший, за пятьдесят, тихий вроде бы, смирный, но Сергей-то знал, какая пружинища сидит в нём. Как-то психанул из-за цемента, который Мартынюк хотел отдать за бутылку рыскавшему по стройке частнику, – так схватил Мартынюка за грудки, что чуть было не столкнул с лесов в пятиэтажный провал. Еле-еле Сергею удалось разжать его каменные пальцы. А вообще-то хороший мужик Кузьмич, справедливый. Раньше, говорил, агрономом работал в Калининской области, это ещё когда по мясу и молоку перегоняли. Ходил чего-то там доказывал, права качал. Снимали его, выговоры лепили, на заседаниях драили за строптивость – держался, отбивался, не уходил из совхоза, а потом плюнул, уволился – и в Питер, к дочери. Сначала подручным каменщика, потом каменщиком поставили. И тут тоже сцепился в первое время с начальством из-за перебоев: то раствора нет, то кирпич не подвезли, то кран стоит, неисправен, то пятое, то десятое – ругался, говорят, только перья летели. А потом вдруг смолк, притих, всё молчком, ни на кого не смотрит, вроде ни до чего нет дела. Отстоял свои восемь часов – и с приветом! Рыбку на Неве ловит, коту на радость… "Кто куда, а я в сберкассу".
Мартынюк ткнул Сергея в грудь, в то место, где лежала записка Ботвина.
– С этим ты сегодня всё равно не начнёшь, только сговоришься. Давай сбегаем на печку, тут рядом. За вечерок выкинем.
– В библиотеку надо, книжку взять, – как бы оправдываясь и не желая лишний раз обижать Мартынюка, сказал Сергей.
– Ты мне мозги не пудри! – вдруг окрысился Мартынюк.
– Честно! Третьего мая зачёт, а у меня ещё и книжки нет.
– Ну, смотри, – обиделся Мартынюк, – я же не клеюсь к тебе, ей-богу, нужна мне твоя квартира, как зайцу бубен.
– Ну, хорошо, давай так: я захожу, смотрю квартиру, – Сергей похлопал себя по карману, – а ты меня ждёшь внизу. Потом идём выбрасывать печь. Замётано?
– Ну вот! – Мартынюк, беззаботно всхохотнув, побарабанил себя по животу. – Живём, Пашка Мартынюк!
Они ударили по рукам. Кузичев, насмешливо следивший за их разговором, наставил на Мартынюка палец.
– Смотри, Пашка Мартынюк, завтра чтоб с утра на стенку. Понял?
Мартынюк вытаращил вдруг порыжевшие глаза, истово и неверно перекрестился:
– Вот те крест, хоть в бога не верю.
– Пригляди, Сергей, – наказал Кузичев и пошёл вниз.
За ним, кривляясь и передразнивая важную, неторопливую поступь Кузичева, направился Мартынюк. Сергей чуть выждал, бросил прощальный взгляд на город, праздничный, яркий в этот солнечный вечер, и заспешил вслед за ними. Надо было забежать в управление, предупредить Надюху, что задержится, наверное, допоздна.
5
Надюха думала, что они поедут трамваем или метро, но, когда они вышли из-под арки на улицу, Магда уверенно направилась к такси, стоявшему у бордюра. Надюхе вдруг вспомнились и разговоры женщин в коридоре про недоступную и непонятную им страсть Магды к такси, и её упорные ежедневные переговоры по телефону с диспетчерами, и случаи, когда в последнюю секунду перед началом работы она подкатывала на такси к самому подъезду управления, и все глазели из окон (на первом этаже!), как, с треском распахнув дверцу, она круто, всем корпусом, поворачивалась на сиденье и сначала выбрасывала округлые, как кегли, ноги в лаковых сапогах-чулках, а уж потом тянула за собой вечно набитые чем-то сумки. Надюху всё это вдруг так поразило, что она, поймав Магду за руку и придержав её перед дверцей, спросила придушенным голосом:
– Ты что, каждый день на такси?
Магда взглянула на неё, как на полоумную, но тотчас снисходительно усмехнулась и, закатив глаза, сказала со вздохом:
– Иначе не получается.
Они выехали на Литейный, повернули на улицу Пестеля, а потом помчались по набережной Фонтанки на низкое слепящее солнце. Шофёр опустил противосолнечный щиток, и тень надвое разделила его лицо. Протёртое лобовое стекло ярко осветилось, сквозь него трудно было смотреть – всё казалось затянутым сияющим желтоватым дымом. Магда, сидевшая впереди, нацепила тёмные очки в массивной, отделанной перламутром оправе. Вид у неё был озабоченный. Какая-то сложная и тайная работа совершалась в её голове, велись какие-то расчёты, делались прикидки вариантов, плелись хитроумные планы. Она шевелила губами, и чёрные дужки её выщипанных бровей вдруг резко приподнимались из-за оправы.
Надюха беззаботно поглядывала по сторонам – до самого Магдиного дома, до того момента, когда Магда выложит обещанные триста рублей, можно было расслабиться и ни о чём не думать. Просто ехать по улицам вечернего Ленинграда и глазеть, тем более что поглазеть было на что – город ей никогда не надоедал.
Там, на той стороне Фонтанки, в длинном ряду приземистых, словно сцепленных в один причудливый состав зданий с разными фасадами, были дома, на которых Надюхе довелось работать, и теперь, проезжая мимо, она легко находила их и смотрела на них с таким же тёплым чувством, с каким смотрит добрый врач на бывших своих пациентов, возвращённых к жизни. В отделочницы она пошла сознательно, сама, по собственному желанию, решив, что возвращать молодость любимому городу – занятие ничуть не хуже, чем, скажем, лечить или обучать грамоте. Да и не очень-то её, окончившую среднюю школу с четырьмя тройками в аттестате, тянуло в институты. Отец и мать прожили жизнь рабочими и не настаивали на том, чтобы дочь обязательно имела высшее образование. Отец, так тот даже прямо высказался – дескать, нечего время терять, пусть работает, скорее человеком станет. Мать, по своему обыкновению, отмолчалась, но молчание её было красноречивее отцовских слов – устала тянуться, копейки считать, давай, доченька, впрягайся и ты, помогай. Надюха и не маялась, не переживала, как некоторые, куда пойти, – ей повезло: работать в РСУ её надоумил старый друг отца Иван Григорьевич, инженер по технике безопасности ремонтно-механического завода.
Иной раз совсем мало надо человеку, чтобы принять очень важное жизненное решение. Когда человек сам нацелен на какое-то дело, которое кажется ему самым интересным, самым важным, то тут, конечно, другой разговор, но когда ты, как в сказке, стоишь на развилке множества дорог и не знаешь, какую из них выбрать, то тут-то и бывает, что, куда дунет ветер, туда и пойдёшь, надеясь бог знает на что. Так получилось и у Надюхи: Иван Григорьевич, коренной ленинградец, влюблённый в свой город, как-то был у них вечером в гостях и за ужином принялся расхваливать ленинградских строителей-ремонтников. Дескать, вот люди заняты действительно нужным и благородным делом: омоложением старого Питера, – вот, дескать, куда надо стремиться нашей молодёжи – и заработок приличный, и город можно узнать как следует, не по учебникам, и, так сказать, с историей лоб в лоб.
Запал этот разговор Надюхе, стала она поглядывать на – здания с пустыми окнами, окружённые временными заборами, стала приглядываться к людям в заляпанных известью телогрейках и тяжеленных кирзовых сапогах. А потом как-то насмелилась и затеяла разговор с одной из молодых женщин-отделочниц: как, дескать, живётся-работается на капиталке. Женщина та, хоть и ворчала и ругала свою работу, но, когда Надюха спросила её, почему она в таком случае не переходит на другое место, задумалась и ответила серьёзно: "А где я ещё столько заработаю? В магазине? Так там для этого" поди, воровать надо, ежели совести нет. Тут, девонька, работа только для глаз грязная, а для души – чистая, нужная. И людей не хватает. Уйти никак нельзя, жильё-то сдавать надо". Надюха сказала, что хотела бы тоже устроиться отделочницей, но не знает, примут ли без специальности, с одним аттестатом зрелости. Женщина осторожно, чтобы не испачкать, взяла её за руку и молча повела за собой через копаный-перекопанный двор дома.
В тёмном, ободранном, пахнущем кошками подъезде они вошли в квартиру на первом этаже, и женщина подвела её к двум спорившим мужчинам. Один из них – небритый, в замызганной рабочей робе и сапогах – кричал, размахивая руками, другой – в болоньевом плаще, видавшем виды, и сине-буро-малиновом берете лепёшкой – монотонно возражал, упрямо склонив набок голову. Первый, как вскоре выяснилось, был бригадир Пчёлкин, второй – прораб Ботвин. Женщина бесцеремонно вмешалась в их разговор и, показав на Надюху, сказала, что вот привела работницу. Разговаривал с ней прораб вежливо, по-интеллигентски обращаясь на "вы" и внимательно, терпеливо выслушивая сбивчивые ответы. Пчёлкин смотрел на Надюху с каким-то жалостливо-презрительным выражением на своём костистом, измождённом лице. Ботвин неторопливо, основательно объяснил Надюхе, куда пойти, к кому обратиться, какое написать заявление и какие иметь при себе документы. Когда Надюха, довольная таким внимательным подходом, распрощалась с прорабом и бригадиром, женщина, приведшая её, вывела Надюху во двор и на прощанье сказала: "Устраивайся, не пожалеешь. У нас народ хороший, не ханыги". Эти слова развеяли последние сомнения, и в тот же день Надюха сходила в РСУ, оттуда – в трест. Её направили на курсы с отрывом от производства, после которых уже как маляр она была поставлена на отделку квартир в доме на Фонтанке, в комплексную бригаду Пчёлкина. После того дома было ещё два, тоже на Фонтанке, в том же районе, а потом бригаду перебросили на отделку фасада казармы – тут-то она и познакомилась со своим Серьгой. Тропка, на которую её качнуло от слов Ивана Григорьевича, стала дорогой её жизни, её судьбы.
Первую остановку Магда сделала возле Фрунзенского универмага. Надюхе она кинула небрежно через плечо: "Извини, детка, я сейчас". Ушла с сумкой, вернулась с пакетом. Потом была остановка у парка Победы – парикмахерская. Там её ждали, её личный мастер освежила ей причёску. Пакет остался в парикмахерской, вместо него появилась коробка, завёрнутая в газету.
В большом гастрономе напротив станции метро Магда накупила полную сумку продуктов, и с этими продуктами они заехали к Магдиной бабушке, одинокой больной старушке, в которой Магда души не чаяла и заботилась о ней куда с большей любовью, чем родная дочь старухи, то есть мать Магды.








