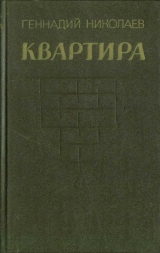
Текст книги "Квартира (рассказы и повесть)"
Автор книги: Геннадий Николаев
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
– А как же насчёт оплаты? Сколько это будет стоить?
Мартынюк с многозначительным молчанием ещё раз оглядел печь, похлопал по её железному боку.
– Здорова дура, погорбатишься с ней. Вы ж наверняка не хотите, чтоб мы тут вам войну в Крыму, всё в дыму устроили? – спросил он, косясь на старушку.
– Ой, да, конечно, если можно, пожалуйста, поаккуратнее, – откликнулась та.
– Ну вот, значит, придётся смачивать и носить в мешках. Мешки-то найдутся?
Екатерина Викентьевна в каком-то испуге метнулась на кухню и вскоре принесла несколько старых мешков.
– Вы всё же скажите, сколько, хоть примерно, чтобы знать, – робко попросила она.
Мартынюк, брезгливо разглядывавший мешки, небрежно махнул рукой:
– Не боись, хозяйка, мы не шкуродёры. Сами не знаем, вот вынесем, тогда и скажем. Больше, чем обычно, не возьмём – чтоб в самый раз пот смыть.
– Ну тогда ладно, – охотно согласилась Екатерина Викентьевна.
В квартире нашлись кое-какие инструменты, топор, молоток, но за кувалдой и зубилом Сергею пришлось сбегать на стройку. Когда он вернулся, комната была полна пыли. Мартынюк был еле виден, лампочка тускло светилась, как в густом пару парилки. Он рушил печь наотмашь топором – железная обшивка уже валялась у окна. Сергей остановил его, показал на пылищу вокруг:
– Слушай, мы же обещали чисто.
– Вот ещё, – Мартынюк сплюнул, – чикаться тут. Ничего, пыль не сало, вытряхнут. Давай её, заразу!
Он схватил кувалду и, как на приступ, ринулся на печь – спёкшиеся кирпичи целыми глыбищами валились под его ударами в закопчённое нутро печи, оттуда клубами взметалась к потолку бурая пыль.
Сергей сходил на кухню, принёс ведро воды и вылил на печь. Мартынюк как ни в чём не бывало продолжал долбать кувалдой.
Печь была разрушена за час. Три с половиной часа у них ушло на переноску разбитой кладки. Когда подмели веничком последний мусор, радио на кухне объявило ровно одиннадцать вечера.
Старушка и девочка устраивались ночевать у соседей. Екатерина Викентьевна перенесла туда постели и кое-что из платяного шкафа. Сергей хотел предупредить её, чтобы вытрясла вещи, прежде чем стелить, но язык не повернулся от усталости. Старушка зашла перед сном взглянуть на работу и, когда увидела пустоту вместо печи, ахнула и расплакалась. Потом стала рассказывать, как жила тут, в этой комнате, во время блокады, как много печь эта жрала дров, из-за чего пришлось заводить маленькую печурку с железной трубой в общий дымоход. Она показала на створку, закрывавшую отверстие в стене, и строгим голосом наказала дочери ни в коем случае не снимать створку и не замазывать дыру. Екатерина Викентьевна кое-как увела растроганную старушку и наконец вернулась с кошельком. Она всё время была какой-то рассеянной, как бы в постоянной задумчивости, и вот теперь, отойдя к окну, вдруг застыла там, молча, повернувшись спиной к Мартынюку и Сергею.
– Да, вот ещё что, – сказала она, словно долго и много говорила перед этим, – я вас сразу не предупредила, вернее, не попросила. Может быть, вы уж заодно и пол тут заделали бы. А то как нам ходить – яма ведь.
– Нет, хозяйка, это другая работа, – отрезал Мартынюк.
– Ну ладно, ладно, – быстро согласилась она. – Значит, сколько я вам должна?
– Такие печи вынести – сто пятьдесят рублей, – не моргнув глазом сказал Мартынюк.
– Сколько?! – изумилась Екатерина Викентьевна. – Сколько, вы сказали?
Сергея передёрнуло: сто пятьдесят за вечер! Да ещё с кого! Мартынюк перехватил его порывистое движение, желание вмешаться в разговор, сказал:
– Серёга, дуй-ка во двор, оттащи железо в кучу, где металлолом, а то дворничихи завтра поднимут хай, хозяйке неприятность. А мы тут сейчас договоримся.
Сергей спустился во двор. Действительно, железная обшивка валялась возле кирпичной кучи, её надо было оттащить в угол, под навес, где лежал металлический лом. От усталости он плохо соображал и всё никак не мог вытянуть железо из-под груды кирпича. Когда он наконец отволок лист и бросил его под навес, из подъезда вышел Мартынюк. Тут же, под лампочкой он отсчитал долю и вручил Сергею. Сергей, не проверяя, сунул деньги в карман.
Он спустился в метро на станции "Чернышевская". Почти пустая платформа, два-три человека. Яркий белый свет, блеск кафельной стены, красный прыгающий огонёк на часах. Дуют тёплые сквозняки, гудят эскалаторы.
Сергей сел на скамью, откинул голову к холодному мрамору. Глаза закрылись сами собой, поплыл, раскручиваясь в памяти, этот долгий трудный день. Кирпичи, швы, раствор, печь – работа до потемнения в глазах. Квартира профессора… и вдруг – вспомнил, достал из кармана куртки книжку: "Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека".
А в кого превращается человек?
"Труд – источник всякого богатства, утверждают политикоэкономы… Много сотен тысячелетий тому назад, в ещё не поддающийся точному определению промежуток времени того периода в развитии земли, который геологи называют третичным, предположительно к концу этого периода, жила где-то в жарком поясе, – по всей вероятности, на обширном материке, ныне погруженном на дно Индийского океана, – необычайно высокоразвитая порода человекообразных обезьян… Они были сплошь покрыты волосами, имели бороды и остроконечные уши и жили стадами на деревьях…" Сергей перелистнул страницу: "Совершенно белые кошки с голубыми глазами всегда или почти всегда оказываются глухими. Постепенное усовершенствование человеческой руки…"
На дне Индийского океана, на развесистых ветвях коралловых деревьев сидят совершенно белые кошки с голубыми глазами, и все они глухие… Он крадётся по тонкой ажурной ветке, взбирается на стенку, на свежую ещё кладку, и мяукает – широко разевает рот, но звука собственного голоса не слышит – глухой. Налево от него Кузичев, направо – Мартынюк, оба покрыты волосами, у обоих остроконечные уши и бороды клинышком… Он пытается класть кирпичи, но руки-лапы не могут удержать их, они выскальзывают и тонут в жуткой фиолетовой глубине… Кирпич за кирпичом, переворачиваясь, плавно уходят в глубину, за ними ныряют с веток белые кошки с голубыми глазами… Он прыгает на ветке, взмахивает руками, бьёт себя по бёдрам, всё дерево трясётся, ветка с хрустом ломается, нарастает грохот, и он раздирает глаза: перед ним останавливается пустой вагон…
В вагоне он достал пачечку мятых бумажек, пересчитал – семьдесят пять. Он выругался, обозвав себя и Мартынюка скотами.
8
В прихожей горел неяркий свет, матовый шарик под потолком. Сергей уже по привычке с порога бросил взгляд на дверь хозяйки – замочек. Значит, Максимовна не появлялась, сидит в деревне у дочери, ну и слава богу, хоть недельку-другую пожить без её занудных нотаций и подозрительных подглядываний.
Двери в их комнату и в кухню были распахнуты, проёмы темнели не глухо и немо, как бывает в пустой квартире, а лучились теплом и уютом.
Он снял плащ, разулся, пошёл в носках. Заглянул в комнату – сонное царство: на диване лежат, посапывают в четыре ноздри Надюха и Оленька. Самые дорогие существа на свете.
Он стоял, смотрел на них, спящих, тёплых, родных, и сердце его как бы очищалось от житейской дневной накипи и готово было на самые щедрые движения: будет, теперь уже точно будет у них своя квартира, и не надо с трепетом ждать, что скажет, как решит сумасбродная, выживающая из ума старуха – то ли ещё месяц позволит пожить у себя, то ли с дурной ноги заставит выметаться. Будет квартира, а уж отделать её они сумеют, мебель заведут, книжные шкафы, книги, а там, может, и правда, получится у тестя с дачей. Климат в Ленинграде неважный, сырой, Оленька болеет часто. У его стариков в Осташкове хорошо, слов нет, но попробуй-ка помотайся с ребёнком на поезде за четыре сотни километров – не больно-то разбежишься каждую неделю, а на всё лето отправлять дочку к старикам тоже не хочется – тоскливо. Да и тревожно: простудится, заболеет там – хоть и есть в Осташкове и больницы, и врачи, но всё-таки не дома, не под родительским крылышком. Не усмотрит бабка, не развернётся – вот и готово, воспаление лёгких. Было уже, и не раз. Так что права Надюха, надо, чтобы тут, при них была Оленька, а значит, прав и тесть: нужна дача и садовый участок нужен. Пусть дочка пасётся, клюёт свежую ягоду, морковку, горошек, а глядишь, и яблони привьются, тоже очень и очень полезно, когда прямо с дерева.
Сергей по-быстрому вымылся под душем, растёр крепкое своё тело махровым полотенцем – усталость как рукой сняло, хоть снова на стенку, в ночную смену. Тихо, стараясь идти по одной половице, чтобы не скрипело, прошёл на кухню и замер, удивлённый. За столом сидела улыбающаяся полусонная Надюха. На плите посапывал закипающий чайник, заманчивой горкой лоснились на сковородке оладьи.
– А ты чего? Спала бы, – сказал он вроде бы недовольно.
– Оленьку переложила. Тебя покормлю. Голодный?
Она сладко зевнула, потянулась – вверх, к нему, встала, обняла его за шею, прижалась, горячая, ласковая. Была она розовая со сна, пахнущая кремом, которым на ночь смазывала руки и плечи. Голубые глаза смотрели мягко, влюблённо.
Тоненько свистнул чайник. Сергей выключил газ. Надюха взяла его руки в свои. "Ой, какие шершавые!" Помазала своим кремом. Втирает крем, поглаживает руки, а сама вдруг притихла, поглядывает робко, туманно. И Сергею через руки передалось от неё… Потом снова пришлось греть оладьи, тёщины гостинцы.
Надюхе не терпелось узнать новости, как там у профессора, что за квартира, какую халтуру нашёл Мартынюк, сколько заплатили и чего это ему смешно, – Сергею вдруг вспомнился кошмар, приснившийся в метро, и он фыркнул: надо же так, белые кошки с голубыми глазами..
Уплетая оладьи со сметаной, Сергей рассказал ей про профессорскую квартиру, какая там уйма работы, но зато какой славный старикан профессор, короче, надо браться не раздумывая, завтра же сразу после работы и пойдут. Показал книжку, которую дал профессор, – теперь, можно считать, зачёт по диамату в кармане. А смешно было из-за белых кошек с голубыми глазами, и он на третьей странице нашёл это место: "…Совершенно белые кошки с голубыми глазами всегда или почти всегда оказываются глухими…"
Надюха засмеялась:
– Он, забавно-то как! А почему, Серёга? Неужели правда?
Энгельс пишет – железно!
Из комнаты донеслось кряхтенье, возня – захныкала Оленька.
– Чего это она? – насторожился Сергей.
– Мама нацацкала, вот и куксится.
Надюха запахнула полы халата, пошла к дочери. Певуче, нежным голосом поговорила, успокоила, вернулась на кухню.
– Всё, уснула. Мама рассказывала, отец встретил на улице фронтового дружка, сто лет не виделись, того ранило перед самым концом войны. Таксистом работает. Блатяга, всё может достать: мебель, вещи, какие хочешь, любой дефицит. Про дачу разговорились: мне, говорит, что зонтик японский, что дачу – раз плюнуть. С приплатой, конечно. В общем, пообещал отцу – держи, говорит, наличные, в течение месяца будет дача.
– Дача! Нам бы кооператив осилить.
– Я сказала маме, она: не бойся, доченька, отец знает, что делает. Ваших денег не тронет, собирайте на кооператив, дачу без вас купим. Втихаря от отца дала сто двадцать рублей.
– Мать у тебя человек. А с Магдой как?
– Пообещала, – уклончиво ответила Надюха. Про помаду она решила пока помалкивать, свёрток с тюбиками засунула под диван, подальше от греха. Чувствовала, знала, что Сергею не понравится эта затея.
– Про печь-то ты не рассказал, – нашлась она, чтобы сбить, замять разговор про Магдино обещание.
Сергей помрачнел, ему вспомнилось бледное, несчастное лицо Екатерины Викентьевны, её испуганные, наливающиеся слезами тёмные глаза, и он с горечью, ожесточаясь против себя и Мартынюка, рассказал всю эту неприятную для него историю с печью.
– Ханыга Пашка, а я так не могу, – закончил он, пристукнув кулаком по столу.
Надюха молчала. Конечно, она не думала, что первый же блин окажется комом, ей тоже противно было рвачество, но и деньги нужны были до крайности. Поэтому-то и молчала в растерянности, не зная, как отнестись к словам мужа.
– Семьдесят пять от силы за такую работу, – проворчал Сергей. – А мы содрали целый месячный заработок. Может, там вообще…
Он не докончил, но Надюхе было ясно, что значило это "вообще".
– Что же делать, Серёжа? – растерянно спросила она.
Сергей задумчиво побарабанил пальцами по столу и устало сказал:
– Спать – вот что.
Надюха погладила его по руке, пошла стелить постель. Сергей ещё успел написать отцу письмо, попросил выслать все деньги, какие есть в доме. Лишь во втором часу ночи они улеглись спать.
Засыпая, еле ворочая заплетающимся языком, Сергей спросил:
– Третичный период – когда это?
Надюха вздохнула.
– Не знаю. Третий по счёту.
– По какому счёту?
– А леший его знает. Спи давай. По счёту от начала.
Последних слов её он уже не слышал, спал.
9
Ночью нагоняло тучи, принимался лить дождь, но к утру разъяснило, потеплело, и по ясности неба и теплу день ожидался погожим. С Невы дул несильный ветер, в нём чувствовалась влага, ощущался запах смолёных канатов, сладковатый вкус соснового тёса. Торжественно блестели золочёные купола соборов, шпили, кресты. Небо сияло такой прозрачной голубизной, было таким чистым, без единого пятнышка, что, казалось, и его продраили, оттёрли, как и всё вокруг, к первомайским праздникам.
На домах вывешивали красные флаги. Они появлялись как бы внезапно: полотнище раскрывалось ветром, разворачивалось и ярко вспыхивало, освещённое солнцем. В воздухе стоял мерный глухой гул, шумел огромный город, и в этом гуле выделялся сухой настойчивый треск – ремонтировали облицовку берега на Фонтанке, камнерезчики пробивали гранитные плиты отбойными молотками.
День этот, после вчерашней печки, давался Сергею нелегко. Голова была тяжёлая, словно с крутого похмелья, спина немела, руки слушались плохо, кирпичи выскальзывали, падали, раствор не держался, и никакой кладки не выходило – одна лишь морока. Ещё утром объявили, что перед обедом будет летучка, и теперь Сергей всё поглядывал на часы, ждал, когда наконец засвистят внизу. Он и курил-то сегодня вдвое чаще обыкновенного, и пить спускался к холодному крану, и с Кузичевым советовался, как ловчее вывести последний ряд под крышу, хотя и сам, не хуже звеньевого, знал, как и что, – так и сяк подгонял время, а оно, как назло, тянулось еле-еле.
Наконец получилась задержка с раствором, не подали вовремя, и Сергей, воспользовавшись заминкой, пошёл к Надюхе выяснять насчёт лака для профессорского кабинета.
Надюха, оказывается, уже побывала на трестовском складе и теперь, тщетно обзвонив хозяйственные магазины, поджидала, что вызвонит ей Магда Михайлина. Та усердно накручивала телефонный диск, но пока знакомства её не помогали – тёмно-вишнёвого лака не было. Она удивлялась, таращила в недоумении свои карие навыкате глаза, однако в конце концов развела руками – и она не всесильна.
Сергей ушёл озабоченный. Этот чёртов лак! Может потребоваться буквально через два дня. Маленькую комнату Надюха сделает мигом, второго мая уже можно будет перетаскивать книги из кабинета, а кабинет начинать надо, конечно же, с потолка: покрасить потолок, а уж потом клеить обои, это же младенцу ясно.
Ещё со двора он заметил в столярке Ирину, она тоже увидела его и выставилась в окно, подперев щёки ладонями и улыбаясь. Поднимаясь мимо неё по лесам, он хотел щёлкнуть её по носу, но она поймала его руку.
– Серёжа, разговор есть.
– Секретный?
– Ох, сразу уж и секретный, – сказала она, не отпуская его. – До секретов ли нам с тобой?
– А кто его знает? Ты девка с подкладкой.
– Ох-хо-хо, – засмеялась она, чуть кривя потрескавшиеся губы. И только теперь она выпустила его руку и отошла от окна. – Входи.
В столярке стояли два верстака, лежали доски, рейки, брусья. На скамейках, на полу, под верстаками, полно было свежей сосновой стружки, прислонённые к стене, стояли свежесбитые лотки для раствора. Склад находился в другой комнате, попасть в которую можно было только из столярки.
Ирина запрыгнула на верстак, сунула руки в рукава телогрейки. Глаза её искрились, лучились смехом.
– Говорят, тебе тёмно-вишнёвый лак нужен? – спросила она.
– Верно говорят.
– Много?
– Да пару банок надо. А что, есть?
– Есть, – сказала она таким тоном, что можно было понять: "есть, да не про вашу честь".
– Две банки? – придвинулся к ней Сергей.
– А хоть бы и две.
– Для меня бережёшь?
– Не знаю, посмотрим на твоё поведение…
– Что я должен сделать?
Сергей добрался до её рук, тёплых и маленьких, и крепко сжал. Глаза её, остановившиеся на нём, разрешали, подбадривали, тянули к себе. Кровь зашумела, заиграла в нём, но кругом было полно людей, ходили и перекрикивались совсем рядом, и Сергей торопясь, неловко обнял её, скользом поцеловал в щеку. Ирина оттолкнула его и, спрыгнув с верстака, пошла к себе. Он направился было за ней, но она велела подождать и вскоре вынесла две банки, завёрнутые в бумагу.
– Ого! – воскликнул Сергей, принимая банки. – С меня причитается…
– Оформишь через бухгалтерию. Квитанцию – мне, для отчёта.
– Ну, спасибо, Иринка, выручила, просто слов нет.
– Слов не надо, – сказала она со вздохом, – улыбайся почаще.
– Ладно, договорились, похохочем как-нибудь, – подмигнув ей, пообещал он.
Лак он решил немедля отнести к профессору, благо дом его был недалеко от нынешнего места работы, а то сопрут под шумок – ищи потом, свищи.
На звонок открыла Христина Афанасьевна. Она была в спортивном костюме, в брюках и курточке с красными стрелками на рукавах, в бежевом вязаном берете, лихо сидящем на макушке, – ну прямо девица-студентка, собравшаяся на воскресник.
– Ждём вас, Серёжа. Мы уже готовы. – Она легко, вприпрыжку понеслась из прихожей в кухню, и Сергей, пошедший следом за ней, увидел, что, действительно, кухня была уже подготовлена к работе: освобождена стена, отодвинута газовая плита, пол застелен полиэтиленовой плёнкой.
– Вы как, сейчас начнёте? Может, перекусите? Борщ, картофель жареный с мясом, компот, – выпалила она единым духом.
– Нет-нет, спасибо, – предупредил Сергей, – я на минутку. Вот лак достал.
Христина Афанасьевна радостно заахала, схватила банку, понюхала её, словно и в самом деле что-то понимала. Сергей поставил лак в угол прихожей и собрался было уходить, но тут выбежал Павлик, вцепился в него, повёл в кухню, усадил за стол перед раскрытым журналом. Христина Афанасьевна застрожилась на него, но он словно не слышал, ткнул карандашом в кроссворд.
– Персонаж произведения Гоголя "Мёртвые души". Бабушка называла тут всяких, но они не подходят. Давайте говорите, я буду считать буквы.
Сергей смущённо почесал затылок: хм, Гоголь, когда это было? В девятом? В восьмом? Уже четыре года после армии, два в армии да там два… Чичиков, что ли?
– Чичиков, – неуверенно сказал он.
– Фи, – разочарованно протянул Павлик, – этим Чичиковым бабушка уже все уши мне прочичиковала. Не подходит, длинный, семь букв, а надо пять.
– Я ему всех называла, – откликнулась из прихожей Христина Афанасьевна. Она гремела там пустой посудой. – Чичиков, Коробочка, Манилов, Собакевич, Ноздрёв. Кто там ещё?
Сергей поднял руки.
– Сдаюсь.
– Эх вы, лапша! – скривился мальчуган. У него были ещё вопросы, и он тотчас сменил гнев на милость. – Ладно, а вот это: быстрое повторение музыкальных звуков. Семь букв. Последняя "о".
– Я ему говорю "стаккато", а он не хочет, – сказала Христина Афанасьевна, входя в кухню и как бы обращаясь к Сергею за поддержкой.
Павлик с пласкивым воплем замахал на неё.
– Какое "стаккато"! Стаккато – два "к", восемь букв. И потом стаккато совсем другое: короткий, сердитый звук. Когда мама рассердится, начинает колотить по клавишам, тогда стаккато.
– Колотить?! Павлуша! Как ты можешь так говорить про маму?
Христина Афанасьевна изобразила прямо-таки огорчение, но на Павлика это нисколько не подействовало.
– Колотит! Рассердится на меня или на папу и колотит, – упрямо повторил он и ещё прибавил: – Она ещё говорит: "Вас словами не проймёшь, попробую музыкой".
Христина Афанасьевна принуждённо рассмеялась, развела руками, – дескать, что взять с этого маленького дуралея? Павлик подёргал Сергея за рукав, приглашая заняться кроссвордом.
Сергей сделал вид, будто пытается вспомнить это каверзное слово на семь букв, обозначающее быстрое повторение музыкальных звуков, но куда там – хоть всю жизнь думай…
– Нет, слушай, спроси что-нибудь попроще, про плавную музыку, – признался он. – А ещё лучше, что-нибудь про технику.
Павлик посмотрел сочувственно, подумал, согласился.
– Хорошо, сейчас попроще. Вот! Величина, определяемая в математическом действии. Тоже семь букв, третья с конца – "м".
Сергей прищурился, с надеждой, как ученик, ожидающий подсказки, скосился на Христину Афанасьевну, стоявшую за спиной Павлика. Та испуганно замотала головой, закатила глаза, – дескать, сама ни в зуб ногой. Павлик напряжённо следил за Сергеем. Его чуть раскосые, тёмные глаза настороженно дрожали за очками, становились всё печальнее, тоскливее. Сдаться и просто сказать "не знаю" не хватало духу, отшучиваться же было нельзя, не тот случай. Сергей застонал, схватившись за щеку, но это было не смешно. Павлик опустил глаза.
– А это, – упавшим голосом сказал он, – денежная единица в Древней Руси?
Теперь уже не только Павлик" но а Христина Афанасьевна глядела на Сергея с мольбой: ну, выручи, назови денежную единицу Древней Руси, всего шесть букв, третья с конца "в". Это же так просто.
Сергей облизнул губы. Павлик, следивший за ним со страхом, вдруг всхлипнул, склонил голову, слёзы закапали на журнал. Христина Афанасьевна, с закушенной губой и устремлёнными в потолок глазами, – так она усердно пыталась вспомнить! – кашлянула с досады, обняла Павлика.
– Ну, ну, Павлуша, потерпи. Не вспоминается. На языке вертится, а на зуб не попадает. Скоро дедушка придёт, он тебе поможет.
– Да, скоро, – захныкал Павлик, – не скоро. У него лекция, а когда лекция, всегда долго.
– Мама скоро придёт. Она тебе про быстрое повторение звуков скажет. А папа – про эту самую величину. Дедушка – про денежку. – Она вдруг замерла, даже зажмурилась от внезапно озарившего её слова и, ещё не веря себе, сдерживая радость, шевелила губами, считая буквы. – Гривна! Павлик, гривна!
Павлик тотчас деловито засопел, лёг грудью на стол и с нетерпением, азартно заполнил клеточки словом "гривна". Бабушка ликовала, внук жадно шарил карандашом по вертикалям и горизонталям.
Сергей воспользовался моментом и, показав жестами Христине Афанасьевне, что ужасно торопится, но чтобы она, дескать, ни в коем случае не тревожила занятого Павлика, улизнул из кухни. "Вот пристал, очкарик!" – ругнул он мальчугана про себя и выскочил на площадку.
По дороге от профессора Сергей забежал в управление, заплатил в бухгалтерии за лак, предупредил Надюху, что достал и уже отнёс лак и чтобы она не беспокоилась. Потом они вместе получили зарплату за апрель. Надюха была рада-радёшенька: всего второй день, как начали собирать деньги, а уже вместе с обещанной Кузичевым сотней почти полтыщи! Если так пойдёт и дальше, будет просто великолепно! Сергея разбирало искушение зайти к начальнику и парторгу: авось по две-три сотняшки и отвалится в долг, но он удержал себя, что-то подсказывало ему – не лезь!
Квитанцию за лак он сунул в записную книжку и какое-то время помнил про неё, что должен отдать Ирине, но, закрутившись в сутолоке дня, забыл и про квитанцию, и про Ирину.
Взбодрённый, весь в думах и планах, он шёл по тихой Моховой и вдруг увидел перед собой Екатерину Викентьевну с сетками, полными бутылок из-под молока. Она шла, понуро ссутулившись, в той же самой поношенной кофте, в которой была вчера вечером. Невольно, сам не зная отчего, он свернул в первую попавшуюся подворотню и пошёл дворами в обход. Сердце его почему-то сильно билось, а на душе стало тускло и гадко. Он чувствовал нелепость этого крюка, но всё шёл и шёл и не мог остановиться. На Литейном он закурил на ходу и, озираясь, словно за ним следили, торопливо двинулся к Неве. И тут как бы одним махом слетела с него какая-то оболочка, ему стало ясно, что он должен вернуться в тот вчерашний двор и что-то сказать Екатерине Викентьевне, сказать или сделать – там будет видно. Он швырнул сигарету в шарик-урну, точно попал в её безобразный зев, и это, как ни странно, укрепило его решение. Он круто повернул назад, дошёл до ближайшего молочного магазина и во дворе его, возле приёмочного окошечка, увидел Екатерину Викентьевну. Она сдавала пустые бутылки, аккуратно вытаскивая одну за другой и ставя перед собой на небольшой выступающий подоконник.
Сергей подошёл к ней, поздоровался. Узнав его, она испуганно отпрянула, выронила бутылку. Бутылка разбилась, Сергей кинулся было подбирать осколки, но тут же сообразил, что это нелепо.
– Извините, – пробормотал он, поднимаясь. – Ищу вас…
– Что вам надо? – проговорила она, хватаясь свободной рукой за горло будто в приступе удушья.
– Пол хочу вам сделать, пол у вас остался… Бесплатно, то есть вы уже заплатили, конечно…
– Нет, нет, – быстро сказала она, и лицо её перекосилось. – Вы уже достаточно поработали вчера.
И это её "поработали" больно задело Сергея. Екатерина Викентьевна отвернулась к окошку и снова принялась выставлять бутылки – руки её тряслись, и бутылки цокали по обитому жестью подоконнику, когда она их устанавливала рядками друг за другом.
– Напрасно вы, – начал он, но стушевался, понимая, что вовсе не напрасно, и вдруг решительно сказал: – Хотите пли нет, а пол я вам сделаю.
Она вынимала бутылку за бутылкой и даже не взглянула на него.
Когда он вернулся на стенку, раствор был уже подан, и Кузичев с Мартынюком приплясывали в своих углах. Он взялся за кладку со злой охоткой, надеясь работой, привычными размеренными движениями заглушить горькое гнетущее чувство, оставшееся от встречи с Екатериной Викентьевной.
В полдень бабахнула пушка Петропавловской крепости, и вскоре внизу засвистели, закричали: "На собрание! На собрание!" Сергей отложил мастерок, стянул фартук и, взглянув по привычке, много ли осталось раствору, пошёл неспешно по настилу лесов. Кузичев и Мартынюк ушли чуть раньше.
Совсем недалеко от стенки дома, рукой подать, в застеклённой кабине башенного крана сидел, закинув ноги на пульт, крановщик Витька Коханов, читал какую-то толстую книгу. Странный парень этот Коханов: работает крановщиком, мастер дай бог каждому, а учится на истфаке в университете. Как свободная минутка, заминка в работе – сразу за книгу. Вот и теперь: другой бы на его месте уже давно забивал "козла" в вагончике или дул пиво у пивного киоска, а этот сидит себе на верхотуре, как в отдельном кабинете, с книжкой. И так всё знает, о чём ни спроси, а не устаёт напаковываться знаниями.
С этажа на этаж по крутым железным лестницам, через лазы, всё ниже и ниже Сергей спустился на землю. Во дворе, как на дне колодца, было сыро и промозгло, как будто не весна гуляет по небу, а киснут самые последние дни осени. С лесов, из подъездов шли на выход под арку строители: женщины штукатуры-отделочницы, маляры-девчонки, фасадники в касках и чёрных форменных куртках, электрики, сантехники. Когда дом идёт по срочному графику, как этот, на прорыв бросают сразу все специальности – не дом, а муравейник.
Люди собрались в большой разгороженной квартире на первом этаже с парадного входа. Плотники сколотили из досок скамейки, восемь длинных рядов. Женщины вымели мусор, притащили стулья, графин с водой. Вот и вся недолга для летучки.
Рабочие расселись подальше, первые места оставили для управленческих. Парни, недавние солдаты, втиснулись по одному между малярами, девчатами из Псковской, Новгородской, Калининской областей, и там пошла весёлая молодая возня. Женщины постарше сидели своей компанией, тихо переговаривались о семейных делах. Сантехники, как и на работе, держались по двое. Каменщики сели одним рядком, всё звено: Кузичев – звеньевой, сухощавый, жилистый мужик в годах, серьёзный и молчаливый; рядом с ним – Мартынюк, большой любитель пива и разговоров; дальше – Сергей Метёлкин, передовик и образец: не пьёт, не прогуливает, справок из вытрезвителя не имеет. Были тут ещё другие каменщики, но всё случайный народ, перекати-поле: месяц-два поработают на стенке – и ходу, а они трое, Кузичев, Мартынюк и Метёлкин, уже четвёртый год неразлучны.
Поглядывая через плечо на вход, откуда должна была появиться Надюха, Сергей то и дело натыкался взглядом на Ирину Перекатову. И она тоже поглядывала на него, улыбалась.
Наконец пришли управленческие: бухгалтерия, расчётчики, сметчики, снабженцы, складчики. Сергей помахал Надюхе, показал на место возле себя. Она всплеснула руками, обрадовалась, словно место он занял не на минутном собрании, в ободранной старой квартире, а перед началом представления в цирке. И во всём она такая, непосредственная: что чувствует, то и выкладывает тут же, без сомнений.
Надюха прошла между рядами, развернула газету, расстелила, плюхнулась рядом. Мартынюк повёл лысой ушастой головой:
– Обрушишь нас, девка.
А она словно и не слышала.
– Ой, Серёга, тебе премию начислили, в конвертике унесли.
Он не понял, не разобрал.
– Премию? В каком конвертике? Куда унесли?
– Ой, да сюда, тут вручать будут. – Она схватила его за руку, сжала. Глаза её сияли. – Семьдесят пять рублей.
– Ну?!
– Точно! – Она подёргала его, прижалась с тихим хохотцем: – Триста в кассе взаимопомощи дали!
– Тш-ш! – понеслось со всех сторон.
Они и не заметили, как появилось начальство; на стульях, поставленных впереди, уже сидели председатель постройкома Киндяков, партийный секретарь Нохрин и сам начальник РСУ Долбунов.
Первым выступил Нохрин, вслед за ним – Долбунов.
Люди слушали молча, лишь изредка сзади прыскала какая-нибудь девица, и там на миг-другой поднималась возня. На них шикали добродушно, лениво, больше из приличия.
Сергей глянул сбоку на Кузичева – тот сидел выпрямившись, уставись взглядом в одну точку. Лицо его оставалось невозмутимым, словно зацементировалось от долгих лет работы с раствором.
Когда Долбунов закончил, рабочие дружно захлопали, загомонили.
Глядя на Кузичева, Сергей хлопал тоже степенно и как бы лениво, сцепляя ладони в замок и чуть придерживая их при каждом хлопке. Мартынюк же хлопал открытыми ладонями, как ребёнок. Посмотреть на него – толстый лысый мужик впал в детство, забавляется при всём честном народе. Сергей подтолкнул локтем жену, кивнул на Мартынюка – дескать, вот чудак. Надюхе много не надо: палец покажи, будет хохотать. От неё и Сергею стало веселее.
Поднялся Киндяков.
– А теперь, товарищи, я зачитаю решение постройкома, партийного бюро и администрации в связи с подведением итогов предмайского соцсоревнования.








