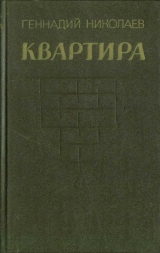
Текст книги "Квартира (рассказы и повесть)"
Автор книги: Геннадий Николаев
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Он увидел Зину издали – она прохаживалась по аллейке, в дальнем конце рощи, в самом удобном месте, где можно было незаметно юркнуть в машину на повороте дороги. Морохов усмехнулся, оценив её сообразительность. Впрочем, он уже не раз убеждался в её сообразительности. Ну разве простушка или дурочка сумела бы так точно, в самый нужный момент показаться на глаза сверхзанятому директору, да ещё в Москве, во время командировки! Не так-то просто уловить минуту сердечной расслабленности у современного руководителя. А она уловила, и очень даже просто, в два приёма: сначала предложила помочь выполнить домашние заказы (а заказы как раз были: дочери – сумочку, сыну – плащ), потом пригласила за покупками к себе в номер. Он пришёл поздно вечером, усталый, голодный и, как всегда, озабоченный. У неё же было уютно, тихо, покойно. К тому же случайно оказались вкусные вещи – копчёная рыбка, ветчина, икорка. Нашёлся и лимон, вроде бы к чаю, а уж к лимону появился и коньяк. Вот и вся сообразительность.
"Но зачем, зачем ей надо было это?" – думал он дотом. Ведь у неё такой крепкий и видный мужик, механик шестого цеха, неглупый и вполне подходящий для неё человек… Морохов посмотрел на себя в зеркальце и усмехнулся: "Мордоворот".
Он остановился. Невысокая, чернявая, с миловидным круглым лицом, Зина торопливо перешла дорогу перед ним и, оглянувшись по сторонам, села рядом, на переднее сиденье. На ней была лёгкая кофточка с голубыми и зелёными полосами. Синяя юбка плотно обтягивала её крутые бёдра и чуть выпуклый живот. Крепкие ноги, руки, лицо, шея – вся она была загорелая, золотистокоричневая, словно только что с юга. Он разогнал машину и только тогда протянул ей руку:
– Здравствуй!
Она шлёпнула ладонью по его широченной ладони и звонко засмеялась, просто так, ни с того ни с сего. Он подмигнул ей:
– Живём?
– Точно! – в тон ему, бодро сказала она.
– Вьюном или колуном?
– Вьюном и колуном. – Она тягуче посмотрела на него, сдержанно улыбаясь, и опустила глаза. – Всё ждала от вас сигнала…
Он чуть двинул бровью – это "вас" приятно задело его, ему вдруг стало легко и просто с ней. Он положил руку ей на плечо, она прижалась к ней щекой.
Через сорок километров Иван Сергеевич свернул с шоссе и поехал по узкой лесной дороге, усыпанной рыжей хвоей, сосновыми шишками, сухими ветками. На обочине, заросшей травой, то тут, то там поднимались навстречу машине кусты малины с бледно-розовыми мелкими ягодами, понизу мелькали красные капли костяники, на полянках стояли головастые мухоморы. Лес был пронизан солнечным светом. Серебряными мишенями блестели висящие паутины. Листья осин пошевеливались от качаний нагретого воздуха.
Потом они ехали по просеке, лавируя между пеньками, разгоняя стрекочущих кузнечиков, вспугивая сидевших в траве птиц, и наконец заехали в такую чащу, что казалось – вот-вот машина застрянет между деревьями и придётся её вытягивать трактором. Но Иван Сергеевич хорошо знал место – по каким-то ему одному ведомым приметам привёл машину на просторную поляну, загнал в тень и, выключив мотор, устало отвалился на сиденье. Зина искоса поглядывала на него блестящими глазами – что-то он не торопился сегодня…
– Там кое-что есть, – кивнул он через плечо. – А я немного пройдусь.
Он вылез из машины, потянулся, вздохнул полной грудью и с чувством облегчения зашагал через поляну к зарослям черёмухи, где шумела речушка.
Затон был естественный: гряда валунов пересекала речку, как плотина. Плавные прозрачно-зеленоватые струи падали с метровой высоты, но не разбивались в пену и брызги, а создавали сверкающий на солнце вал. Перед порогом на тёмной поверхности воды крутились воронки, в них засасывало листья, ветки, мелкую плавучую живность. Глубина там была изрядная. Вдоль берега стайками ходили мальки.
Он сел на белое, обглоданное ветром и временем бревно. Теперь дышалось ему совсем не так, как в машине, – тогда, возле телефонной будки, он здорово струхнул. Уж думал – всё, каюк. Конечно, было бы обидно умереть вот так нелепо, посреди улицы, сидя в машине. А впрочем, сковырнуться на ходу – это не самый худший вариант, куда хуже валяться в больнице и ждать, когда тебя вконец замучают уколами и клизмами. "Пронесло!" Он вспомнил про Зину. Его ждёт женщина, и это сейчас, вроде бы, самое важное. Важное, но не главное. Главное на сегодня другое: спросить её кое о чём, узнать кое-что такое, что для него теперь важнее всего на свете… Так размышлял он, сидя на бревне, подбадривая себя, подхлёстывая, накручивая и готовя к тому, чтобы встать и вернуться на поляну. Но время шло, а он всё сидел, сгорбившись и задумчиво глядя на струящуюся у его ног речку.
Зина лежала на разостланном пледе. Закуска, прикрытая газетой, была разложена рядом на траве. Ему показалось, что Зина спит, но она тотчас подняла голову, как только он подошёл к ней. Глаза у неё были сонные, лицо помято, в красных складках. Он весело подмигнул, достал коньяк, ловко вынул пробку. Под газетой стояли пластмассовые стаканчики. Он опустился на колени и налил в оба до краёв.
– Ну, за то, чтобы всё плохое проносило мимо нас, – сказал он, бережно приподняв стаканчик.
Она улыбнулась, но лицо при этом у неё было несчастное. Он выпил всё до дна, она чуть пригубила и, как заботливая хозяйка, пододвинула поближе к нему немудрёные закуски – колбасу, сыр, яблоки. Он не стал закусывать – открыл бутылку боржоми, отпил прямо из горлышка.
– Ты очень устал, – сказала она и притронулась него руке. – Раньше этого не было.
Он посмотрел на свои руки и усмехнулся:
– Твёрдая рука – друг индейцев.
– Тебе надо отдохнуть. Ты сильно изменился.
– Постарел?
– Нет, что ты, я не то хотела, – она придвинулась к нему, заглянула снизу в лицо. – Ты же знаешь, с тобой мне всегда хорошо, надёжно и спокойно. И я ничего не боюсь.
Он посмотрел на неё с усмешкой, помолчал, как бы размышляя, говорить или нет, и вдруг спросил:
– А с мужем, что же, боязно?
У неё удивлённо расширились глаза, в них отразилось смятение – она потупилась, закусила губы. Никогда раньше он не заводил разговор про мужа и вообще про их семейные дела. Всегда они говорили между собой так, словно были молодые и вполне свободные люди. Большей частью говорила она – рассказывала про дела в лаборатории, про всякие чепуховые происшествия в посёлке, пересказывала кинокартины, а он молча слушал. Никогда он не интересовался ни её прошлым, ни настоящим, не заговаривал о будущем. Теперь этот прямо поставленный вопрос застал её врасплох, Она почувствовала, что должна быть искренней, и сказала:
– Скучный он, боится всего, нерешительный. Неинтересно с ним.
Морохов хмуро кивнул и подлил себе коньяку. Зинин стаканчик был полон.
– Ну, давай, как говорят на Украине, шоб дома не журились! – сказал он, подмигнув ей.
Она смущённо засмеялась:
– За это стоит выпить.
Он глотнул залпом и взял яблоко. Зина отхлебнула чуть-чуть. Он облокотился, устроился поудобнее и торопливо, с какой-то странной жадностью стал есть яблоко. Вгрызался в него мелкими быстрыми укусами, едва успевая разжевать, поспешно глотал и снова откусывал маленький кусочек. Причём он не подносил его ко рту, а держал перед собой на расстоянии и наклонял к нему голову, словно клевал.
– Скажи, а почему ты решила сделать мне подарок тогда в Москве? – спросил он, отшвырнув огрызок яблока.
– Орла-то?
– Да, орла.
Она пожала плечами и, засмеявшись, сказала:
– А так, захотелось.
– Ну уж, просто так ничего не бывает.
– А коли знаешь, чего спрашиваешь? – Она сказала это весело, беззаботно вроде бы, но в глазах её проскользнула настороженность. – Чтоб помнил обо мне, вот зачем! – с вызовом, побледнев вдруг, выпалила она и отрывисто засмеялась.
Он взял её за плечо, сдавил. Они смотрели друг другу в глаза – долго, упрямо, как дети, старающиеся переглядеть один другого. Зина первая опустила глаза. Он небрежным движением взлохматил ей причёску и чуть шлёпнул по щеке.
– Врёшь!
Она медленно покачала опущенной головой.
– Врёшь! – убеждённо повторил он и, вздохнув, сказал устало: – Ладно, шут с тобой.
Она снова покачала головой. Тогда он не сдержался, вскипел:
– Чего ты мотаешь головой? Хочешь сказать, будто любишь меня? Бросишь мужа, пацанов, выйдешь за меня замуж?! Ну, говори!
Прыгающей рукой он поддел её подбородок, вскинул ей голову.
– Ну!
Она ошалело смотрела на него, моргая вытаращенными глазами и беззвучно шевеля губами.
– Молчишь?
– Зачем вы так? – пролепетала она, отведя его руку.
Он торопливо, расплёскивая коньяк, налил в свой стаканчик и залпом выпил. Зина закрыла лицо руками. "А чего, собственно, я хотел от неё?" – спросил он себя. Простая бабёнка, заловила для приключения начальника-директора и ошалела. Мужика своего она, конечно, никогда не бросит, хотя всю жизнь, пока сможет, при каждом удобном случае будет добавлять к его старым рогам новые отростки. Вот баба! Он усмехнулся и привычным, выработанным до автоматизма усилием отогнал от себя мысли о ней. Ему было о чём подумать кроме неё.
Он встал, снова спустился к реке. Медленно, в глубоком раздумье пошёл вдоль неё по скрипучему галечнику, отмахиваясь от комаров, поглядывая на прозрачную воду, на кусты ивняка, свесившиеся до самой воды, на небо – чистое, высокое, голубое. Он вдыхал лесной воздух, и у него ломило в груди от радости и смутной скорби. Он никогда не был пессимистом, наоборот – всегда, как бы плохо ему ни бывало, усмехался и говорил: "Пронесёт!" И верно, проносило. Пронесло войну. Пронесло и аварию, из которой он только чудом вышел живым благодаря стальной колонне, защитившей его от смертоносных обломков взорвавшегося реактора. Про: несло и отравления, которых было немало. Проносило! И вот донесло до этого затончика, до острого чувства непрочности жизни, его жизни, до смутной скорби, которая, как горчинка во рту, стала постоянным привкусом всех его радостей.
Жизнь, если хотите, продолжал он свой мысленный спор, – это упорное преодоление всё возрастающих неприятностей и, как следствие, движение от простого состояния к всё более сложному. А в общем-то, плевать на состояние! Главное, чтобы ты честно делал своё дело, честно! И не впустую погулял бы по грешней земле, а оставил бы после себя что-то существенное. Вот он, к примеру, оставит после себя завод, огромный химический комбинат, – хорошо это или плохо, не ему судить. Важно, что он делал то, что надо было людям, то, за что привесили ему четыре ордена, назвали лауреатом, – значит, он делал своё дело не так уж и плохо.
Он вернулся к затону. Всё так же, удивляя глаз, стоял сверкающий прозрачный вал. Всё так же ходили перед порогом воронки, всё так же метались мальки. Глядя на плавное течение воды, на вал, где как бы кончалась жизнь одного потока и начиналась жизнь другого, он понял очень важный для себя момент. Он, Иван Сергеевич Морохов, не будет продолжаться так, как этот поток. Со смертью для него кончится всё – раз и навсегда. Наступит мрак, вечное небытие, и ничего, ничего не будет там, за чёрной чертой. Да, это так, но было нечто неуловимое и существенное в том, чтобы подойти к последнему краю не в худшем виде. Не в худшем! Почему так надо, почему не в худшем, он не знал, но в том, что должен восстановить в себе всё лучшее, что когда-то было в нём, – не сомневался. По мере возможности! В этом-то и заключалась его последняя неприятность, которую ему предстояло преодолеть, его последняя сверхзадача.
Вдоль речки потянуло ветерком, и к порогу принесло целую флотилию жёлтых берёзовых листьев. Они мчались мимо него, как на параде, подпрыгивая на ряби, попадая в воронки, выныривая и снова, как ни в чём не бывало, скользя дальше, к водопаду. "Правильно. Неважно, что было в середине пути, какие воронки крутила жизнь, – важен результат: подойти к краю чистым и ясным. По сути дела, это та же самая проблема чистых "хвостов", – подумал он с усмешкой. – Как видно, никуда не уйти от них, не спрятаться. "Хвосты" должны быть чистые…"
Зина, доставшая где-то свежего сена, лежала на нём, раскинув руки, подставив лицо солнцу. Он остановился над ней, его тень упала ей на лицо. Она приоткрыла глаза и сладко потянулась, как бы навстречу ему. От резкого, упругого движения кофточка на груди разошлась, и он увидел её крепкое загорелое тело. Она улыбнулась и, словно забыв прикрыть рот, смотрела на него, поблёскивая своими белыми чистыми зубами. У него закружилась голова, он опустился на колени. Он уже не владел собой. Запрет, который он наложил недавно, был снят…
Потом они долго лежали молча. Он – подложив руки за голову и глядя в небо, она – пристроив голову у него на груди. Он лежал и думал о том, что очень важно не упустить момент в будущем, в уже недалёком будущем, когда он должен будет сам, добровольно, передать кому-то власть над заводом, над посёлком, над этими лесами, дорогами, увалами, речушками, затончиками… Сам, добровольно… Вот, пожалуй, ещё одна проблема, кроме чистых "хвостов", на которую уйдёт много душевных сил…
Где-то неподалёку замычала корова. Морохов прислушался. Стороной, ломая кусты, всхрапывая, прошло небольшое стадо. Пахнуло парным молоком. На Морохова вдруг повеяло чем-то таким далёким, забытым и дорогим, что резануло по глазам и навернулись слёзы. Ему вспомнились юность и деревня на берегу Оби, песчаные плёсы, заливные луга, сосновый бор. Кони, вольно пасущиеся на широкой пойме. Вечерние огни бакенов. Пароходы, медленно проплывающие куда-то в заманчивые синие просторы. Стерляжья уха на рассвете у прогоревшего костра. Вольность, покой, чистота… Та далёкая жизнь, словно не его, а вычитанная в книжке или увиденная в кино, стояла перед ним – яркая, сочная, манящая. И чем больше он вспоминал, тем острее щемило сердце и горячее накатывало на глаза. Как на некоем чудесном экране, он увидел себя теперешнего, лежащего на поляне, у затончика, и тогдашнего, сидящего на краю обрыва, свесившего босые ноги и глядящего в синюю даль реки. И словно не было никакой другой жизни между этими двумя днями. Словно тот кудлатый и плечистый Ванятка по злому колдовскому наговору в один миг превратился в грузного измученного мужика. "Как же так? Как же так?" – бессвязно думал он, сам не зная, что значит это самое "Как же так?". Он и недоумевал, куда же девалась вся остальная жизнь. Он и поражался тому, что был когда-то по-настоящему счастлив – свободен и счастлив. Он и горевал о жизни, многих-многих днях жизни, которые промелькнули, как зубцы стремительно вращающейся шестерёнки.
Затекли руки, он осторожно отодвинулся от Зины, встал, пошёл к машине. Пора было возвращаться в посёлок.
Они молча доехали до берёзовой рощи, на повороте дороги Зина сошла. Он пожал ей руку и про себя сказал: "Прощай!" Она пружинисто зашагала в сторону завода, он поехал домой.
Оставив машину на улице, вошёл в палисадник и чуть нос к носу не столкнулся с Валерием, сыном. Высокий, сутуловатый, с волнистой густой шевелюрой, в очках, Валерий предупредительно отступил в сторону и склонил голову со своей вечно загадочной усмешкой. Морохов по привычке небрежно сказал: "Привет!" Сын приподнял руку и, как обычно, пробормотал: "Салют!" Они разошлись бы, как это бывало уже не раз, но сегодня Моро-хов вдруг остановился и потёр лоб. Остановился и Валерий, ожидая, что скажет отец.
– Как дела? – спросил Морохов, внимательно оглядывая сына.
– А что случилось? – удивился Валерий.
– Ничего. Просто интересуюсь. Куда, если не секрет?
– В клуб. Встреча с поэтами.
– Ясно. – Морохов помолчал, помялся в какой-то странной нерешительности и легонько похлопал сына по плечу: – Ладно, валяй.
Валерий хмыкнул, и они разошлись.
Дома Иван Сергеевич прошёл в свой кабинет и сел за стол. Перед ним лежали газеты, обычная домашняя доза информации за день. Он тоскливо посмотрел по сторонам, на душе было тяжело и холодно, и что-то мешало – какое-то неудобство ощущалось на столе. И тут он увидел перед собой чугунного орла – видно, приходящая домработница переставила во время уборки и забыла поставить на место, на подоконник возле глобуса. Он взял орла и стал задумчиво разглядывать его: могучий корпус, цепкие лапы, голова с мощным клювом втянута в плечи, присложенные крылья похожи на бурку старого горца… Смотрел, смотрел, и вдруг ему показалось, будто орёл подмигивает ему, этак фамильярно, по-свойски. Морохов усмехнулся и, подмигнув орлу, подумал о том, что ещё не всё потеряно, есть ещё порох в пороховнице, что для своих лет он ещё хоть куда молодец.
Он позвонил Стёпе, чтобы отогнал в гараж машину. Потом неторопливо достал из кармана блокнот-календарь, стал просматривать свои записи. Надо было готовиться к завтрашнему дню, чтобы повернуть гигантскую шестерню ещё на один зуб.
Танька
Мастер забойного цеха Игорь Макарычев, голубоглазый увалень, провожая после танцев Таньку Стрыгину, молодую рабочую мясокомбината, вдруг сделал ей сердечное предложение. Танька сперва опешила – ещё никто никогда не объяснялся ей в любви, – с минуту шла молча, пиная валенком снег по краю глубокой тропинки, лотом засмеялась и побежала. Он догнал её, схватил за рукав.
– Не веришь?
– Да ну! – хохотнув, сказала Танька. Ей было приятно и стыдно, и она никак не могла взять нужный тон.
– Не веришь? – Игорь снова дёрнул её за рукав.
Танька отвернулась, посмотрела на звёзды, ярко горевшие в чистом небе, и покачала головой. Игорь попятился, уселся в снег – шапка свалилась, голова, огромная, лохматая, качалась из стороны в сторону.
– Ты чего? – поразилась Танька. – Чок-перечок? Чего уселся-то? Стёгни отморозишь. – Она подобрала шапку, напялила ему на голову. – Кончай, кому говорят!
Игорь развалился на спине, раскинул руки. Танька сказала, что это уже совсем глупости – валяться в снегу. Игорь лежал молча и, глядя на неё, вздрагивал от напавшей на него икоты. Таньке стало противно, она повернулась и пошла себе домой, как будто никакого кавалера с ней и не было. Уже возле крыльца он догнал её и допытался обнять. Танька рассердилась, толкнула его и, заскочив в подъезд, в привычной темноте бегом поднялась на второй этаж. Пока она на ощупь вставляла ключ, Игорь успел подняться на площадку, нашарил её у дверей и крепко обнял. Но Танька была не из тех, кого можно удержать силой – с малых лет таскает вёдрами воду, рубит дрова и вообще широкой кости, – крутнувшись, упёрлась локтями ему в грудь, рванулась, и ухажёр загрохотал, покатился кубарем по ступенькам деревянной лестницы. Танька прыснула со смеху и, быстро открыв дверь, скользнула в квартиру.
И вот она дома, в своей комнате. Сгорбившись, стоит возле тёмного окна, спиной к свету, и, глядя на отражение в стекле, задумчиво грызёт ногти. Комод со слониками, бумажные розы вокруг зеркала, узкая койка с никелированными спинками, на стене коврик с картинкой – олень с оленёнком на розовом снегу в сказочном лесу; холщовые шторы, скрывающие вход в комнату к родителям, – всё это как бы висит перед ней в зимней ночной мути.
"Вот дурень, вот дурень, лёг в снег и лежит, – думает ома, улыбаясь. – Неужто любит? Такой старый, лет двадцать пять, не меньше. Ищет девушку по себе, чтобы навсегда. Хочет жениться, но я-то не люблю…"
Она печально склоняет голову. Рыжие волосы, распущенные перед сном, закрывают лицо. Она крепко зажмуривается, ей хочется заплакать, но не плачется, а просто очень грустно. Из соседней комнаты доносится ворчливый голос отца: "Татьяна, гаси свет и ложись спать, а то вечно утром не добудишься".
Таньку берёт злость, она нарочно выжидает, словно не слышала. Отец сопит, гыркает, ворочается, наконец не выдерживает и визгливо кричит: "Ну! Слышала?" Танька нехотя поворачивается и, переламываясь в талии, потягиваясь крепким молодым телом, идёт и выключает свет.
"Вот занудина, и как только мать с ним живёт?" – думает она и начинает раздеваться. Оставшись в одной рубашке, она босиком, скользя по крашеному полу, подходит к окну. Теперь, когда свет погашен, видна улица: тёмные двухэтажные дома – "клоповники", освещённые тусклым косым светом далёкого фонаря; серые, никому не нужные заборы с покосившимися пролётами; голые тополя с комьями снега на ветвях; тёмные извилистые тропинки, протоптанные среди белой нетронутой целины; обледенелая дорога – две чёрные, накатанные до блеска полосы.
Танька вздыхает. Кончилось, промелькнуло воскресенье, завтра на работу – скучную, однообразную возню с мясом. В перерывах разговоры про парней, кто с кем, – всё давно известно, тоска. Вечером тоже тоска: кино отдыхает – понедельник, на танцы не охота – опять там будет Игорь. Весь вечер придётся сидеть дома – ужас! Мама ещё ничего, человек, но отец… Мастер в колбасном цехе, полуграмотный, пишет без запятых, слова – по слуху, а держится как бог знает кто, во всё нос суёт, во все дырки лезет, сознания на трёх профессоров хватит. Как начнёт читать мораль – пальцем не тронет, от нотаций сдохнешь. И как это получается: ведь мамка красивая была, весёлая, да и он тоже, гармонистом на селе, плясуном был – сам рассказывал. А теперь что? Моль чиканула? С ним и мама занудиной становится: всё больше хмурая ходит, чуть что – в слёзы. То не так, это не этак, обзывается. Попадёшь, как кур во щи, заимеешь друга подколодного и сиди с ним всю жизнь, терпи, как он измывается надо всеми в силу своего занудливого характера. Эх, если б знать, кто как портится со временем, чтобы заранее увидеть, предсказать характер, хотя бы лет на пять вперёд. Вот здорово бы, посмотрела б в глаза и – раз! – всё ясно: этот прохиндей, этот нытик, а этот ничего, добрый и верный. Его-то и подавай, если, конечно, на лицо симпатичный.
Ей вспоминаются сегодняшние танцы в клубе мясокомбината, как она и Люба Лутошкина, задушевная её подружка, сначала танцевали друг с другом, Танька водила, а тоненькая белокурая Люба партнерила. Потом Любу увёл её воздыхатель, Герка Шурыгин, слесарь-электрик, а Танька несколько танцев стояла у стенки и украдкой поглядывала на переминавшихся в другом конце зала парней. Но нет, никто к ней не подходил. Она вообще редко пользовалась вниманием – слишком грубое, простецкое у неё лицо, широкое, круглое, как блюдо, с круглыми карими глазами, вздёрнутым носом и большим ртом. Волосы у неё не пышные и густые, как бы ей хотелось, а гладкие, редкие и блестящие, словно медная проволока. Мать говорила, будто в детстве у неё были чёрные кудряшки, а потом выровнялись и порыжели. На старых фотокарточках она была как куколка – куда всё подевалось?! Правда, иногда на неё находило: брала у Любки бигуди, тени, помаду и накручивалась, подкрашивалась, напудривалась, как городская. Любка пялила на неё свои голубые глаза, цокала языком, а Танька не узнавала себя в зеркале, покатывалась со смеху и боялась выйти на улицу. Вот если б не боялась, так, может, и не стояла подпоркой клубовских стен, а натирала бы пол наравне с другими смазливыми девчатами. В общем-то она ведь не смурная, не занудливая – ей только раскачаться, а она и смеяться любит, и в карман за слоном не полезет, и спляшет тебе так, что каблуки напрочь, и споёт в хоре – вторым голосом поведёт, не подпачкает. А когда смеётся, Любка говорит, прямо молодеет лет на двадцать – зубки белые, чистые, ровные, по щекам ямки, как у ребёночка, и глаза не такие буркалки, а узенькие, с искорками. Прямо не девка, а ах-ах – первый сорт! А вот раз боишься – стой, подпирай.
Она уже хотела помахать Любе, дескать, пока, целуй бока у старого быка, – помахать и удалиться, но тут вдруг к ней подошёл этот Игорь и пригласил танцевать. Ну что ж, она пошла – не торопясь, без ахов и охов, как некоторые, а с достоинством, дескать, не больно-то и хотелось. Они протанцевали пять танцев, и за все пять танцев Игорь сказал десять слов, не больше. Он сказал, что в части, где служил, было не до танцев, потому что они стояли на границе и в ночь да через ночь объявлялась повышенная готовность. И что, дескать, до сих пор ходит невыспавшийся. Танька сказала: "Ага, заметно", но он не обиделся, а только как-то странно хмыкнул и сказал, что давно приметил её на конвейере. Танька на это сказала, что для неё странно, как это он, всё время полусонный, ещё может кого-то замечать. Он пожал плечами и вдруг ни с того ни с сего пообещал проводить её домой.
И вот – проводил. Танька злорадно усмехается, вспоминая, как он гремел по лестнице своими кирзухами, и с горечью думает: "Эх, невезучая я".
Она ложится в постель и долго не может уснуть – ноги как ледяные. Она укрывается с головой, дышит под одеяло, сворачивается калачиком. Ей вдруг вспоминается запах одеколона, которым был сверх меры надушён Игорь, – противный, тошнотворный запах. Что он ей напоминает? Она силится вспомнить, но не успевает – сон смаривает её.
Утро выдалось ясное, морозное, с полной луной над горизонтом, с яркими, чистыми звёздами по всему небу. За ночь подсыпало снежку – свежий, белый, он празднично искрился под светом фонарей на присыпанных тропинках, пушистыми шапками красовался на чёрных столбах покосившихся заборов.
Танька шла в цех упругой, лёгкой походкой, ей было тепло и удобно в стёганой телогрейке, шерстяном платке и белых катанках, расхоженных матерью и теперь таких мягких. Она хорошо выспалась, с утра натаскала воды, затопила печку, крепко позавтракала вчерашними беляшами – три штуки навернула с крепким горячим чаем – и теперь шла бодро и весело, чувствуя в себе силу и здоровье.
По жёлтой дороге, обледенелой и покрытой замёрзшими лепёхами, гнали стадо в забойный цех. Бычки и нетели, старые коровы и быки бежали торопливой трусцой, понурые и озабоченные. Парок от их частого дыхания вырывался тонкими, прозрачными облачками и, смешиваясь, плыл вместе со стадом.
Таньку всегда удивляло, почему скотина так безропотно и спокойно бежит к месту своей погибели – неужто не чувствуют? Ведь через каких-то двадцать-тридцать минут они уже будут висеть ободранными тушами на конвейере. Таньке было жаль скотину, особенно в эту утреннюю пору, когда день только начинается и впереди целая жизнь, а они… уже не увидят рассвета. Жалость эта копилась-копилась, и постепенно Танька решила про себя, что вот ещё день-два, неделя, и она уйдёт куда-нибудь в другое место, на какую угодно трудную работу, только подальше от крови, от этих покорных, печальных глаз, от каждодневной жестокой пытки. Она хоть сейчас с радостью бы бросила работу на мясокомбинате, но устроиться в их посёлке было не так-то просто. Да и кому она нужна с восьмилетним образованием, без специальности, без диплома. Хотела закончить десять классов, но отец попрекнул как-то куском хлеба, после праздничного вечера в школе, когда она на час позднее пришла с танцев, вот она и взбрыкнула: ах так, пойду работать, свой хлеб буду есть – не ваш! Как потом мать плакала, умоляла вернуться в школу – нет, упрямая, как необъезженная кобыла: работать, и только! "Ну и правильно, – сказал отец. – Читать-писать умеет, и хватит с неё. Замуж выйти образования не надо. Да и с образованием-то трудней мужа найти, привередничать будет; тот глуп, этот туп, а с простым и жизнь проще. Правильно, трудиться надо". Вот и трудится – два года промелькнули. Другие ужо получили аттестаты, ещё весной разъехались кто куда – кто в институт, кто в армию, кто в техникум подался, а она да Люба, тоже невезуха, вдвоём так и вкалывают на комбинате – чтоб он сгорел! И почему обязательно надо есть мясо? Живут же люди по прозванию "вегетарианцы", едят только зелень: траву всякую, овощи, фрукты. Разве мало у нас земли, чтобы выращивать на всех картошку, капусту, свёклу, морковку? Подсолнухи – тоже вещь: масло можно давить – чем плохое масло? Почему обязательно надо заниматься живодёрством?!
Её кто-то стукнул по плечу, обернулась – Игорь!
– Здорово, невеста! – он крепко взял её под руку.
Танька решительно, резко отстранилась.
– Чего? Не выспался?
– А че?
– Ниче. Не засватана.
– Ну?
– Загну!
– Учтём. Вечером жди.
– Ага, приходите в шесть часов, нас как раз дома не будет.
– Смотри ты, говорунья. Я же серьёзно.
– А я что? Прям падаю от смеха.
Они подходили к проходной. Игорь тронул Таньку за рукав и, кашлянув, сказал:
– Татьяна, погоди два мига.
Она остановилась вполоборота к нему, будто и не с ним стоит, не с ним разговаривает.
– Ну?
– Ты же меня знаешь, не трепло, не пьяница. Семью надо заводить. Человек ты хороший, самостоятельная девушка. Ну и… вот такие пироги.
Танька стояла, пиная валенком снег, чувствуя, как бьётся от волнения сердце и разгораются жарким огнём щёки. Она искоса посмотрела на него и вздохнула про себя: "Эх, остолоп! Ты-то мне вот ни капельки не нравишься.."
– Ну и что с того? – сказала она. – Это твои такие пироги, а мои, может, совсем другие.
– А твои пироги какие? – растерянно, с опаской спросил он.
– Ишь ты, шустрый какой! То сонный ходит, то как наскипидаренный. Видно, и пироги твои такие: то недожаренные, то угольками.
– Чего мелешь? Чего закавыками такими говоришь? Тут разговор про жизнь, – жениться на тебе хочу, дура! – а она про пироги.
– Между прочим, ещё не жена, дур мне не насовывай, а то вообще в упор тебя не увижу. Понял?
Она рубанула воздух своей маленькой крепкой рукой в варежке и, вскинув голову, пошла к проходной. Он с досады хлопнул себя по бедру, плюнул в снег, кинулся вслед за Танькой. Она уже шла по территории, с поджатыми губами, с глазами круглыми, немигающими, нацеленными прямой наводкой в цеховые ворота. Он догнал её, загородил дорогу.
– Ты че? Я ж по дружбе, так, без умысла.
Танька подождала, пока он высказывался, потом молча обошла его, как дерево или бетонную конструкцию, которую не своротишь, и, не обернувшись, ушла в свой цех. Игорь потоптался-потоптался возле ворот и, махнув рукой, повернул в забойный.
Вечером Игорь заявился к Таньке домой с дружком своим Васькой Пятуниным, киномехаником поселкового клуба. Отец Таньки, Макар Игнатьевич Стрыгин, сидевший на кухне в нательном белье и читавший от корки до корки журнал «Политическое самообразование», услышав мужские голоса в прихожей, тотчас высунул свою круглую плешивую голову.
– Макар Игнатьевич, до вас, здрасьте! – торопливой скороговоркой сказал Васька, низенький крепыш, курносый, улыбчивый, одногодок Игоря.
Оба они с шапками в руках переминались с ноги на ногу, умещаясь на половичке у порога. Танька дёрнула головой, отчего тоненький рыжий хвостик на затылке мотнулся, фыркнула и, окинув гостей круглым глазом, ушла в комнату. Макар Игнатьевич вышел из кухни, высокий, тощий, с выпирающими ключицами, жилистой шеей и тонкими руками – хоть почти всю жизнь на мясе, видно, из такой породы, что, как говорят, не в коня корм.








