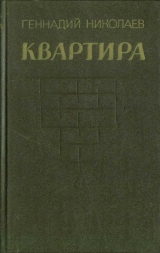
Текст книги "Квартира (рассказы и повесть)"
Автор книги: Геннадий Николаев
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
Болтая, он ловко между тем одевался и, когда напялил пиджак, сказал:
– Вот сейчас пару бутылей на карман и – куда? С визитом доброй воли! Метишь из угла в ворота – бей вертуна.
Открыв чемодан, он извлёк оттуда две плоские бутылки, наполненные бесцветной жидкостью, название которой не оставило у Максима Тимофеевича никаких сомнений. Незнакомец сунул их в боковые карманы пиджака с приговорочкой:
– Пыты вмэрты и не пыты вмэрты, так лучше пыты вмэрты, чем не пыты вмэрты.
Расчёской и ладонью он пригладил редкие свои волосы, нахлобучил шапку, влез в полушубок, взял рога и помахал Максиму Тимофеевичу:
– Ауфвидерзина!
Когда за ним с грохотом закрылась наружная дверь, Максим Тимофеевич приподнялся на локтях, повернулся и, придерживая дыхание, сел, опустив ноги на пол. Сердце билось ходко и неправдоподобно шумно, оно словно бы вскидывалось там, как вскидывается попавшая в силок небольшая птица. Удары его толчками оттопыривали на груди плотно облегавшую трикотажную рубашку, и казалось, не будь этой сиреневой пружинящей ткани, оно так и выскочило бы наружу. Голова его сладко кружилась, и он сам не понимал, зачем встаёт и что будет делать дальше.
Вынув из-под подушки мандат, Кочегуров осторожно поднялся, постоял, держась одной рукой за поясницу, а другой сжимая сложенный вчетверо лист, потом сделал шаг, другой, пошёл семеня и покачиваясь. У койки Лапенкова он остановился, положил мандат на подушку, – пусть сразу заметит! – присел над ящиком с краниками, взялся за оттянувшуюся верёвку и на корточках мелкими бережными шажками попятился к своей койке. Он дышал прерывисто, осторожно, чуть схватывая воздух перекошенным ртом и тут же выдыхал. Движения его были медлительны, но неуклонны. Он чуть откидывался на спину короткими рывочками – вслед за ним скользил, двигался тяжёлый армейский ящик. На полпути ящик вдруг зацепился за что-то, движение застопорилось, и Максим Тимофеевич бухнулся на колени.
Он долго стоял на коленях, с неуклюже вывернутыми ступнями, упираясь дрожащими руками в ящик, пережидая, пока сердце не войдёт в обычный размеренный ритм. Сейчас оно билось с какими-то пугающими провалами, от них мутилось и путалось в голове, темнела перед глазами, и он как бы терялся в пространстве. Он стоял, как лама на молитвенной доске, и в его то темнеющем, то светлеющем сознании сам собой молитвенно плёлся невнятный словесный речитатив. "Сейчас, сейчас, подожди, подожди", – бормотал он, сопротивляясь соблазну припасть к манящей твёрдости холодного пола. Жизнь до срока состарила его, но и развила в нём упорство сродни неживой природе – камню, металлу, мёртвой древесине. Сам он не смог бы ни понять, ни объяснить такого упорства в себе. Ему было немного стыдно: ведь, по сути, во второй раз покушается на чужие краники, нарушает своё же собственное слово, скатывается в прежнюю колею жизни. Но стыд этот скользил где-то поверх его души, не проникая в неё. Да, он сознавал, что снова поступает дурно, нечестно, но сознавал и другое: если бы не было перед ним этого тяжёлого ящика с краниками, если бы не связан он был через эти краники с огромным заводским механизмом за две с половиной тысячи километров, то наверняка ещё вчера околел бы в этом глухом заштатном городке. Он подобрал поудобнее ноги, упёрся одной рукой в пол, а другой начал поталкивать ящик в обратном направлении, пока тот не сдвинулся и не сошёл с мели, на которой сидел. Налегая на него всей тяжестью, он отпихнул его ещё дальше и в сторону, чтобы обнаружить помеху и обойти её при следующей попытке. Увидев шляпку гвоздя, торчащую из облупленной половицы, он обрадовался так, что защипало глаза. Теперь, прежде чем браться за ящик, он осмотрел путь до своей койки, тщательно и дотошно проверив каждый сантиметр. Удобнее всего оказалось двигаться ползком, на боку и упираясь рукой в пол. Чтобы обойти шляпку, пришлось сделать зигзаг, но это не смутило Кочегурова, теперь он не спешил – наоборот, он как бы смаковал каждое своё малейшее передвижение, как бы любовался своей тонкой работой, словно рисовал или складывал из мозаики большую картину. Он не чувствовал ни ледяного холода, исходившего от пола, ни сквозняка, который шевелил его седые встрёпанные волосы, и не замечал пота, что каплями висел на бровях и кончике носа. Он знал, что дотянет ящик до передней ножки изголовья и что, пока не сделает эту работу, ни черта с ним не случится, а что будет дальше, об этом не думал, хотя и предчувствовал, что лучше бы ему тащить этот отлично сбитый армейский ящик как можно дольше.
После каждого неторопливого рывка он краем глаза поглядывал через плечо – спинка кровати казалась ещё вполне в безопасном удалении, но чем ближе он подбирался к цели, тем всё короче становились рывки, тем всё тяжелее казался ящик, всё слабее руки. И наконец наступил момент, когда, обернувшись, он чуть не стукнулся лбом о торчавшую возле самого лица ножку кровати и тогда в невольном страхе пополз в сторону, как от внезапно открывшейся трясины, стыдясь своего страха и не имея сил совладать с собой. Опомнившись, он тут же придумал оправдание: так надо было, так он задумал с самого начала – поставить ящик не в изголовье, а под койку и как можно глубже! Чтобы не сразу заметили…
– Что с вами? Что вы делаете?!
Голос донёсся до него глухо, смазанно. Он расслышал его с трудом, словно говоривший прикрывал рот полотенцем или варежкой.
Сильные руки подхватили его, бережно подняли с пола. Голова его запрокинулась, и в сумеречной полутьме он различил над собой напрягшееся молодое лицо. Оно показалось ему знакомым. Он попытался вглядеться в него, но оно уплыло куда-то, потом снова мелькнуло, проявившись сквозь яркие пляшущие пятна. "Это же парень, – догадался он. – Опять валандается…" И будто внутри себя услышал глуховатый с нотками отчаяния голос Лапенкова: "Не поверил, перетащил оттуда вот сюда". "Чудовищно!" – откликнулся женский голос.
Ему представилось, будто сердце его вынули у него из груди, положили на армейский ящик и тащат сквозь густое поле колосящейся пшеницы. Колючие стебли царапают его, покалывают, спелые колосья раскачиваются мохнатыми метёлками, зерно осыпается, падает. Чёрная полоска земли обильно посыпана зерном и смочена кровью, его кровью. Смятые стебли выпрямляются И снова смыкаются ровной стеной, словно никто никогда их не тревожил.
Его вернули с того света. Когда он очнулся, его осторожно переложили с койки на носилки. Мутными умоляющими глазами он отыскал Лапенкова, скосился на ящик с краниками. Лапенков нагнулся над ним, чтобы расслышать то, о чём он просил. "Ящик… со мной… пусть со мной… возьмут…"
Его внесли в машину "скорой помощи", и он всё силился приподнять голову, чтобы убедиться, что краники не остались в гостинице. И лишь когда Лапенков с шофёром втащили в машину и ящик, он с облегчением закрыл глаза.
Чистые «хвосты»
Несколько часов кряду директор химического комбината Иван Сергеевич Морохов вёл совещание по «хвостам» – жидким отходам последней ступени выщелачивания. Говорили много – и горячо, и сдержанно, и умно, и не по делу. Защитники природы требовали законсервировать производство до тех пор, пока не будут построены очистные сооружения. Прожектёры предлагали фантастические варианты – каждый грамм чистых стоков обошёлся бы в пять граммов золота. Третьи советовали разбавлять «хвосты» водой и, не мудрствуя лукаво, сбрасывать в канализацию, – дескать, потомки простят и что-нибудь потом придумают.
Морохов, конечно, понимал, что стоки ядовиты, гибельны для природы и что с ними надо что-то делать. Но он понимал и другое: уж если завод пущен, то никто ни в жизнь не остановит его, пристраивать же очистку к действующему заводу почти так же дорого, как и строить новый такой же завод. И так тускло и муторно было у него на душе – и от этого понимания, и от тяжёлой усталости, и от ноющей, прихватывающей боли слева, в груди, что он прервал очередного оратора и объявил решение: будем выходить с этим вопросом к министру.
– Все свободны, – сказал он хмуро и достал валидол.
Кое-кто попытался задержаться в кабинете, но он решительным жестом дал понять, что никаких разговоров не будет, и все удалились.
Сунув под язык таблетку, он посидел с минуту в полной неподвижности, глядя в окно, на асфальтированную площадку между берёзами. Что-то там было не так, как обычно. Наконец он сообразил, чего не хватает – "Волги". Иван Сергеевич вызвал секретаршу и, чуть шепелявя из-за валидола, велел разыскать шофёра – хоть из-под земли, и немедля. Сказал это спокойно, не повышая голоса. Его крупное серое лицо с большими, резкими складками вокруг рта было невозмутимо. Он отвернулся к окну. Секретарша спросила:
– Вам плохо? Может, врача?
Его вдруг резанул тон её голоса – холодный, необязательный, казённый. С таким незаинтересованным выражением обычно спрашивают о чём-нибудь только для приличия. Уж лучше никакой заботы, чем такая. Он перевёл на неё свои тяжёлые серые глаза и раздельно, сдерживая раздражение, произнёс:
– Я вам сказал: машину.
Поднялся, постоял в раздумье и медленно пошёл через приёмную в коридор – ни на кого не глядя, переваливаясь и втягивая голову в плечи, как большая и старая птица.
Выйдя на крыльцо, он надел тёмные очки. Был конец сентября, обыкновенно грустная, дождливая пора в этих местах, но нынче, на удивление, стояла сухая и жаркая погода. Говорили, будто по второму разу зацвёл багульник, а на черёмухе и ольхе набухли почки. Морохов отошёл в тень, под берёзы.
За пыльными, поблекшими кустами акации стояли скамейки и столы – в обеденный перерыв тут забивали "козла" и вечно толклась дежурная шоферня. Морохов выплюнул в урну не до конца растаявший валидол, сел на скамейку. В глубине рощицы, развалившись на траве, трое рабочих в строительных спецовках ели хлеб, запивая молоком прямо из литровых бутылок. Из открытых окон заводоуправления доносились голоса, стук пишущих машинок, звуки музыки. Пятый год ютятся в бараке? Комбинат построен, а управление – в последнюю очередь. Так же, как и дороги…
Обычно, как бы и куда бы ни спешил, он обязательно хоть ненадолго заворачивал на строительство нового здания управления – посмотреть, подшуровать, вовремя помочь. Сегодня не то что смотреть на стройку – думать о ней было противно. И он прикрыл глаза, стараясь отогнать дурные мысли, успокоить себя, но, как ни старался, всё в нём клокотало и топорщилось от раздражения.
Он нередко бывал не в духе, работа давала к тому повод ежедневно и ежечасно, и он приучил себя кипеть только внутренне, внешне оставаясь невозмутимым. Но нынешняя хандра сломила все его душевные заслоны и заполонила волю, лицо, голос. "Была бы причина, а то так, мистика одна да и только", – думал он с тоской, глядя под ноги на раздавленные окурки.
…Ещё в прошлом году главк начал составлять список на Государственную премию за коллективную работу – проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию крупного химического комплекса, пущенного восемь лет назад. Морохов на том комплексе был заместителем главного инженера и надеялся, что его не забудут, оценят. Он не умел, как некоторые, действовать тонкими обходными манёврами, а посему терпеливо ждал, когда начальство само сообщит ему о премии. И, наконец, дождался: позвонил его старый товарищ, начальник главка Сидор Петрович Бартенев, и по секрету сказал, что оба они попали в предварительный список, но как дальше дело пойдёт, одному лешему ведомо. А через неделю или того меньше Морохов позвонил Бартеневу насчёт фондов, сырья и прочих хозяйственных дел, и Сидор Петрович торжественно объявил, что премия есть – "следи за газетами". Действительно, вскоре сообщение появилось. С разных концов страны стали приходить поздравления – из министерства и с заводов, на которых он раньше работал, от старых приятелей, сослуживцев. Жена испекла ему торт, чего давным-давно уже не делала. Сын написал шутливое поздравление в стихах. Дочь потёрлась о плечо и незаметно уговорила его подарить к её свадьбе взнос на двухкомнатную кооперативную квартиру. В ресторане посёлка был устроен ужин, и всё было бы хорошо, если бы не один маленький пустячок, омрачивший лауреата.
Совсем недавно, на прошлой неделе, из Москвы вернулся начальник техотдела и после официального отчёта о делах осторожно, как бы вскользь, сказал о том, что вчера в ресторане "Прага" министерство устраивало банкет по случаю премии и что там были многие – и проектировщики, и производственники: с Урала, с Украины, даже из Норильска. Морохова обожгло это сообщение, но он сделал вид, что пропустил его мимо ушей. А вечером того же дня позвонил Бартеневу якобы по поводу реконструкции складских помещений, надеясь, что Бартенев разговорится, расскажет про банкет и всё как-нибудь объяснится. Но начальник не пошёл на нужный разговор, был сух, официален, а под конец сказал, что им обоим пора, видимо, подумывать о преемниках – так по всему видно из намёков высшего начальства. Иван Сергеевич отшутился, сказав, что преемника придётся искать где-нибудь на ферме – с крепкой шеей, потому что хомут велик и воз тяжёл. Отшутился теперь и Бартенев – дескать, пусть-ка попробуют найти ещё таких чудаков, любителей сверхурочной работы.
Отшутиться-то отшутились, а между тем игла с ядом уже глубоко сидела в мороховской душе. Сначала было просто обидно: ему шестьдесят один, тридцать из них вкалывал в химической промышленности, работал на Кемеровском коксохиме, на заводах Украины, Урала, на Севере. Учился урывками, по ходу дела – ночами да во время отпусков. А сколько раз травился, горел, чудом спасался от взрывов?.. Но дело не в этом – это история, развитие отрасли, могло быть и хуже. Даже дело не в том, что, как запряжённый коняга, вытягивал месячные планы, повышенные обязательства, сверхплановую продукцию для министерских рапортов. Обида в другом: в том, что и в свои шестьдесят он не болтается где-то в обозе, а с первого же года вывел комбинат на одно из первых мест, и, дай срок, будет в завкоме стоять переходящее знамя министерства.
Но и не только планом занимается директор Морохов – он успевает следить за новинками, внедряет НОТ, вычислительную технику, программирование. Уж кого-кого, а не Морохова упрекать в том, что не справляется со своими обязанностями. Уж кто-кто, а Морохов тянет, как дай бог чтобы все тянули! Конечно, он понимал, что сейчас по стране могучей волной идёт научно-техническая революция, понимал, что внедрение новых принципов в управление потребует и новых людей, молодых, более гибких, более демократичных, более образованных. Это вечный процесс – старое отмирает, новое приходит на смену. Всё так, всё верно, но будьте же вежливы и справедливы! Почему люди, о которых он раньше и слыхом не слыхивал, были на банкете, а его не пригласили? Говорят, проектировщики все были, – ох уж эти великие труженики карандаша и бумаги! Истёрли за пятилетие десять килограммов резинки! Испачкали десять тонн ватманской бумаги!
Он понимал, сколь мелка его злость. Как умный человек он понимал, что всё дело в ущемлённом тщеславии, в элементарной зависти, но что бы он там ни думал теоретически, а практически ничего не мог поделать с собой – вот уже несколько дней нянчился со своей обидой.
Размышляя изо дня в день об одном и том же, вспоминая, сопоставляя и взвешивая, он вдруг пришёл к выводу, что его не любят: не любят в министерстве, не любят на заводе, не любят дома. Его слушают, ему подчиняются, его терпят; ему завидуют, его боятся и, возможно, ненавидят. К нему питают самые разнообразные чувства, кроме одного, того самого, которое воспели поэты и на котором, как уверяют, держится мир. Его не любят! Да, это-так элементарно, так очевидно! Ведь если бы любили в министерстве, то обязательно пригласили бы на банкет. Если бы любили на заводе, то возмутились бы и обратились в министерский партком, спросили бы строго и ответственно: "Почему обижаете нашего Ивана Сергеевича?" Нет, никто не заступился за него.
Да и в этом ли только дело! Сколько крови каждодневно портят ему по всяким мелочам, сколько анонимок пишут в Москву, сколько всяких сплетен плетётся вокруг его имени! И ни разу за всё время работы никто не сказал ему доброго слова – не того официального, неискреннего, которому грош цена, а настоящего, сердечного, пусть критического, без жалости, но по любви. Да и кто скажет? Друг? Не было у него друзей – всё только приятели да товарищи по работе. Самый близкий из них, пожалуй, Бартенев, но какой же это друг? Начальник! Стоит чуть забыться, живо вместо "Вани" – "Иван Сергеевич" и – "доложи!". Из подчинённых тоже друзей не получается: либо "чего изволите", либо "независимые", либо просто неинтересные.
Дома – он об этом думал впервые – с ним холодно приветливы, относятся к нему точно так же, как и он к ним – к жене, сыну, дочери. Вот ведь странно, этот небрежно-прохладный тон стал стилем, привычкой, и жена не раз ссорилась с детьми из-за чего-то в этом роде. Таня – завуч средней школы, человек серьёзный и суховатый. Она и раньше не больно-то радовала его теплотой, а теперь даже обыкновенная супружеская близость становится для них всё более и более трудной. Он чуй-ствовал, как они всё дальше и дальше отходят друг от друга, как бы размагничиваются, теряют силу взаимного притяжения, но отмечал это прежде без горечи, а с холодным сердцем и спокойной душой. Что же, теперь ясна и первопричина отдаления: нет любви. К нему нет любви – вот в чём всё дело!
Ему вспомнились дети, когда-то милые и ласковые, а с некоторых пор вдруг ставшие насмешливыми, невнимательными, чёрствыми. Сын Валерий, оказалось, ненавидит технику, мечтает стать филологом. Стишки пописывает – этакой мурой занялся! Дочь Ляля недавно заявила матери, что выйдет замуж за того лейтенанта, который мелькал тут несколько раз, и уедет с ним в Минск, потому что "дома становится невыносимо". А что невыносимо? Пятикомнатный коттедж им невыносим? Беззаботность им невыносима? Странно, странно…
Нет, если бы они любили его, Морохова Ивана Сергеевича, главу семьи, то разве стали бы ненавидеть технику, выходить замуж за какого-то лейтенанта, лишь бы только уехать из дому, продолжать вопреки его желанию бессмысленную, изматывающую работу завуча, когда он зарабатывает столько, что хватило бы ещё на две такие семьи? Не любят! И никогда не любили… Стоп, стоп, стоп! Что значит "никогда не любили"? Что же он – хуже других? Э, нет, в этом надо разобраться. Разве он зануда какой-нибудь? Злой деспот? Скряга? Последний дурак? Получается, что он сам наговаривает на себя.
Мысли его прервались – подъехала машина. Шофёр Стёпа, рыжий, рябой, с круглым лицом волжанин, разговорчивый, но держащий себя в рамках, остановился точно напротив Морохова и, высунувшись из окошка, посыпал окающей скороговоркой:
– Опять радиатор потёк. Иван Сергеич, пришлось постоять, крантик заменить, а вы и не сказали, что потребуюсь, кабы знал, вечером бы сделал, а то, думаю…
Морохов сдвинул брови, и Стёпа тотчас умолк, как чуткий музыкант по знаку дирижёра. Иван Сергеевич поднялся и, подойдя к машине, помахал Стёпе расслабленной кистью: дескать, выметайся из кабины. Стёпа без лишних слов проворно выпрыгнул на асфальт, услужливо распахнул перед хозяином дверь. Морохов, грузно пригнувшись, с кряхтеньем уселся за руль. Стёпа осторожно прикрыл дверцу.
– Вечером сиди дома. Позвоню – отгонишь машину, – сказал Иван Сергеевич и попробовал ногой газ.
Стёпа с готовностью кивнул, одним ухом слушая мотор, другим – хозяина. Он почтительно отодвинулся, давая дорогу, но тут же присогнулся к окошку и попросил:
– До поселочка не подбросите, а, Иван Сергеевич?
Морохов поморщился, оглянулся, выбирая место для разворота, и недовольным тоном проворчал:
– На автобусе доедешь.
Стёпа засмеялся, закивал и ещё дальше отодвинулся от машины – влез в кусты. Морохов развернулся и поехал в посёлок.
Остановился он возле гастронома. Пересиливая усталость, долго сидел неподвижно, закрыв глаза, вслушиваясь в работу двигателя. Он любил и знал машину, наездил не одну сотню тысяч километров, а когда был помоложе, всегда сам делал мелкий ремонт своей старенькой "Победы". Только давненько это было, уже лет пять как не прикасался к своей машине, лишь изредка заглядывал в гараж – там ли, не угнана ли ещё. Как поставили директором, не то что на машину, на жену времени не осталось. Бывало, месяцами виделись только мельком, утром за завтраком да поздно ночью, если жена случайно просыпалась от скрипа кровати под его грузным телом, когда он валился почти бездыханный от усталости. Месяцами! Но что поделаешь – пускал комбинат, цех за цехом, корпус за корпусом, все пять лет. Да и сейчас не скажешь, что комбинат раскручен на всю катушку – ещё столько всяких мелочей, вроде этих "хвостов".. Хотя какая же это мелочь, если вдуматься? Тонны ценнейших металлов ежегодно будут сбрасываться в канализацию, в то время как целые отрасли промышленности испытывают в них острую нужду. Конечно, если рассуждать по-хозяйски, то надобно эти "хвосты" бережно собирать и пускать на дальнейшую обработку, но… но это уже за барьером его, мороховского ведомства, это уже совсем другое министерство…
Опять он скатился к проклятым "хвостам"! Не об этом надо думать сейчас, не об этом! Ему захотелось поговорить с женой, поговорить по душам, как когда-то бывало, а когда – он уже и забыл. Поговорить не о заводе, не о том, что в цехе выщелачивания опять переливы и вот-вот нагрянет комиссия, и не о том, что теперь сильнее всего его пекут "хвосты", а просто о жизни, о её жизни, о его жизни, о жизни их детей. Да просто поболтать, в конце концов. Взять вина, конфет и уехать куда-нибудь в лес, на поляну – в тихий чистый уголок…
Он сидел в машине, откинувшись на спинку сиденья и устало прикрыв глаза. Сигарета дымилась у него во рту, но он не затягивался – не хотелось, дым казался противным, но и выбросить её не было сил. Дома, пятиэтажные коробки, лес за посёлком, дорога с телеграфными столбами – всё казалось через прищуренные веки нереальным, мерцающим, расплывающимся. И день, как назло, выдался очень жаркий. В машине было душно, от нагретой крыши веяло зноем. Иван Сергеевич обливался потом, его знобило. Какие-то люди, шедшие по дороге, остановились возле машины, и кто-то спросил, не подбросит ли он их до вокзала. Не расцепляя тяжёлых, словно склеившихся, век, он процедил сквозь зубы "нет". Люди ушли, цокая по асфальту коваными подмётками, и по звуку их шагов он догадался, что это были солдаты.
Он сидел и прислушивался к своему сердцу. Оно словно переместилось из груди в голову и, раздвоившись, шумно стучало где-то возле висков. Биение то ускорялось, и он начинал дышать реже и глубже, стараясь как бы придержать его, то замедлялось, – тогда темнело в глазах, дыхание учащалось, и он холодел от страха: казалось, вот-вот, ещё удар, и оно остановится. Но сердце, как тяжёлый кривошип, достигнув верхней точки, снова набирало скорость. Он сидел, а ему казалось, будто его качает – то погружает в яму, то вскидывает на гребень волны.
Ему обожгло губы, он понял, что это прогорела сигарета. Преодолев страшную тяжесть, он поднял руку и выбросил окурок в окно. Тотчас сердце отозвалось бешеной пляской, он чуть не потерял сознание. Когда перед глазами снова посветлело, он достал валидол, две таблетки, и положил в рот. Мятная сладкая прохлада ударила в нёбо, несколько минут он сидел неподвижно, стараясь ни о чём не думать. Ему стало легче. Он выключил двигатель, сходил в магазин, купил бутылку коньяка, несколько бутылок боржоми, яблок, колбасы, сыру, конфет. Всё это он небрежно сложил на заднее сиденье и, потный, задыхающийся, пошёл к автомату звонить жене.
С трудом отыскал в своей записной книжке её служебный телефон – номер полустёрся, он едва вспомнил последние цифры. Татьяна оказалась в учительской, на месте.
– Иван? Ты? – удивилась она. – Что случилось?
– Слушай-ка, Таня, я тут с машиной, возле гастронома, давай махнём куда-нибудь – в лес. А? Как ты?
– В лес? Сейчас? Не понимаю, что за фантазия!
– Да просто походим, поговорим. Давай!
– Слушай, ты меня разыгрываешь? У меня нет времени. Сейчас зазвенит звонок – надо присутствовать на уроке.
– Отмени, перенеси. Прошу тебя.
– Не могу, обещала.
– Я себя очень плохо чувствую, – сказал он дрогнувшим голосом.
– Что с тобой?
Ему хотелось пожаловаться, сказать, что чуть-чуть было не отдал богу душу, но он пересилил себя и небрежно сказал:
– Мотор что-то барахлит, перебои.
– Что? Мотор? Какой мотор? Ах да… – Она помолчала и с тревогой в голосе, и с раздражением сказала: – Сколько я тебе говорила: сходи к врачу! Вот возьми сейчас и вместо леса сходи в поликлинику.
– Да?
– Прошу тебя, сходи, Ваня.
– И всё?
– Сходишь? Обещаешь? Извини, мне надо идти.
Он повесил трубку. На душе было горько, обидно.
В голосе жены прослушивались те же казённые нотки, что и у секретарши. Или так показалось от жары и усталости? Он стоял в будке, прислонившись спиной к ребристой стенке, и не знал, что дальше делать, куда спрятать тоскующую свою душу, чем снять тугие ухватистые лапы, сжимающие сердце.
И тут он снова, второй раз в этот день, вспомнил про Зину, ту самую Зину, старшую лаборантку, с которой здесь-то и знаком не был, а познакомился в Москве, когда оба были в командировке. Первый раз он вспомнил о ней утром, случайно, в спешке уронив чугунного орла, подвернувшегося под руку. Статуэтка упала на паркет, но не разбилась. Чертыхнувшись, он поднял её и сунул на подоконник. И на секунду, а может, на какой-то миг вспомнил Зину – радости это воспоминание не принесло.
Орла подарила ему Зина – ни с того ни с сего взяла и купила безделицу за двадцать рублей (ярлык с ценой был наклеен снизу на мраморное основание). "Зачем ты купила это страшилище?" – спросил он. "Не нравится – выкинь", – обиженно сказала она. "Зачем же, пусть. А тебе нравится?" – "Мне – нравится. Хочу, чтобы стоял у тебя в кабинете". – "Эта птица не кабинетная", – усмехнулся он. Конечно, нелепый, неумный подарок, но выбросить его почему-то не решился, хотя было такое желание. Орёл опустился в его домашнем кабинете на подоконник, рядом с глобусом, возле которого он брился по утрам.
Теперь, стоя в будке, он вспомнил о Зине, как о спасительной соломинке, которую в трудную минуту посылала ему судьба. Она нужна была ему – её искренняя радость, её бесхитростные грубоватые шутки, её горячие ласки, её доверчивость и обожание, смешанное со странной робостью и удивлением. Ещё в Москве она как-то призналась, что временами шалеет от радости, не может понять, как, за какие такие заслуги привалило ей счастье: такого знатного мужика подцепила! Он усмехался на её наивные признания, покрякивал, но молчал – такие разговоры были ему приятны.
Он позвонил в лабораторию, к телефону подошла Зина. Сказал, что хочет видеть её сейчас же, немедленно, пусть бросает свои банки-склянки и мчится к проходной – он будет ждать её за поворотом дороги, в берёзовой рощице. Он усмехнулся про себя и подумал: "Старый пижон! Свидание в берёзовой рощице!" Но усмешка эта и мысль про рощицу не разогнали его хандры, – наоборот, усилили, потому что он вспомнил, что Зине тридцать два, она крепка телом, горяча, по-зрелому ненасытна. Ему вспомнились ночи в столичной гостинице, наполненные, как чадом, страстью, непомерной усталостью. После командировки он только дважды звонил ей, и оба раза она с готовностью откликалась на его зов. Теперь он позвонил ей в третий раз. Она глубоко, как показалось ему, с облегчением вздохнула и коротко сказала: "Иду".
Он вернулся в машину и закурил. Время было: пока она переоденется и дойдёт до проходной, можно десять раз доехать до завода. Он подумал, куда бы поехать на этот раз, но какие бы места ни перебирал в памяти, а лучше того затончика, где он однажды останавливался, не нашёл. Вдруг поймал себя на том, что хочет в этот затончик, в этот чудный и тихий уголок – хочет один, без Зины. Вспомнил, как странно бледнеет и тягуче, подолгу, не мигая, смотрит на него в минуты близости Зина и как ему всегда хочется прикрыть пальцами её круглые карие глаза с большими зрачками. Однажды он вспылил и сказал, чтобы она не таращилась на него, он не истукан какой-нибудь и не музейная редкость. Тогда она жалобно замигала и, измученно улыбаясь, сказала: "С тобой я про всё забываю, даже мигать". Он хотел уязвить её, сказать: "Уж про мужа и пацанов ты точно забываешь", – но сдержался, промолчал.
Поток встречного воздуха освежил его, сердце вошло в обычный ритм, и Морохов поднажал на газ. Весело замелькали за обочиной молоденькие ёлочки, посаженные в прошлом году по его указанию. Зашумел, засвистел ветер. Понеслась под колёса широкая асфальтированная дорога, каждый километр которой выжимался в своё время его волей, его энергией, его нервами. А вот уже и завод: серые блочные корпуса, дымящие трубы, стальные элеваторы, ректификационные колонны – современная химия! Всё вокруг, от трансформаторной будки до могучих градирен, – всё воздвигнуто, сделано при нём, с его личного ведома и при самом непосредственном участии, если считать "участием" пуск завода и дальнейшее руководство им. Нет, не просто участвовал Иван Сергеевич Морохов в этом огромном химическом комплексе – он растворялся в нём своей кровью, нервными клетками, звуком голоса, ударами сердца скреплял бетонные блоки цехов, сваривал сотни километров трубопроводов, вскипал вместе с реагентами в гуммированных реакторах. Пожалуй, никто не знал завода так, как знал его директор Морохов.
Однако не об этом думал Иван Сергеевич, проезжая мимо завода. Он думал о том, что вот его, Морохова, сейчас нет на заводе, а всё вертится-крутится, как заведённый механизм: подвозится и загружается в печи сырьё, вращаются скребки, мешалки, гудят и шипят испарители, сыплется в вагоны полуфабрикат, пакуется в мешки основная продукция. Всё движется и живёт без его, мороховского, вмешательства. И если сейчас он врежется в столб и сгорит вместе с машиной, то ничего не изменится. Он подумал, что завод – это своего рода его вершина, его личный мировой рекорд. Вершина покорена, рекорд взят – выше ему уже не подняться. Осталась разве что только проблема чистых "хвостов" – достойно завершить цикл.
И странно, он не огорчился, не расстроился от этой ясности. Он уже давно понял, что жизнь человека при всех её кажущихся прелестях имеет одну тёмную железную закономерность: со временем, как бы незаметно, она всё более и более ухудшается и в конце концов сходит на нет – то ли болезнями, то ли смертной тоской, то ли несчастным случаем. Поэтому в свои шестьдесят один он ничего путного от жизни уже не ждал. Тем более что за три десятилетия работы в химической промышленности так наглотался всяких вредностей, что иному и десятой доли хватило бы за глаза, чтобы протянуть ноги. Видно, недаром врачи поражаются каждый раз, когда изучают его анализы или разглядывают его на рентгене. Здоров, ох здоров был когда-то Иван Морохов, сибиряк…








