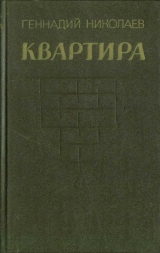
Текст книги "Квартира (рассказы и повесть)"
Автор книги: Геннадий Николаев
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
– Слушай-ка, Павел, в шахматы что-то надоело, давай разок в поддавки, – нашёлся он.
– Как это? – Павлик весь так и загорелся от любопытства. – Не умею в поддавки.
Сергей переставил фигуры для игры в шашки, и сообразительный Павлик мигом схватил суть. Однако мозги его, привыкшие к выигрышу фигур, никак не могли перестроиться на противоположные условия игры. Он продул подряд пять партий. Горе его было велико: он выглядел таким несчастным, с таким трудом сдерживал навёртывавшиеся слёзы, что Сергею было и смешно, глядя на него, и жалко.
– Ещё разок, ну последний, – канючил мальчуган после каждого проигрыша, и Сергей великодушно соглашался, пока не понял, что, так же как ему не дано победить Павлика в шахматы, Павлику не дано победить его в поддавки.
– Всё! – решительно заявил Сергей после пятой партии. – Потренируйся с папой, потом ещё сыграем, а теперь пора за работу. Видишь, сколько раствору? Твердеет, надо спешить, а то схватится камнем, тогда хоть выбрасывай.
Павлик кивнул. В глазах его за стёклами очков дрожали слёзы, но он пересилил себя, не расплакался и, сложив фигуры внутрь доски, протянул Сергею руку.
– Два – пять, можно так? – спросил он, жалобно заглядывая Сергею в глаза. – Можно?
– Что ты! – Сергею жалко было отпускать Павлика в расстроенных чувствах, надо быть снисходительным. – Шахматы – это тебе не поддавки, это игра посерьёзней, Так что у нас, можно считать, боевая ничья. Скажем, пять – пять.
– Ничья? – задумчиво сказал Павлик. – Но в подлавки тоже трудно. – Он поморщился, размышляя, и согласился: – Ладно! – И они ударили по рукам.
Сергей натянул перчатки. Павлик потрогал раствор, понюхал, лизнул, вытер пальцы о штанишки. Вскинув стиснутый кулак, точь-в-точь как это делал Андрей Леонидович, вприпрыжку побежал по коридору – шахматы гремели у него под мышкой.
Из кухни доносился звон посуды, стуки-бряки, тянуло жареным луком. Позванивали телефонные аппараты, установленные параллельно: один в кабинете, другой на кухне. Христина Афанасьевна размещала утварь и кухонную мелочь в новых столах и шкафчиках.
В коридор вышли Андрей Леонидович и сухощавый седой старик. Оба были в спортивных трикотажных костюмах и выглядели довольно комично: один – маленький толстячок с выпяченным животом и тонкими ножками, другой – высокий, костистый, как засохший ствол осины с отпавшими ветками. Продолжая спор, начатый, видимо, в кабинете, они стояли у двери, с вежливым упрямством парируя доводы друг друга.
– Я вполне согласен с первой частью новой главы, – говорил старик свистяще, с одышкой, – но прости, Андрюша, с выводами никак не могу согласиться. В них чувствуется пристрастие, местами субъективизм, а это для историка – прости меня, грешного, – не лучшее качество. Ещё Тацит, как ты помнишь, писал: "Синэ ира эт студио".
Андрей Леонидович, подбоченясь, повторил с нескрываемой насмешкой:
– Синэ ира эт студио! Ты-то можешь без гнева и пристрастия, а я – нет! И учиться этому не намерен. Всепрощение, попытки предать забвению преступления глобального масштаба, где бы они ни происходили, создают в общественном сознании ощущение зыбкости позиций добра, его слабости, допустимости повторения злодеяния в будущем.
– "Простить, не забывая" – помнишь эту надпись в мемориале на острове Ситэ? – спросил сухощавый старик и многозначительно поднял палец: – Смею тебя заверить, это придумано совсем не глупым человеком.
– Согласен, для кого-то во Франции это, возможно, и приемлемо. Но для нас…
– Нельзя же вечно поддерживать дух злобы и мести.
– Ты, как всегда, ломишься в открытые ворота, Глебушка, – с мягкой издёвкой сказал Андрей Леонидович. – Я вообще против огульных оценок. Что значит: "Простить, не забывая"? Тех, кто заслужил добрую память, – не забывать! А тех, кто был зверем, – не прощать! Ни забыть, ни простить! Но я хочу тебе сказать о другом.
И предупреждая возражение своего приятеля, Андрей Леонидович заговорил торопливо, с жаром, тыча концом трубки в грудь собеседнику:
– "Без гнева и пристрастия", "Простить, не забывая", "Цель человечества – познание", – во всех этих формулах есть некая вялость философии. Всё это имеет отношение к нашему разговору. Последняя формула принадлежит Веркору – весьма глубокому писателю, гуманисту. Сие он произнёс в мае тысяча девятьсот шестьдесят первого года в Руайомоне, под Парижем, на международной дискуссии марксистов. Рискую показаться несколько ригористичным, но думаю, что в формуле "цель – познание" автор упускает другую, не менее важную составляющую человеческого бытия: созидание! Познание плюс созидание – с этим я могу согласиться… Прощение уже есть забвение. Ты обвиняешь меня в субъективизме, в пристрастии. А как же иначе! Думаешь, Геродот беспристрастен в своей "Истории", если уж обращаться к классическим образцам? Помнишь, как он пытается завуалировать персофильскую позицию царей Македонии в греко-персидских войнах? А почему? Потому что симпатизировал Македонской династии! А почему симпатизировал? Возможно, потому, что не был чистокровным греком: отец его происходил из карийцев, аборигенов, смешавшихся с греками, основателями города Галикарнасе, а Галикарнасс, как тебе хорошо известно, входил в состав Персидской империи. – Андрей Леонидович энергично помахал потухшей трубкой перед носом отшатнувшегося старика и решительно заключил: – Нет, Глебушка, историк, ежели он хочет оставить не просто набор фактов, а осмысленное и прочувствованное описа-ние, которое волновало бы потомков, будило бы не только мысль, но и совесть, должен быть пристрастен! Особенно – когда речь идёт о глобальных преступлениях против человечества.
– Я за традиционный подход. Традиции – спасительный раздвижной мост через бездну времени, да простится мне столь примитивное сравнение, – чуть жеманно сказал старик, отвесив полупоклон.
– Традиции отмирают и становятся гирями на ногах общества, – отпарировал Андрей Леонидович, тоже отвешивая полупоклон.
Старик лишь молча развёл руками, как бы показывая приятелю, что коли так, то тут ничего не поделаешь. Развёл руками и Андрей Леонидович, подтверждая непреклонность своей позиции.
– Но в целом, – старик приложил руки к груди и повторил с искренним чувством, – в целом глава получилась весьма любопытная.
– Очень признателен тебе за твои тонкие и точные замечания на полях. Кое-что я обязательно учту. Спасибо, Глебушка, ты, как всегда, необыкновенно проницателен.
И только тут Андрей Леонидович заметил Сергея, сидевшего в ванной на стульчике и слушавшего весь этот разговор.
– Гегемон, привет! – вскинув сжатый кулак, приветствовал его Андрей Леонидович.
Сергей поднялся, думая, что Андрей Леонидович подойдёт поздороваться за руку, но тот сразу отвернулся и вместе со стариком пошёл по коридору к выходу. Сергей почувствовал себя чуть уязвлённым: задело не то, что профессор не подошёл пожать руку, а то, что вдруг, благодаря случайно подслушанному разговору, увидел такие, как показалось ему, вершины интеллекта, о каких раньше знал лишь понаслышке и на которые он, Сергей Метёлкин, вряд ли когда-нибудь в жизни сможет подняться.
Однако огорчение его было недолгим. По природе своей, по характеру, доставшемуся от матери, он был оптимистом и тотчас с присущей молодости и крепкому здоровью самоуверенностью решил, что и он не лыком шит, что и ему дано подняться сколь угодно высоко, стоит лишь этого захотеть. Не боги же горшки обжигают. Он решил во что бы то ни стало, как бы ни было трудно сейчлс, когда приходится заколачивать деньги на квартиру, ни в коем случае не бросать учёбу в институте, а – кровь из носу! – сдать зачётную сессию.
И он с весёлой злостью принялся месить-перемешивать загустевший раствор. Месил так, как, бывало, мать к праздникам замешивала квашню: упругими хваткими тычками – на себя, на себя и в сторону. Месил до тех пор, пока его не пробил первый благодатный пот.
14
В мужском вагончике было людно, народец после праздников казался тяжеловатым, кое от кого разило винным перегаром. Опухший, сипло дышащий Мартынюк неловко прыгал на одной ноге, не мог попасть в штанину и оттого тихо матерился. На Сергея бросил косой, недобрый взгляд и тут же отвёл глаза. Мрачный, серый лицом Кузичев одевался сидя, вялыми дрожащими руками. На угловой лавке спал ночной сторож – с храпом и присвистом.
Какой-то парень, видно новый мастер из смежных субподрядчиков, напористо, горлом требовал консоли у розового, посвежевшего за праздники Ботвина. Ботвин слушал-слушал, молча, отрешённо, и, когда тот умолк перед новым напором, вежливо, но твёрдо попросил его выйти вон из вагончика и явиться не ранее чем через полчаса. Парень от необычного такого сочетания вежливости и твёрдости растерялся и послушно удалился. Бригадир Пчёлкин уже мотался по объектам на Моховой и Чайковского, поэтому Ботвин, не дожидаясь его, принялся объяснять дневное задание, в первую очередь – каменщикам. Кузичев, слушая, натягивал сапоги, покрякивал, небрежно кивал – дескать, ладно, не учи учёного, знаем и так: последний ряд под крышу, фризы, карнизы, выступы, гнёзда.
– После обеда – на перекрытие третьего этажа, плиты подвезут, – закончил Ботвин свои распоряжения Кузичеву и повернулся к Сергею.
– Ну, решил с учебным отпуском?
– Не буду брать, выкручусь, – ответил Сергей, переодеваясь у шкафчика. И снова приметил он недобрый взгляд Мартынюка.
– Так, хорошо. Сегодня с Кузичевым, а завтра переведу на Моховую, – решил прораб. – Слышишь, Кузичев?
Кузичеву и плиты, и перекрытие, и перевод Сергея на другой дом – всё, кажется, безразлично. Тянет сапоги, тужится, а не краснеет – бледен, как цемент.
Поднялись на стенку – ветер, морось, противно. Сели на мокрые холодные доски, каждый в своём углу. Сергей, воспользовавшись моментом, раскрыл учебник. Вечером – зачёт, а книжка в два пальца толщиной, успеть бы пролистать, пройтись глазами по названиям глав. Уже в который раз начинал он с первой страницы, но мысль отвлекалась, и он ловил себя на том, что читает машинально, не улавливая смысла того, о чём пишут авторы. Думалось про всякие разности: про Ирину, как она вдруг из мягкой кошки-мурки превратилась в саднящую занозу; про несчастную старуху, её несчастную дочь и бледненькую, болезненную девочку в той самой квартире, где они с Мартынюком вытаскивали печь, – не забыть бы заделать им пол! И про загадочную притягательность этой шикарной, но слишком тонкой, на вкус Сергея, Натальи; про добродушного профессора, в котором так странно уживались глубокие познания и простота; и про такого важного, как бы снисходящего со своих недосягаемых для простых смертных высот Александра – как далеко укатилось яблочко от яблони! И конечно же, думал он и про деньги: до первого июня оставалось двадцать семь дней, а денег у них имелось в наличии семьсот пятьдесят рублей, не считая пятнадцати или двадцати, оставленных Надюхой на питание до получки…
Затарахтел крановый звонок, поехала стрела, покатилась тележка с крюком, и вскоре бадья с раствором зависла над Сергеем. Кончай ночевать, начинай вкалывать! Разлили раствор в три ящика, спустили бадью вниз, крикнули Коханову, чтобы подбросил кирпичей. Приплыли и кирпичи, три связки. Разнесли их на три угла, встали три богатыря, и понеслась, родная, в рай! Хочешь не хочешь, а запляшешь шустрячком, когда с Балтики поддаёт тебе в самое рыло – ни укрыться, ни спрятаться. Хорошо Коханову: обеспечил каменщиков, опустил крюк и, пока никому не нужен, ноги кверху, носом в книжку – сидит, почитывает, светло, тепло, и мухи не кусают. А тут, на ветру, уже не "раз – два – три – четыре", а "раздва-тричетыре"! Вот, кстати, не забыть бы спросить мужиков про трудовой ритм, но сразу же и забыл обо всём на свете – кладка пошла всё круче, напористее, со скоростью штормового ветра. Лишь бы поскорее закончить эти последние три-четыре рядка да вниз, отогреться в вагончике.
Выстрелила пушка, и они, словно сговорившись, все трое уложили по последнему кирпичу. Стенка пятого этажа была кончена, аккорд выполнен, можно было переходить на третий этаж, класть плиты перекрытия. Но Кузичев, всегда дотошно доводящий сам до конца все мелочи, решил ещё кое-где подправить гнёзда, затереть выступы, казавшиеся ему неровными, и потому отпустил Сергея и Мартынюка обедать.
В столовой конторские сказали Сергею, что Надюха уехала на базу, наверняка до вечера. Обычно они встречались здесь в перерыв и вместе обедали. Сегодня вообще какой-то раздёрганный день, после работы придётся ехать в институт – значит, увидятся лишь у профессора. Он надеялся, что зачёт не отнимет много времени. Раньше всегда можно было договориться с парнями и педагогами, чтобы пропустили побыстрее. К заочникам отношение снисходительное, понимают, что люди заняты выше головы. Но если говорить уж по всей строгости, то из вечерников да заочников выпускать надо бы ровно половину, потому что как раз половина, бесцеремонно пользуясь добротой и снисходительностью, проскакивает нашармачка, а половина таки действительно пыхтит и учится добросовестно, переползая с курса на курс на одном лишь собственном энтузиазме. Сергей до последнего времени не очень-то задумывался, к какой группе относится он сам: халтурщиков, которые правдами и неправдами стремятся получить диплом, или добросовестных, стремящихся не только к "корочкам", но и к знаниям. Теперь же, особенно после подслушанного разговора профессора со стариком, возникло в нём смутное ещё, горьковатое ощущение зависти к таким людям, а точнее, к той заманчивой лёгкости, с которой они говорили о вещах, никогда им не слышанных. Он стал догадываться, что, видимо, знание само по себе представляет какую-то ещё невнятную для него, но могучую силу…
Направляясь к раздаче, он чуть не столкнулся с Ири-ной Перекатовой: идёт, кнопка, прямо на него, под нога не смотрит, в глазищах печаль сырого бора. Остановилась перед ним, поднос клонится, вот-вот покатится всё, что набрано, а набрано всего ничего: блюдце манной каши да стакан компоту. Резанула его почему-то эта каша. Надюха, бывало, как наберёт – на подносе не умещается: первое, два вторых, два третьих да пирожков ещё каких-нибудь, пирожных парочку. А эта – пигалица. Он подхватил поднос за край, поставил на свободный столик. Она стоит, бедолага, глаз с него не сводит, того и гляди, слёзы брызнут.
– Ты чего? Садись ешь, – сказал он, мягко, бережно прикоснувшись к её плечу.
Она покорно села, подпёрла лоб дрожащей рукой, уставилась в кашу, словно задремала. С небрежностью, которая самому ему показалась отвратительной, он взлохматил ей причёску, вздыбил от затылка её густые волнистые волосы, спросил смущённо:
– Ну, чего нос повесила? Тяжёлый день?
Она кивнула с улыбочкой, не поднимая глаз. И вдруг губы её дрогнули, приоткрылись – то ли сказать что собралась, то ли расплакаться, но от раздачи подошли с подносами, гомоня и перекрикиваясь, отделочницы во главе с тётей Зиной. Сергей поздоровался с ними, вяло огрызнулся на подкусывание звеньевой, не преминувшей поддеть его за то, что, дескать, сбежал от застолья и обидел девочку. "Нет уж, бабоньки, лучше с вами не связываться", – решил Сергей и, ткнув Ирину в плечо со словами: "Ешь давай", поспешил отойти от греха подальше.
Настроение было неважное, всё в нём, казалось, напряглось, туго натянулось от этой встречи, но аппетит, как всегда, был волчий, и Сергей, хоть и был задумчив и угрюм, рубанул не меньше, чем обычно.
После обеда, как и велел Ботвин, Сергей поднялся на третий этаж класть плиты перекрытия. На дощатом настиле на корточках, привалившись к стене, сидели Кузичев, Коханов и Мартынюк. Плит не было, а посему перекур.
– Слушай-ка, тебя дожидаюсь, – сказал Коханов Сергею. – Я тут мужикам уже рассказывал. Вчера один кирюха отдал мне за бутылку старые книжки – так, пустяковины. Но среди страниц попались три листка. Второй день голову ломаю, не могу отгадать, откуда текст. Ты сейчас вроде у профессора истории вкалываешь?
Сергей кивнул, впрочем, без особой охоты. Он уже догадался, куда клонит Коханов, и связываться с ним ему не очень-то хотелось.
– Давай-ка сбегаем вечерком, – сказал Коханов тоном скорее указания, чем просьбы. – Проверим, что за профессор.
– Не могу вечером – занят.
Вечно насмешливые нотки в голосе, нотки превосходства и пренебрежения, чуть презрительный взгляд – всё это и раньше не нравилось ему, он испытывал странное, злое удовлетворение.
Коханов, ни слова не говоря, нарочито медлительными движениями вынул из бокового кармана листки, развернул, расправил и начал читать:
– "Понеже не то царственное богатство, еже в царской казне лежащия казны много, нежели то царственное богатство, еже сигклит царского величества в златотканых одеждах ходит, но то, самое царственное богатство, еже бы весь народ по мерностям своим богат был самыми домовыми внутренными своими богатствы, а не внешними одеждами или позументным украшением, ибо украшением одежд не мы богатимся, но те государства богатятся, из коих те украшения привозят к нам, а нас во имении теми украшениями истосчевают. Паче же вещественнаго богатства надлежит всем нам обще пещися о невещественном богатстве, то есть о истинной правде. Правде отец бог, и правда велми богатство и славу умножает и от смерти избавляет, а неправде отец диавол и неправда не токмо вновь богатит, но и древнее богатство отончевает и в нищету приводит и смерть наводит… – Местами было неразборчиво, и Коханов пропускал эти места. —.. То бо есть самое царству украшение и прославление и честное богатство, аще правда яко в великих лицах, тако и в мизирных, она насадится и твёрдо вкоренится и вси яко богатии, тако и убозин, между собою любовно имут жить, то всяких чинов люди по своему бытию в богатстве доволни будут, понеже правда никого обидить не попускает, а любовь принудит друг друга в нуждах помогати. И тако вси обогатятся, а царския сокровища со излишеством наполнятся и, аще и побор какой прибавочной случится, то, не морщася, платить будут…"
Бумаги были старые, чернила выцветшие, бледнокоричневые, чуть скрасна, ровный каллиграфический почерк с завитушками. Пока Коханов расправлял второй лист, Мартынюк сказал, сплюнув на сторону:
– В музей сдать. Авось пятёрку дадут.
– Дура! Пятёрки на уме! – закричал вдруг вспыливший Кузичев. – Ты понял, о чём толкуется? Понял?
– Да понял, чего не понять. По-русски написано.
– А понял, так не галди. Читай! – повелел Кузичев Коханову.
– "Да, я желал, чтоб и другие разделяли мою уверенность, – если хотите, детскую, утопистскую, никогда не злую, всегда добрую, – что придёт пора, когда для счастливого человечества… – Коханов помычал, силясь разобрать слова, и, пропустив, пошёл читать дальше: – Всё в обществе и природе перейдёт в стройную гармонию: труда тяжкого, удручительного не будет, всякий акт жизни человеческой будет актом наслаждения, и что эпоха всеобщего блаженства настанет!.. Вот моё признание, которого вы не спрашивали… Если пламенное желание добра, не знавшее пределов, кроме общего блага всех и каждого, если страстное влечение всё знать, всё взвесить своим умом есть преступление, то… Но знайте, – развеется ли прах мой на четыре конца света, вылетит ли из груди моей слабый вздох среди тишины подземного заточения, его услышит тот, кому услышать следует, – упадёт капля крови моей на землю… вырастет зорюшка… мальчик сделает дудочку… дудочка заиграет, придёт девушка… и повторится та же история, только в другом виде. Закон судьбы или необходимости вечен… Но тогда, вероятно, ни вас, ни меня не будет…"
На третьем, самом потёртом листке было написано:
– "Я есмь Истина. Всевышний, подвигнутый на Жалость стенанием тебе подвластного народа, ниспослал меня с небесных кругов, да отжену темноту, проницанию взора твоего препятствующую. Я сие исполнила. Все вещи представятся днесь в естественном их виде взорам твоим. Ты проникнешь во внутренность сердец. Не утаится более от тебя змия, крыющаяся в излучинах душевных. Ты познаешь верных своих подданных, которые вдали от тебя не тебя любят, но любят отечество; которые готовы всегда на твоё поражение, если оно отмстит порабощение человека…"
– Вот так, мужики, – значительно, как бы подводя итог своим собственным мыслям, произнёс Коханов.
– М-да, – произнёс Кузичев. – Сказано – не вырубить топором. – Он перевёл взгляд на Сергея. – Своди Коханова, интересно узнать, кто писал. Профессор-то наверняка должен знать.
Мартынюк махнул рукой – дескать, нашли, чем баловаться, – и, поднявшись, похлопал себя по ляжкам.
– Говорю, в музей снести, купят.
– Обормот, – беззлобно ругнулся Кузичев.
– А может, сейчас? Давай! – загорелся Коханов. – Ну!
Сергей вопросительно взглянул на Кузичева.
– Только по-быстрому, – соблаговолил тот.
Сергей и Коханов вскочили и загрохотали вниз по лесам.
15
Андрей Леонидович готовился к поездке в Москву и был, по словам Христины Афанасьевны, «занят до чрезвычайности». Однако, когда Сергей рассказал про их дело и показал листки, она немедленно направилась в кабинет. Сергей и Коханов были тотчас же приглашены для разговора.
Андрей Леонидович вышел из-за стола, с одной стороны разгруженного, но зато заваленного книгами с другой, поздоровался за руку, пригласил садиться на диван. Из-за спинки второго дивана поднялась лохматая голова Павлика, выставились его любопытные глаза. Андрей Леонидович взял листки, почти точь-в-точь как недавно это делал Коханов, тщательно осмотрел, близоруко вглядываясь в каждый, и потребовал, ни к кому не обращаясь:
– Очки!
Христина Афанасьевна неслышно порхнула к столу. В следующий миг Андрей Леонидович, уже в очках, сосредоточенно сопящий, кидающий из одного угла рта в другой потухшую трубку, погрузился в чтение.
– Спички, – едва внятно пробормотал он.
Сергей с готовностью поднёс огонь. Он не спускал глаз с профессора. Не здесь – там, в далёких древних временах Андрей Леонидович. Шевелятся волосы, волнами перекатывается седой пушистый вал вокруг мощной головы. Ходят, вздуваются желваки, двигаются насупленные густые брови, и трубка покачивается – вверх-вниз, вверх-вниз. Бормочет профессор, хмыкает, усмехается сам себе. Опять погасла трубка! Отшвыривает её в угол дивана, ругается невнятно и вдруг: "Ха!" Прищурясь, не выпуская листков, проковылял к шкафу. Быстро отыскал нужную книгу, вернулся с ней, читая на ходу. Потрёпанная, рыжеватая от времени, старая книжка. "Сколько же ей лет?" – подумал Сергей.
– Андрюша, – не выдержала Христина Афанасьевна, стоявшая возле дивана в ожидании.
Он рассеянно кивнул.
– Да, да, сейчас. – И вдруг издал хищный радостный возглас: – Сарынь на кичку!
В этот момент распахнулась дверь кабинета, и вошёл Александр – в плаще с поднятым воротником, с мокрыми от дождя волосами, казавшимися смазанными маслом и тщательно прилизанными. Небрежно кивнув сидящим на диване Сергею и Коханову, он вынул из портфеля свиток тонкой сероватой бумаги.
– Успели, – коротко сказал он, протягивая отцу свиток.
Андрей Леонидович отбросил листки, книгу и с той же жадностью, с какой только что разглядывал листки, схватился за принесённые Александром бумаги.
– Извините, – пробурчал он, качнув головой.
Это были два куска, явно отрезанные от рулона, довольно широкие и длинные, так что Андрею Леонидовичу приходилось вытягивать руку, чтобы развернуть их во всю длину.
– Любопытно, любопытно, – бормотал Андрей Леонидович, сравнивая, сопоставляя между собой таблицы. – Значит, здесь, – он приподнял первый лист, – Полтавская битва? А здесь, – он потряс другим, – Прутский поход?
Прежде чем ответить, Александр склонился над бумагами, внимательно рассмотрел их и только после этого ответил:
– Совершенно верно.
В этой его неторопливости, с которой он разглядывал листки, в твёрдости тона, с которой произнесено было "совершенно верно", в прилизанности волос и надутости щёк – во всём его облике было нечто основательное, но и отталкивающее. От Сергея не ускользнуло, как Андрей Леонидович слегка поморщился, когда Александр произнёс эти два слова.
– Итак, в день блистательной победы под Полтавой, двадцать седьмого июня… По старому стилю – это учли? – вдруг с беспокойством спросил Андрей Леонидович.
– Разумеется. И стиль, и високосные годы – всё это заложено в программу.
Александр сложил руки на груди, вскинул, чуть повернув, голову и стал похож на императора Наполеона, только без треуголки.
– Итак, в день блистательной победы под Полтавой, двадцать седьмого июня одна тысяча семьсот девятого года у его царского величества Петра Алексеевича ритмы физические и эмоциональные были в состоянии упадка, ритмы же интеллектуальные – на подъёме. А в чёрные дни Прутского похода… – Андрей Леонидович развернул второй лист, и Сергей, пока тот держал лист в развёрнутом виде, успел заметить даты: "1.1711… 12.1711", – у Петра Великого ритмы физические и эмоциональные были на подъёме, но зато интеллектуальные – в глубоком упадке. М-да…
Подумав над развёрнутыми листами, Андрей Леонидович решительно скрутил их и, похлопав по колену, сказал:
– Возможно, поэтому Пётр ринулся в этот авантюрный марш-бросок к деревушке Станилешти? Пожалуй, это единственный случай, когда военный гений вдруг изменил Петру. Хотя, разумеется, были и объективные причины: неповоротливость тогдашних войск, антироссийские настроения придунайских воевод, измены, внезапное выступление крымского хана, наконец саранча, которая сожрала все посевы и травы Молдавии и Северной Валахии. Но всё же интеллектуальные ритмы – в упадке..
– А Нарва в тысяча семисотом году? – с ядовитой усмешкой спросил Коханов, выдвинувшись из-за Сергея. – Там же наголову.
– Хе! – воскликнул Андрей Леонидович. – Нарва тысяча семисотого была без Петра: царь в это время был и Новгороде, тряс новгородских купцов, собирал деньги с монастырей.
Коханов побагровел от смущения, но, упрямо не желая сдаваться, пробормотал, что, дескать верно, Петра не было, он забыл про это, но, дескать, всё равно, коли Пётр претендовал быть царём и полководцем, то не только победы, но и поражения – его.
– При Петре не было связи ни телефонной, ми телеграфной, и он не мог непосредственно управлять боем. Поэтому вы не правы, – сухим, каким-то казённым голосом заключил Александр.
Андрей Леонидович снова чуть поморщился, но решил не вмешиваться, желая, видимо, поскорее закруглить весь этот разговор, но тут снова заговорил Коханов:
– Я читал об этих биоритмах, несколько лет назад мелькало сообщение. Но разве можно всё это принимать всерьёз?
Александр фыркнул, подавил усмешку и сказал с обычной своей серьёзностью:
– Когда японская автобусная фирма "Оми рэйлвей компани" ввела систему биоритмов и стала предупреждать об особой осторожности водителей, у которых в этот день критические или отрицательные точки по всем трём циклам, число дорожно-транспортных происшествий снизилось сразу вдвое. Сейчас англичане поставляют в комплекте с вычислительными машинами специально разработанную программу "Ритм", именно для этих целей. Мы тоже внедряем нечто подобное.
– Я не знал об этом. Короче… – Коханов запнулся, помолчал, вытирая своей лапищей красное и потное лицо, выставился снова на профессора. – Вот вы заказали биоритмы Петра в день Полтавской битвы, а почему бы не проверить ритмы Меншикова и Карла Двенадцатого?
Андрей Леонидович метнул на Коханова быстрый взгляд и живо отозвался:
– А действительно, это идея. Как, Александр, сможешь?
– Сейчас машина занята круглые сутки, обсчитывает биоритмы водителей таксопарка и нашего оперативного персонала, – многозначительно сделав упор на слове "нашего", ответил Александр.
– Ну хорошо, значит позднее? Когда вернусь из Москвы, можно будет?
– Думаю, что да.
– Спасибо, Александр, – сухо сказал Андрей Леонидович.
Александр чуть склонил голову, что должно было означать "я весь к вашим услугам". Портфель его был раскрыт, и теперь, собравшись сомкнуть его створки, он помедлил немного и вынул ещё один свиток.
– А это, – он помахал таблицами, – биоритмы Маяковского, Есенина, Фадеева – в тридцатом, двадцать пятом и пятьдесят шестом, соответственно.
– Любопытно! Кому это нужно?
– Литературоведы копают. Надеются этим кое-что объяснить…
– Ну и?
Александр ловко зажал портфель между колен и с неожиданной проворностью принялся одну за другой разворачивать таблицы.
– У Маяковского четырнадцатого апреля физические и эмоциональные ритмы положительные, интеллектуальный – минус. У Есенина двадцать восьмого декабря – та же картина. У Фадеева тринадцатого мая наблюдался упадок физических и интеллектуальных ритмов, но зато эмоциональные ритмы были на подъёме.
– Да уж, подъём, – с сарказмом сказал Андрей Леонидович. – Значит, никакого прояснения не получается?
– Как сказать… Ведь интеллектуальные-то ритмы во всех трёх случаях отрицательные.
– Хорошо, Александр, весьма признателен тебе за Петра. Извини, мы позднее продолжим разговор. Товарищи ждут.
Александр снова чуть склонил голову в поклоне, словно того требовал этикет, и, сунув таблицы в портфель, удалился из кабинета. Сергея больше всего удивили не таблицы с биоритмами Петра Первого, Маяковского, Есенина, Фадеева, не эта полумистическая возможность машин в любой момент прошлого представить состояние людей, давным-давно превратившихся в прах, а то, с какой почти официальной сухостью и неестественностью разговаривали между собой отец и сын.
– Ну так вот, молодые люди, – продолжил Андрей Леонидович снова тем же доброжелательным, располагающим тоном, каким он говорил до прихода Александра. – Первый листок – список из книги Ивана Тихоновича Посошкова. Чрезвычайно интересный был человек! Крестьянин-самоучка. Его называют первым русским публицистом. Писал о расколе, о воспитании детей, "о ратном поведении", но главная работа – так называемая "Книга о скудости и богатстве". Пробился к самому Петру, думал: царь, вернее к тому времени уже император, приветит, воспользуется дельными советами бывалого человека. И что же? Мы точно не знаем, успел прочесть Пётр книгу или нет, но надо полагать, успел, потому как вскоре же после представления книги автор был схвачен и отвезён в Петропавловскую крепость, в канцелярию тайных розыскных дел. Не учи учёного – по такому принципу. Полгода протомился старик в каземате и так и не дождался решения – умер. А за что упрятали человека? За то, что предлагал, как сделать государство Российское "зело богатым". Первый на Руси сказал, что тогда государство богато, когда богат народ, и что правда – не только нравственная категория, но и экономическая. – Он торопливо нашёл листок, поправил очки. – "…Правде отец бог, и правда велми богатством славу умножает…" Предлагал императору ввести "народосоветие", народное правительство и всеобщее обязательное обучение. И это в тысяча семьсот двадцать четвёртом году! Доказывал, что бесправное состояние крестьян невыгодно для царской казны. Великий, великий был самородок. Всю жизнь колотился о благе России и царя и вот – получил благодарность: не учи учёного!








