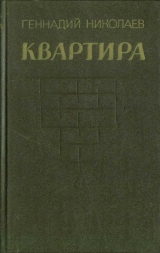
Текст книги "Квартира (рассказы и повесть)"
Автор книги: Геннадий Николаев
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
– Сын ведь, – сказала она, когда Клавдия наконец замолкла. – Сын он мне, жить с ним. По-людски надо. Он-то никогда меня не обижал, чего ж я буду его обижать?
– Ох, Олена, ты вся в мать, – накинулась на неё Клавдия. – Обе вы как крепостные: всего-то боитесь, на всё-то вам надо чьё-то позволение. Ну, мать – старуха, ещё при царском режиме жила, в бога верит, а ты-то? Ты-то с чего та-кая? Живи, как тебе хочется, плюй на всё! Важно, чтоб ты счастливая была, а всё остальное – трын-трава.
– А ты счастливая? – задетая за живое, спросила Олена. – Ты-то вот на всех плюёшь – а счастливая?
– Счастливая! – упрямо, не почувствовав издёвки, сказала Клавдия. – А чем же я не счастливая? Семья, дети, работа – чего ещё бабе надо? Мужик не пьёт, не дерётся, дети не фулиганы, не эти, как их, хипи. Сама при деле. На работе уважают: «Клавдия Дмитриевна», «Клавдия Дмитриевна», просят, грамотами, отрезами награждают. Прошлый раз в президиум выбрали, да только меня, как назло, не было. В тот день с Егором за свой счёт брали, у одних там заканчивали. Чего же мне на судьбу обижаться? Конечно, счастливая.
– Счастливая, да унылая, – вырвалось у Олены, и она, расхрабрившись, высказала, что думала: – Огрубела ты, Клавдия, дёрганая какая-то стала, растрёпанная. Раньше не такая была.
– Чего? – Клавдия так и замерла от изумления, поражённая неслыханной дерзостью тихони сестры. – Унылая? Огрубелая?
– Да ты обиделась никак? – спохватилась Олена. – Клавдюш!
– Нет, ты уж объясни, раз начала, – перебила её сестра. – Объясни, пожалуйста, как это так?
– А чего объяснять? И так понятно. Ты же круглый год как заводная: с утра до ночи с кистью в руках махать да махашь. Пять дней отмахашь на строительстве, субботу, воскресенье махашь у частников, С утра до ночи махашь, на последнем метре добираешься. Света белого не видишь. Ни леса, ни неба. Я хоть в навозе, как ты говоришь, зато выйду утречком на крыльцо, а он – вот он, белый свет, прямо передо мною: воздух и небо, речка под косогором, коровки мычат, петухи поют, лес зеленеет. Нет, мне твоего счастья за сто тыщ не нужно. Я в своём навозе счастливее тебя.
Клавдия, внимательно слушавшая сестру, стояла у плиты, прижавшись тугим круглым бедром к столу. Старенький голубой сарафанчик был ей мал, едва прикрывал колени. Шлёпанцы на босых ногах были стоптаны и продраны в носках, из них торчали грязные корявые ногти. Лицо Клавдии, одутловатое и бесцветное, кривилось в злой нетерпеливой усмешке, видно, она с трудом сдерживалась, чтобы не дать волю своему острому и беспощадному языку. А как она могла выражаться в минуту гнева, лучше не проверять.
– Вот вишь, что с сестрой твоей вышло, – вымученно смеясь, всем видом давая знать, что идёт на попятную, торопливо сказала Олена. – Ты, Клавдюшка, не слушай меня, я нонче вроде очумелая, голова кругом идёт.
Клавдия покачала головой, дескать, ну и ну, дела на белом свете, а вслух сказала:
– И правда, как чокнутая. Не выспалась, что ли?
– Ага, всю ночь на лавочке, в Лихославле.
– Ну так иди, выспись.
Мать горестными, застывшими глазами глядела в одну точку. Рот её шевелился, но, что она бормотала, не было слышно. Чтобы смягчить неловкость, Олена взялась за чемодан.
– Я тут гостинчиков вам привезла…
– Нужны мне твои гостинчики! – закричала Клавдия. – С такими мыслями об нас и – гостинчики! Обратно заберёшь!
– Ты что гапишь-то, Клавдюх? – встумлась мать. – Побойся бога! Олена сестра родная.
– А ты помалкивай! – окрысилась на мать Клавдия. – А то всё тебе припомню!
– Чтой бы это ты припомнила, доченька? – спросила старуха. Голос её дрожал и вот-вот, казалось, готов был сорваться на тоненький звон.
– А всё! Как нервы из меня мотала, как столовую тут открыла – кормила, понимаешь, встречных-поперечных, бабок всяких, дедок. На дочь родную жаловалась, Сердобольная!
– Клавдия! – крикнула Олена. – Опомнись!
Клавдия сверкнула на неё глазами, полными слёз, и выскочила из кухни. «Вот оно, твоё счастье», – подумала Олена, но тут же осекла себя: сама виновата во внезапной и глупой ссоре. Ведь знала, что нельзя с Клавдией поперёк идти, против шёрстки гладить, вот и получай, дура. Ну да ладно, буйна Клавдия, но отходчива. Придёт, сама придёт в кухню и приластится.
Так оно и получилось: не прошло и часа, как вернулась Клавдия в кухню и помирилась с матерью и с Оленой. Гостинцы приняла с охотой – одну банку со смородиной оставила для племяша, для Лерика. Значит, дала своё согласие на поездку Олены к сыну. Спокойно, неторопливо обсудили и другое дело: как мать перевезти в деревню. Ничего не придумали, кроме того чтобы Олена на обратном пути из Ленинграда заскочила на денёк и забрала мать. С тем и перешли в комнату смотреть телевизор.
Егор в тот вечер так и не явился домой, видно загулял где-то с дружками – раз-два в месяц с ним случалось такое.
Одиннадцатичасовым, сидячим Олена Кононыхина выехала в Ленинград. Место ей выпало у окна, и она всё смотрела, смотрела на бегущие мимо рощи, поля, перелески. День был ясный, солнечный. Красива была осенняя земля, убранная, вспаханная и заборонённая. Жёлтыми, рыжими дорожками пролегли по бурым полям, словно гнутые, борозды, собравшие в своих желобках палые листья. Ровные, как точёные, блестели под солнцем белые скирды соломы, а в перелесках, тут и там, красным-красно было от выспевающей рябины. От красоты, от мерного постука колёс, от самого движения куда-то в неведомый Ленинград стало Олене так грустно и сладостно на душе, что защемило сердце. Захотелось поговорить с кем-нибудь, поделиться, найти поддержку в добром людском понимании и сочувствии. И она просто, без всяких подходов стала рассказывать про себя сидевшей рядом девушке, красивой и модной, с ярко накрашенными ногтями и подведёнными глазами. Девушка сначала удивилась, слушала с недоумением, с тонкой усмешкой, не понимая, чего от неё хотят, но, постепенно поддавшись на Оленину простодушную искренность, придвинулась к ней с интересом и любопытством. А Олену как прорвало, её доверчивая, открытая душа распахнулась навстречу новому человеку, и она всё говорила, говорила, словно пела долгую, копившуюся годами песню…
В Ленинград приехали уже затемно. Моросил дождь. На перроне было многолюдно, суетно. Девушка простилась и торопливо ушла вперёд. Олена поплелась со своим чемоданом в зал ожидания коротать ещё одну ночь. Лерик, когда приезжал на похороны отца зимой, подробно рассказывал, как добраться до его части, так что она могла бы приехать к нему нынче же. Но ей не хотелось так поздно тревожить сына, чтоб он бегал там по начальству, хлопотал об её ночлеге. Пусть ещё одна ночь, не страшно, зато уж завтра рано утром, с первым автобусом, она прибудет в записанный на бумажке посёлок, название которого всё никак не удерживалось в голове.
Она высмотрела себе лавочку в небойком, тихом углу, дождалась, когда освободился край, и, пристроив в ноги чемодан, прикорнула, уткнувшись головой в стенку. Не сон – полусонок, но всё же не на ногах топтаться. Накрутилась с боку на бок, надумалась досыта, а самого главного – как, какими словами сказать сыну о своём деле, так и не придумала.
Едва только забрезжило, выбралась Олена из своего угла, умылась в туалете, водички попила из-под крана, поехала трамваем на автобусную станцию. Там, как по закалу, дожидался её автобус, только влезла, сразу и тронулся. Долго ехали, даже выспаться успела. Слышит – её остановка. Вышла – всё кругом затянуто туманом, не разобрать: то ли дома, то ли горы какие-то, то ли лес. Тихо, пусто. Постояла, поглядела туда-сюда, смотрит – солдаты в одних майках, трусят гуськом через дорогу. Пошла за ними, и точно: ворота, вахта, часовые.
– Куда, мать?
– К сыну приехала. Кононыхин он.
– Валерий Кононыхин! Знаем такого. Подождите, присядьте.
Только присела, из-за стекла офицерик выскочил – сапоги блестят, весь наглаженный, начищенный, как игрушечка.
– Мать солдата Кононыхина? Вызов есть?
– Нету никакого вызова, сама по себе.
– Ясно, подождите.
Взял трубку с телефона, докрутился, видно, до начальства – так и так, дескать, как быть? Что-то там ему говорят, требуют. Повернулся к ней, а трубку не кладёт, придерживает.
– По какому делу, Кононыхина? – и на трубку показывает, дескать, не для него это, а туда, начальству. Олена растерялась – что сказать, не знает. – Ну, не просто так приехала, по делу? – допытывается офицерик.
– По делу-то, по делу, но как его расскажешь, дело-то…
– По какому? Говори, мать, а то не пустит, – прошептал офицерик и в трубку: – Сейчас доложу, товарищ капитан. – Олена как бы махнула про себя рукой – будь что будет, врать не умеет, а правда на миру, как и смерть, красна.
– Долга песня-то моя, но коли коротко, так скажу: человек один сватается ко мне, добрый, путёвый. Вот и не знаю, как быть, надо б с Лериком, сыном, посоветоваться. Как он скажет, так пусть и будет. Вот дело-то какое…
Офицерик смотрел-смотрел на неё, словно ушам не верил, потом снял ладонь с трубки и, не моргнув, рапортует:
– Товарищ капитан, Кононыхина приехала за советом насчёт продажи козы, покупки коровы. Важное дело. Разрешите оформлять? – Послушал, послушал трубку и – Так точно! Понял вас, товарищ капитан! Будет исполнено! – Трубку положил и солдатам: – Оформляйте пропуск, талоны на питание, место в гостинице. Солдата Кононыхина на проходную, срочно!
И ушёл к себе, за стекло. Один солдатик принялся писать, другой – названивать.
Олена присела опять, смотрит туда, сквозь дверь, на территорию. Чисто там, аккуратно, дорожки гравием посыпаны, деревца, кирпичики подбелены. Солдаты взад-вперёд бегают, упитанные, резвые. Глядела, глядела и проглядела, как, откуда вывернул, – идёт по дорожке солдатик, маленький, кругленький, фуражка больше головы, малость косолапит. Лицо красное, брови белесень-кие, глазки востренькие от любопытства. Он! Лерик! Кинулась в дверь.
– Сынок!
И он побежал:
– Мамка!
Обнялись, у него фуражка упала, покатилась… Солдаты подняли, смеются, пропуск, ещё какие-то бумажка протягивают:
– Держи, мать! – и Валерию: – С тебя причитается – на сутки увольнение.
Повёл её Валерий в городок: налево – казармы, направо – клуб, как городской, каменный, с большими окнами, с колоннами. Плакаты кругом, лозунги. От радости встречи, от строгости городка, от предстоящего важного разговора – от всего вместе взятого стушевалась Олена, все слова растеряла, идёт посмеивается, как дурочка, сына за рукав подёргивает. И он молчит, только глазами – луп-луп. Дошли до столовой.
– Покормлю тебя сейчас, – Валерий говорит.
И верно: зашли, столы пустые, на раздаче баки белые, миски стопами, хлеб нарезанный горками на подносах – всё готово для завтрака. Усадил Олену за отдельный, гостевой столик у окна, сам – бегом на раздачу.
Тут только вспомнила Олена про чемодан – на вахте остался, в уголке, где сидела. А Валерии уже тащит поднос – две миски с кашей гречневой, по стакану крепкого чаю, миску хлеба.
– Чемодан-то забыла, вареньице там, – сказала Олена.
– Сохранится, – махнул рукой Валерий. И так махнул – по-родному, запросто, и так сказал – окая, родным своим голосом, что взяло Олену за горло и закапали в миску горячие слёзы. У него тоже надбровья покраснели, склонился над столом, ест, носом пошмыгивает. И она, глядя на него, тоже за кашу принялась. Так, молча, и позавтракали. Чай допили, вытерла Олена глаза, улыбнулась:
– Хорошо, сынок, вас кормят, сытно.
– Хватает. Пузо-то не наешь, нормально. – Отнёс он посуду в другое окно, повёл мать по городку – клуб показал, казарму, где живёт, коечку свою, опрятно застеленную. Пусто в казарме, один дневальный у двери. Олена осмотрела на сыне одежду – всё справно, чисто, подшито, отглажено. Сам-то, конечно, неказист на вид, зато характером – золото. Трудяга, честный и сердце мягкое, доброе, отзывчивое. Снова вышли на воздух.
– А давай, мам, я тебе Питер покажу. Питер же под боком!
– Покажи, сынок, с тобой хоть и в Питер.
Посмеялись и вроде оттаяли – и мать, и сын. Сбегал Лерик на проходную, отнёс чемодан в камеру хранения, получил увольнительную, прибежал: всё, вольный казак! Вышли на дорогу, дождались автобуса, поехали в город.
По дороге, пока ехали, Олена порывалась начать разговор, но, видя, какой светлый, довольный сын, прикусывала язык, не хотела ломать ему настроение. А он всё рассказывал: историю города, да какие бедствия выпали на его долю, как его топило неоднократно, как враг стоял под стенами. Олена только поражалась, откуда сын столько всего наузнавал.
Сошли на автобусной станции. Валерий обдёрнул кителёк, выверил фуражку по носу, расправил грудь – чем не бравый солдат!
– Ну, мамка, куда хочешь?
– Да куда? Не знаю, куда… Рынки тут, поди, есть? Рынок бы посмотреть.
– Рынок! Тоже мне туристка. Я тебе Питер покажу!
– Ой, ну как знаешь, сыночек. Только на рынок заглянуть тоже охота.
– Ладно, заглянем, – сказал, махнул рукой и засмеялся. – Это тебе, мам, не Лихославль, тут кроме рынков есть что посмотреть.
И они пошли по Садовой к Невскому не спеша, рядышком, таращась на дома и вывески магазинов. Валерий то и дело показывал на какой-нибудь дом и шептал: «Во! Смотри!» И верно, кругом, куда ни глянешь, затейливые лепные фигурки, ангелочки, зверюшки, то страшные, то смешные морды.
Весь день они ходили и ездили по огромному, бесконечному Ленинграду, были в Эрмитаже, лазали на кольцевую площадку Исаакиевского собора, глядели на четыре стороны света. Заходили и внутрь – видели и маятник, висящий из-под самого купола, и витражную фигуру воскресшего Спасителя, как бы идущего к людям через царские врата. Были и на рынке.
Под конец Олена совсем выбилась из сил и сделалась как больная, как в каком-то бреду или в лихорадке. В голове у неё путалось, её поташнивало, и порой накатывала такая вялость, что она готова была свалиться прямо на асфальт. Одно прочно держалось в голове: тут, в городе, она не будет начинать разговор, дотерпит до вечера и где-нибудь там, в казарме, откроется сыну. А здесь не надо, пусть будет у него светлая отдушина, добрая память в жизни. И от этой мысли она встряхивалась, перебарывала себя, веселее шла вслед за сыном.
К вечеру, уже в сумерках, они вернулись в военный городок. Поужинали в столовой за тем же столиком, что и завтракали утром. Потом сын отвёл её в гостиницу, в гражданскую часть, где жили семьи офицеров и обслуживающий персонал, вольнонаёмные. В обыкновенной квартире из двух комнат ей предоставлена была койка, такая же железная и узкая, как и у сына в казарме, так же заправленная конвертиком – суконное одеяло, чистые простыни, тугая подушка.
Пока Валерий бегал за чемоданом в камеру хранения, она лежала, как в забытьи, чувствуя лишь гнетущую тяжесть под сердцем да боль в глазах. Яркие, красочные обрывки картин: ангелы-младенцы, пышные гривы коней, поверженные тела, Христос, простирающий руки, львы, – всё это плыло перед ней в багровом тумане, окрашивалось то пурпуром, то малахитовой зеленью. Вся жизнь людская, все прошлые века словно разом навалились на неё, и, придавленная непомерной тяжестью, Олена лежала на армейской койке, и слёзы сами текли из её открытых глаз. Такой малой песчинкой она ещё никогда себя не ощущала, малой и слабой, – зачем только и на свет появлялась? Зачем мучилась, зачем страдала?
– Мама, ты чего это? – услышала она голос сына, и он склонился над ней, присел рядом.
– Ой, не знаю, жалко мне тебя, себя.
– С чего жалко-то?
– А так. Зачем живём, зачем маемся?
– Ну вот ещё – «зачем»! Работать, детей растить.
– Детей на муки, на войны, на смерть лютую…
– Ой, мама, картин насмотрелась? – Он засмеялся. – Я в первый раз, когда нас возили, тоже как чумной ходил. Пройдёт. Не плачь, мам, пройдёт.
Он провёл по её светлым гладким волосам, стянутым на затылке круглым гребнем, по утомлённому, опавшему лицу. Она задержала его руку, прижалась щекой.
– Ой, сынок, сынок, что хочу сказать тебе… Ты Николая Ивановича Полшкова знаешь?
Рука сына дрогнула, но, сжатая Оленой, обмякла, осталась в материнской руке.
– Помнишь? Фельдшером у нас в Мочищах.
– Ну, помню.
– Он как тебе? Хороший человек? Добрый?
Не выпуская его руку, она рывком приподнялась на локте – лицо её стало близко, совсем близко к его лицу.
– Сыночек, мальчик мой родненький, – словно задушевную песню запела она, – ты ж свет мой единственный. Потому и приехала, что нету у меня больше никого, с кем поговорить, посоветоваться. Мама моя, твоя бабушка, стара, уж одной ногой там. Клавдия, тётка, сам знаешь какая. Ты у меня один советчик и помощник. Уж как ты скажешь, пусть так и будет…
– Ну, ну, говори, мам, – хрипловатым шёпотом сказал Валерий. – Николай Иваныч-то… чего?
Жадным, неотступным взглядом она всё ловила, ловила его глаза, прячущиеся, ускользающие, и наконец поймала – на миг, на короткое мгновение, но поймала. Из серенькой их зыбкой глубины глянула на неё душа сына – робкая, добрая, хрупкая, как маленькая пугливая зверюшка, невзначай щёлкнешь – откинет лапки. Не разумением, сердцем почуяла Олена, что сдержит возле себя сына. Сдержит и поведёт за собой – бережно, неспешно, ласково. Как когда-то, придерживая за обе ручки, учила ходить. Есть у неё такая ниточка, тонкая как паутинка, не увидишь её, не ущупаешь, лишь душой угадаешь, как она тянется.
– Ох, да дело-то какое, – заговорила она нараспев, – дело-то такое, прямо и не знаю, с какого боку подступаться. Сватается он ко мне, просит-уговаривает, чтоб за него вышла. Его-то жена уехала в Рязань к сыну. Да и правильно, плохо они жили, злыдня она. А он мужик добрый, непьющий. Отцу-то как помогал – уж все отступились, а он: «Нет, Олена, пока жив человек, надо лечить». И уж каких только лекарств не доставал, чего только не перепробовал. Бывало, едет в район, обязательно для отца чего-нибудь оттуда везёт, никогда не забывал. Потом и мне тоже нет-нет да и подсобит: то дровишек подбросит на больничной лошадке, то, вот недавно, крышу в двух местах перекрыл. Кабана в прошлом году резал да опаливал. Мне-то одной тяжело – дом, скотина, а я уж не молоденька. Ты вернёшься – свою семью заведёшь. Вон Катерина Селедцова каждый раз, как увидит, всё спрашивает: «Как Лерик служит? Когда приедет?» Да и другие интересуются. А чего? Это, сыночек мой, жизнь. Семья – святое дело. Мы уж с Николаем Ивановичем смеёмся: может, погодить малость, тебя дождаться да сразу две свадьбы сыграть – твою да нашу, стариковскую… Мы с ним – в его доме, ты с молодухой – в нашем. В гости друг к дружке будем ходить на пироги. Детишек твоих буду нянчить…
– Ну уж, скажешь, – пробормотал смутившийся Валерий.
– А что, сын, больше детей – больше счастья. Разве б плохо было, если б сейчас у тебя братики и сестрёнки были? Вишь, не удалось в своё время завести, а я жалею…
Она смолкла, словно давая передышку себе и ему, чтобы улеглось то, что высказано, и закрепилось хотя бы этим малым временем. Валерий сидел насупясь, чуть отвернув голову, и было непонятно: то ли его так сильно раздражает яркий свет лампочки, то ли не хочет даже смотреть в сторону матери. Олена ослабила руки, давая ему волю, и он неспешно убрал свою руку, спрятал между колен. Молчание затягивалось. Олена словно одеревенела от тишины, от ожидания, глаза её начали тускнеть, наливаться горестным светом.
– Ты ведь у меня добрый, ласковый… – прошептала она.
Валерий вздрогнул. Всё так же глядя в пол, медленно произнёс:
– Ты-то сама как? Тебе-то он нравится?
– Хороший он, – сказала она и с облегчением откинулась на подушку. – Серьёзный.
– Обижать не будет? Лекарь ведь, лекари грубые бывают…
– Ой, да что ты! – взмахнула она рукой. – Мягкий он. Детей любит. Кошки, собаки за ним следом ходят. Вон, бык Юбиляр у нас на ферме взбеленился, кидается на всех, землю роет – никто не мог сладить, а Николай-то Иванович пришёл, постоял-постоял у изгороди, позвал по кличке, – глядим, бык головой замотал, идёт, в ладонь ему тыкнулся и ухо подставил, чеши, дескать. Мы, кто были, так и ахнули. Вот тебе и Николай Иванович. Пара он мне, сынок, сердце подсказывает, пара.
Валерий пожал плечами.
– Выходи.
– Так, вишь, он хотел бы, чтоб фамилию я сменила, чтоб его взяла. Я говорю: а сыну каково, сын-то что скажет? Ушёл в армию, мать была Кононыхиной, а вернулся – Полшкова…
– Ну это он правильно: раз жена, бери фамилию мужа. Тут он прав. Ничего не могу сказать.
– Вот, – сказала она, как бы загибая палец на ещё одном решённом вопросе. – Значит, одобряешь, сынок?
– Ну а че ж ты будешь куковать? Разве я не понимаю?
– Ой, сыночка ты мой родненький, какой ты у меня! – Она вдруг всхлипнула и ткнулась лицом в подушку. Голос её зазвучал глухо: – Тебе должна служить до конца дней, тебе одному, а я чего? Куда меня понесло, дуру старую? Чего теперь делать?
Валерий засопел, тронул мать за плечо.
– Мам, мам, ну кончай… Чего ты, в самом деле?
– Ой, да разве ж я не чувствую" – запричитала она, – разве ж не понимаю, что ты можешь думать об матери. Не лукавлю, сынок, ой, ни вот столько, ни пол-столько. Тебя не хочу потерять, и Николай Иванович мне уже дорог… робеночек от него будет.
Она сказала это вроде бы подушке, но тотчас подняла голову, вскинула заплаканные глаза и словно застыла, перестала даже дышать. Валерий собирался что-то сказать, но стушевался и только кашлянул.
– Робеночек будет, – повторила она, глядя куда-то в пространство остановившимся взглядом.
Валерий взялся вдруг поправлять сапоги, подтягивать, сгибать гармошкой, потом проверил все пуговицы на кителе, перестегнул ремень. Олена всё глядела перед собой в одну только ей видимую даль, и на лицо её наплывала, как полоса лунного света, тонкая переменчивая улыбка.
– Он, он это ведёт меня, – сказала она загадочно. – Пусть живёт, пусть.
– Ой, мамка, да конечно! – воскликнул Валерий, резко поднялся и отошёл к окну.
Они молчали, думая о своём, а может, об одном и том же, о новой жизни, так внезапно и властно пришедшей к ним. Молчали долго, без времени, но не было в том молчании прежней тяжести, была лёгкость, словно и не прерывали разговора, лишь продолжали не вслух – негромко, про себя, одними мыслями…
Рано утром, до завтрака, Валерий забежал к ней проститься и проводить до автобуса. Олена была уже готова: умылась, причесалась, связала пустой чемодан. Они тут же и вышли, не рассусоливая. На остановке Олена вывернула из платочка пятёрку и протянула сыну.
– Вот, к тем, что вчера дала. Подумала-подумала, хватит мне до Москвы, а там пусть-ка Клавдия раскошелится, пусть-ка даст нам с матерью на дорогу. Такие деньжищи сквозь пальцы перепускают. Ничего, ничего. А тебе пятёрочка ой как пригодится.
Валерий не стал ломаться и отказываться, сунул деньги в карман. Из тумана, сигналя и ослепляя яркими фарами, выкатился автобус. Олена засуетилась, кинулась было к дверце, повернулась к сыну, обняла, прижала, жадно расцеловала в глаза, в щёки, в губы. Влезла с чемоданом через переднюю дверцу, и автобус тронулся. Охая, причитая, она бочком-бочком, прискоками добежала до заднего стекла, упала коленками на сиденье, но там, за стеклом, был лишь густой клубящийся туман…








