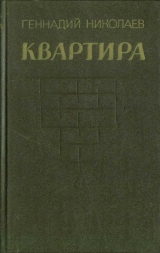
Текст книги "Квартира (рассказы и повесть)"
Автор книги: Геннадий Николаев
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
По всем показателям победителями соревнования были признаны каменщики звена товарища Кузичева из бригады товарища Пчёлкина. Они награждаются почётными грамотами и денежной премией: Кузичеву, звеньевому, – сто рублей, Мартынюку и Метёлкину, каменщикам, – по семьдесят пять.
Тут же, не откладывая в долгий ящик, Киндяков вручил первые награды. Кузичев вышел, как всегда, степенный, неторопливый, принял сначала грамоту, потом – конверт с премией, пожал руку Киндякову, Нохрину, Долбунову, сдержанно поклонился рабочим, вернулся на место всё такой же спокойный, невозмутимый. Ему и хлопали-то тоже как-то по-особенному, серьёзно, без озорства. Мартынюк выкатился, как шарик, оглядываясь и потирая руки. Рабочие загоготали.
– А Пашке-то за что? – крикнул кто-то у окна.
– За компанию! – раздался насмешливый голос в другом конце.
И понеслись шуточки: "Теперь всё пиво наше", "Пашка, с тебя причитается", "Нас не забудь". Мартынюк принял грамоту и премию, многозначительно кашлянул и вдруг вскинул кулак с зажатым в нём конвертом – дескать, общий привет, но тут же спохватился и стал с излишней горячностью жать руки начальству. Все дружно захохотали, зааплодировали.
Сергей впервые получал премию на людях. Когда он, смущённый общим вниманием и аплодисментами, вернулся на место, Надя прижалась плечом, погладила его по щеке. Он сунул ей конверт и грамоту, смахнул с бровей пот.
Киндяков, дождавшись тишины, снова уткнулся в свою бумагу и пошёл читать дальше: второе место – звену маляров Зинаиды Алексеевой, семьдесят пять – звеньевой, по двадцать пять вкруговую – девчатам; третье место – отделочникам; грамоты, благодарности, отметить хорошую работу… Конверты розданы, грамоты вручены – собрание кончилось. Долбунов объявил, что по случаю предпраздничного дня все работы сворачиваются, можно расходиться по домам.
Народ повалил во двор. Сбиваясь кучками, сбрасывались по рублю, снаряжали посланцев в магазин за колбасой, сыром, круглым ржаным хлебом. Подыскивали тару под квас и пиво. Настроение было предпраздничное – крик стоял, как на базаре.
Сергей с Надюхой отошли в сторонку, чтобы не мешали поговорить, сговориться, где и во всколько встретиться перед работой у профессора. У Сергея было кисло на душе, он всё никак не мог развеяться после встречи с Екатериной Викентьевной, и Надюха, сразу заметившая неладное, встревожилась. Он рассказал ей, не утаивая ни своего внезапного малодушия, когда бросился наутёк, ни своего горького ощущения возле приёмного окошка, когда Екатерина Викентьевна не пожелала с ним разговаривать. Надюха, огорчённая, задумалась.
– Что же делать, Серёга? – Она пытливо посмотрела на него, прямо в глаза. – Думаешь, надо вернуть деньги?
– Да, надо бы, – неуверенно, как бы примериваясь к правомочности такого поворота, сказал он. И тотчас почувствовал, что то, что, может быть, случайно, исподволь вырвалось у Надюхи, входит в него, крепнет как твёрдое решение и даёт облегчение. Он уже знал, как надо поступить, и, взяв у Надюхи конверт, вынул из него сорок рублей. – Сорок сдеру с Мартынюка. Восемьдесят верну, семьдесят – и то с лишком.
– Ну смотри, Серёжа, раз так считаешь, пусть, верни, – согласилась Надюха. Остатки премии она со вздохом положила в сумочку.
Они договорились, что, как только Сергей кончит раствор, позвонит ей из автомата в управление – она будет сидеть, ждать, как раз оформит накладные: накопились за несколько дней.
10
Пока шла летучка, прикатила шальная машина с раствором – то ли водитель где-то замешкался с утра, то ли турнули его с другого участка. Коханов, заметивший каменщиков во дворе, сердито забренчал своим звонком. Кузичев и Мартынюк, ругнув неведомого шоферика, кинулись стропалить бадью. Когда Сергей, уговорившись с Надюхой, подошёл к ним, бадья уже поехала вверх. Кузичев снял верхонки, хлопнул ими, сказал:
– Никуда не денешься, придётся класть.
– Перекусить бы, а? – растопырив пальцы, Мартынюк обвёл ими Кузичева, Сергея и себя. – Как, мужики? Ради праздничка. Чтоб ветром не качало.
Кузичев открыл было конверт с премией, но передумал, вытащил из кармана брюк трёшку и сунул Мартынюку. Сергей дал тоже три рубля. Мартынюк присвистнул:
– На все?!
Кузичев показал на крановщика:
– Витьку угостим, а то нам премия, а ему – шиш.
Мартынюк понимающе кивнул, натянул на голову свою захватанную шапочку с пластмассовым зелёным козырьком и покатился вперевалочку, пиная камни кирзовыми сапогами.
– Воды минеральной возьми, – сказал вдогонку Кузичев.
И они полезли по лесам – впереди Кузичев, за ним – Сергей. Кузичев неторопливо шагал со ступеньки на ступеньку, прямой, высокий, придерживаясь одной рукой за перила, а другую закинув за спину, будто не на кладку шёл, а на отдых в номер-люкс в приморском санатории. Они поднялись на последний настил – дальше было небо, ясное, голубое, просторное. Кузичев постоял, глубоко дыша всей грудью, полюбовался на все стороны света, пошёл к бадье отцеплять чалки. Сергей тоже постоял на ветру, посмотрел на город – какой он нынче нарядный, праздничный, – облачился в фартук и начал потихоньку-полегоньку, кирпичик за кирпичиком, кося глазом на Кузичева, класть стенку. Руки, спина тотчас отозвались тупой болью.
Не успел Сергей разойтись, как появился с пакетами Мартынюк. Оба его кармана оттопыривались. Он был весел, возбуждён, суетливо принялся городить стол: восемь кирпичей, две доски. По четыре кирпича под зад – стулья. Газеты на доски – скатерть, обломками по краям придавили от ветра – порядок. Позвали Коханова – он понял с первого намёка, в чём дело, и вылез из кабины, не забыв прихватить и книжку. Пока Мартынюк хозяйственно раскладывал закуску на газете, пока резал хлеб и чистил лук, Сергей спустился за водой, принёс трёхлитровую банку.
Когда все собрались за "столом", Мартынюк, подёргиваясь от нетерпения, разлил по кружкам сразу обе бутылки, чтобы больше не пачкаться. У Кузичева вообще была такая манера: "Зараз хоть таз, за вторую – в глаз", – не повторял. Коханов пил редко, не хотел, как он говорил, заниматься уничтожением собственных нейронов, но время от времени на него накатывало, и он уничтожал свои нейроны так, что бывалый и видавший всякие виды Мартынюк поражался. Мартынюк же больше любил пиво, не пропускал случая отметиться у пивного ларька. Сергей был равнодушен и к вину, и к пиву, а когда выпивал, никаких дурных изменений за собой не наблюдал, лишь веселел и становился разговорчивым. Он и пьяным-то ещё ни разу в жизни не напивался – был так здоров, что не брали его никакие дозы.
Выпили не чокаясь, единым духом. Ели быстро, молча, азартно. Первого хмельная волна пробрала Мартынюка. Он засмеялся с набитым ртом и пробормотал весело:
– Ничего, да? Видок ничего?
Глаза у него щурились, слезились – с Невы упруго тянуло в их сторону, и за день глаза здорово уставали.
Вид со стенки и правда как картинка нарисованная: предпраздничный Ленинград под ясным голубым небом! Корабли на Неве – серо-зелёные, в разноцветных флажках, как новогодние ёлки. Купола, шпили, мосты, парки, дворцы, каналы. Флаги, вымпелы, лозунги – алые капли в гранитно-мраморно и монолите старого Питера. А в парках – нежно-зелёный дым первой тонкой листвы. Красив, красив город – и с земли, и с неба. Чёткий, стройный, каменный. Направо, на Петроградской стороне, двумя свечками торчат минареты, между ними поблёскивает голубоватый изразцовый купол мечети. Левее горит на солнце штыковой шпиль колокольни Петропавловского собора с золочёным ангелом и крестом – отблеск мерцает, пляшет, будто крест дрожит в руках ангела. Марсово поле скрыто Летним садом. Шпиль Адмиралтейства посверкивает сквозь ветви дубов и лип, но Исаакий виден хорошо: ангелы на балюстраде, крутой золочёный купол, теремок с крестом на вершине его. А ещё левее – лобастый купол Казанского собора и чуть ближе – ярко высвеченный солнцем Спас-на-крови: витые шишковатые луковицы, ажурные кресты, тонкие подкупольные башенки, некое подобие Василия Блаженного.
Коханов со снисходительной усмешкой взглянул на Мартынюка, торопливо дожёвывая, чтобы высказаться по поводу его восторженной реплики. Был он сухощав, по-спортивному подборист, с крутым просторным лбом – с таких, видно, и пошло прозвище "лоб", потому что был он ещё высок ростом, широк в плечах, и шея у него была короткая и толстая, как у быка. Очки на широком носу тоже были какие-то крупные, словно сделанные по специальному заказу для его широко расставленных глаз.
– При строительстве Исаакия погибло несколько тысяч, – начал он, показывая в сторону собора. – На одном только золочении купола шестьдесят мужиков отравилось. А золотили огневым способом: на медные листы наносили кистями раствор золота в ртути, потом нагревали в жаровнях, ртуть улетучивалась, золото прикипало к меди. Мужики дышали парами, чахли в муках, кончались в страшных припадках и удушье. – Обводя далее растопыренной пятернёй, он продолжил: – Петропавловка – тюрьма и кладбище. На Сенатской площади палили в декабристов, на Дворцовой – расстрел.
Он вынул из-под себя книгу, на которой сидел, полистал, нашёл нужное место, прочёл:
– "У Новодевичьего монастыря поставлено тридцать виселиц четырёхугольником, на коих двести тридцать стрельцов повешены… Его царское величество присутствовал при казни попов, участников мятежа. Двум из них палач перебил руки и ноги железным ломом, а затем они живыми были посажены на колёса, третий обезглавлен… Царь велел всунуть брёвна между бойницами московских стен. На каждом бревне повешено по два мятежника. Всю зиму были пытки и казни. В ответ вспыхивали мятежи в Архангельске, в Астрахани, на Дону и в Азове…" С этого начинал Пётр Великий, а этим, – Коханов снова обвёл город широким жестом, – кончил. Вот тебе и видок! Сам пытал, сам казнил. Прогресс посредством кнута и топора… – Он захлопнул книгу и снова сунул её под себя. – В гробу я видел такой прогресс. Может, там такие головы пали, что подороже всех его нововведений!
Никто с ним спорить не стал. Сергей был согласен с Кохановым: действительно, какой, к чёрту, прогресс, когда реки крови, но что-то протестовало против такой категорической оценки – "в гробу я видел".
Не так, наверное, тут всё просто в этой самой истории, как кажется всезнающему крановщику. Всё-таки вот раскинулся перед ними великий город – сработан тёмным деревенским мужичьём. Стоит красавец, и это уже факт, никуда не денешься, – значит, какой надо было обладать могучей силищей, чтобы раскачать, поднять с лавок-лежанок, заставить копошиться, вкалывать от зари до зари, свозить со всей округи камни, строить, крепости и дворцы.
– Мой прадед строил Исаакий, – сказал Кузичев, – бумага сохранилась. Из-под Твери крепостных гнали, во как!
– Исаакий начали в тысяча восемьсот восемнадцатом, – не замедлил сообщить Коханов. – Строили сорок лет. А бумага у тебя за какой год?
– А бог её знает, давно не глядел. То ли за двадцатый, то ли за тридцатый, – ответил Кузичев.
– Смотри-ка ты! – воскликнул Мартынюк, хлопнул себя по ляжкам. – Царские бумаги имеет. А мы с ним на "ты". "Ваше высочество" надо.
– Лапоть! Величество! – поправил его Коханов. – "Высочество" присваивалось потомству императоров и королей и владетельным особам, имеющим титул герцогов, а "величество" – самим императорам, королям и их супругам. Что же ты Кузьмича принижаешь?
Мартынюк, всегда готовый к шутке и розыгрышу, вскочил, согнулся перед Кузичевым в низком поклоне.
– Простите, ваше величество! Больше не буду, век свободы не видать! Чтоб мне сто лет без премиальных! Простите, ваше величество!
Кузичев усмехнулся кончиками губ и сухо сказал:
– Пошёл вон.
Мартынюк, с красным от натуги и выпивки лицом, со слезящимися глазками, ставшими от хохота совсем как щёлки, разогнулся и сел на место.
Коханов предостерегающе поднял палец – кто-то поднимался по лесам, слышно было, как лязгали железные лестницы, скрипели дощатые настилы. Всё выше и выше – к ним! Мартынюк ловко засунул пустые бутылки под настил, прикрыл кирпичами – пригодятся. И тут же из проёма показалась голова прораба: сине-буро-малиновый берет, рыжие вьющиеся патлы, одутловатое насупленное лицо. Он вылез до пояса, покрутил туда-сюда головой, поправил папку под мышкой. Мартынюк пригласил его к столу:
– Юрий Глебыч, просим! Перекуси с нами.
– Да нет, спасибо, смотрю, как и что, – словно оправдываясь, сказал Ботвин и переступил на две ступени вверх.
– Садись, прораб! – пригласил и Кузичев.
Сергей поднялся, уступая своё место, но Ботвин решительно запротестовал:
– Нет, нет, товарищи, вы ешьте, не обращайте на меня внимания.
Сергей всё же собрал из кирпичей ещё один "стул", Кузичев тщательно вытер обрывком газеты единственную вилку, которой они по очереди поддевали шпротины, протянул её Ботвину:
– Угощайся.
Но Ботвин поднялся на настил, прошёлся вдоль новой, наращиваемой стены, заглянул вниз в проём, где раньше были междуэтажные перекрытия, вернулся к рабочим, сел, подложив под себя папку, с которой не расставался, кажется, всю свою жизнь.
– На Пестеля решили разбирать, – грустно сказал он, словно сообщил о постигшем его личном горе.
– Решили всё-таки! – наоборот, как бы одобряя решение, сказал Кузичев.
– Досадно. Фасад больно хорош. Но, – Ботвин отрывисто вздохнул, – фасад хорош, а фундамента, можно сказать, и нет. Подрыли, а там бутовый камень.
– Подрядчик схалтурил! – с ходу определил Коханов.
Ботвин повёл бровью и вдруг ссутулился, сгорбился – его серый, в пятнах и порезах плащ надулся коробом на груди, и сразу, на глазах, прораб как бы постарел на целый десяток лет.
– Вот так, – задумчиво сказал он, будто подводя итог каким-то своим невесёлым размышлениям, – пройдёт двести лет, и кто-то нашу работу будет рушить, крыть прораба. Гоним, торопимся, думаем: лишь бы на первое время, лишь бы как-нибудь, а не думаем про тех, будущих людей…
– Ну а как же не спешить? Люди что ж, во временном фонде должны ютиться? – возразил Кузичев и твёрдо закончил: – Спешить надо.
Ботвин посмотрел на него долгим невесёлым взглядом, вздохнул и отвернулся.
– Вопрос можно? – спросил Коханов и, не дожидаясь ответа, заговорил с обычной своей горячностью: – Юрий Глебыч, когда кончится этот бардак: я на кране обслуживаю ремонт дома, почему меня не включают в комплексную бригаду? Почему не связать меня с бригадой общей прогрессивкой? "Меня" в данном случае – не только меня лично, а всех крановщиков на капремонте. Это же и выгоднее, и правильнее: общее дело и общие интересы.
– Понял тебя, – кивнул Ботвин. – Ты прав, но… – Он вскинул плечи, развёл руками, посидел в таком неловком положении, причмокнул фиолетовыми губами и, тяжело поднявшись, молча пошёл к спуску. У спуска задержался, ответил Коханову: – Не можем преодолеть межконторские перегородки.
Он постоял, задумавшись, приложив палец к губам.
И вдруг встрепенулся, как петух после дождя, поманил к себе Сергея.
– Ну, был у Кислицыных? – тихо спросил он. – Договорились?
– Да, всё в порядке. Старик уж больно хорош.
– Старик хорош, – согласился Ботвин. Он внимательно, с прищуром посмотрел Сергею прямо в глаза, хотел ещё что-то сказать, но лишь похлопал Сергея по плечу и полез вниз по ступеням.
Сергей вернулся на своё место. Мартынюк прищёлкнул пальцами.
– Эх, про клад забыл спросить: верно ли, нет ли, говорят, на Моховой клад в стене нашли. На сто тысяч, говорят.
– Болтовня, – презрительно скривился Коханов.
– За что купил. Стропаль тамошний говорил. Студенты подрабатывали, обдирали обои, в одном месте штукатурка отстала, кладка какая-то не такая, выделяется. Зацепили кирпичи, а они шатаются, на песочке. Вытащили, глядь – тайник: твёрдое что-то, в белый шёлк замотанное и перевязанное туго-туго. Сорвали шпагат, развернули шёлк, а там серебряная резная шкатулка. Открывать – не открывается, ломать – жалко. Народу, говорят, набежало – все, кто был. Понесли шкатулку к начальнику, позвонили в музей – мигом примчались. Ключиками, щипчиками открыли – так, говорят, все и онемели. Кольца, брошки, камни драгоценные. Оценщики оценили: сто тысяч как одна копеечка!
– Брехня! – убеждённо сказал Коханов.
Мартынюк даже поперхнулся от обиды.
– А кирпич золотой в Гостином дворе – тоже брехня?
Он даже кулаки сжал, до того разгорячило его недоверие Коханова. Кузичев выпил полбутылки минеральной, примирительно поднял руку.
– Было, было дело, только не на Моховой, а на Некрасова – восемь лет назад. И не шкатулку, а просто в тряпках. Нашедшим дали двести рублей премии.
– Во! – торжествующе погрозил Мартынюк Каханову. – Нашли же! Если бы втихаря, не разбазлались бы на всю стройку, так…
– Так что? – насмешливо вставил Коханов. – Утаили бы?
– А что? Нашёл – моё.
– Ха-ха-ха не хо-хо? Закон есть специальный: все клады земные и прочие принадлежат государству. За присвоение – к ответу.
Мартынюк важно, надувшись, сказал:
– Государство – это мы.
Кузичев улыбнулся, вокруг рта и возле носа заморщились складки, ледяные глаза повлажнели, засветились теплом, и он перестал походить на самого себя, до того изменила его улыбка.
– Кто куда, а я в сберкассу, – сказал он, поднялся, размял цепкими, сильными руками поясницу и пошёл было к своему корыту, но Сергей, сам не зная, почему именно сейчас решил затеять разговор, окликнул его:
– Кузьмич! Подожди, дело есть.
Кузичев вернулся, встал – руки на пояснице, в глазах нетерпение – видно, уже настроился на работу, а тут задержка.
– Рассуди. – Сергей заторопился, заговорил короткими рублеными фразами: – Вчера с Пашкой вынесли печь. Круглая голландка. У одних – старуха там и ещё одна с девочкой. С восьми до одиннадцати – три часа. Содрали сто пятьдесят. Красная цена – семьдесят. Восемьдесят надо вернуть. Я так считаю. – Он поспешно, путаясь в кармане, вытащил деньги, сорок рублей, и положил перед собой, придавив обломком кирпича. Волнение улеглось, он уже спокойнее потребовал с Мартынюка: – Давай, Пашка, гони сорок, пока не пропил. Занесём, отдадим. Я вчерашнюю хозяйку встретил, понимаешь? Это же грабёж. Совесть-то у нас ещё не вся кончилась.
Мартынюк, отводя глаза, отчаянно замотал головой, дескать, пустые разговоры, напрасный труд. Сергея окатила внезапная волна злости, и Кузичев, понявший по его побелевшему лицу, что надо срочно вмешиваться, строго спросил:
– Сто пятьдесят? Пашка, тебя спрашиваю.
– Ну, – ворчливо откликнулся тот, и сузившиеся глазки его растерянно зашныряли из стороны в сторону.
Кузичев вытянул свой костистый, словно каменный, палец, указал им на деньги, которые лежали под кирпичом, и тоном, не терпящим возражений, произнёс:
– Клади!
Коханов торжествующе усмехался, поглядывая на загнанного в угол Мартынюка. При этом он успевал наворачивать за обе щеки – поесть он был большой мастер.
– Ну! – прикрикнул Кузичев. – Хуже будет.
Мартынюк крепко почесал затылок и неожиданно легко рассмеялся:
– Вот гады, вот гады – кровные из пасти! Да на! – Он рванул из кармана конверт, комкая его, швырнул на стол. – Хоть всё! Только больше я с тобой не ходок. Сам ищи себе халтуру.
Сергей отсчитал из конверта сорок рублей, остальные вместе с конвертом положил перед Мартынюком. Тот небрежно сунул конверт в карман. Коханов, пока шёл спор, подмёл все остатки и теперь, сыто поглаживая себя по животу, расфилософствовался:
– Знаешь, Пашка, почему у тебя никогда денег не будет? Потому что ты мелкий, по мелочи хватаешь там и сям, а когда выпадает случай, теряешь меру и зарываешься. Сам себя наказываешь. Знай меру – и обретёшь счастье. Формула не моя, но тоже гениальная.
Он фыркнул, довольный собой. Лоб его, лопатой, лоснился на солнце, очки сверкали, широкий губастый рот расплывался в снисходительной улыбке. Кузичев закинул руки за спину, отошёл к краю стены, глядя в задумчивости на город. Мартынюк приложился к бутылке с минеральной и выдул до дна – слова Коханова он пропустил мимо ушей. Кузичев вернулся от края стены, подал Сергею свой конверт с премией:
– Вот, обещанные. Вернёшь, когда сможешь.
Сергей благодарно пожал его руку.
– Спасибо, Кузьмич! Верну к зиме.
– Когда сможешь, – твёрдо повторил Кузичев и пошёл работать.
За ним поднялся Мартынюк, серьёзный, вроде чем-то озабоченный. Укатился в свой угол, к своему ящику. Коханов и Сергей, как самые молодые, разобрали стол, разнесли кирпичи. Пустые банки, шкурки, огрызки сбросили в проём – всё равно мусора полно, будут вывозить с нулевой отметки.
– Тоже зубришь? – спросил Сергей, вытягивая у Коханова из-под мышки книгу. – "Пётр Первый", – прочёл он название.
– Перечитываю, – пояснил Коханов. – Любопытные есть моментики. Соотносительно… Хочешь? Бери, я на праздники уезжаю, валяться будет.
– Нет, не могу. Третьего мая диамат сдаю, – сказал Сергей, перелистывая книгу и выхватывая глазами отдельные строчки.
– Диамат сдаёшь… – Коханов усмехнулся, рот его разъехался кривым полумесяцем. – Ты сдашь, а мне это не суждено.
– Как так? – не понял Сергей.
– Диалектичность во мне, в крови, в костях – при всём желании не смогу избавиться.
– Ясно, – рассмеялся Сергей, возвращая книгу.
Они крепко пожали друг другу руки. Коханов прокричал: "Общий привет!" – и ушёл.
Раствору было ещё порядочно, и, хотя время шло уже не казённое, а своё, личное, Сергей всё же решил не гнать, не вытягивать последние жилы, оставить немного и для вечерней работы у профессора. Наверняка до полуночи придётся гнуть спину, так что расслабиться на четверть часика никак не мешало. После водки и закуски ударило в руки-ноги томливое тепло, к тому же погодка – благодать: ветер стих, изрядно пригревало, хоть ложись на кирпичи и мыркай, что твой кот.
Он вёл кладку неторопливо, с передышками. Сунет кирпич, посмотрит по сторонам, сунет другой, пристукнет – передохнёт, глянет, как слева кланяется Кузичев, справа – Мартынюк. Похоже, что они вот-вот кончат – скребут со дна, а у него ещё порядочно. И незаметно для самого себя, поддаваясь безотчётному порыву догнать товарищей, Сергей разгорячился. Кладка пошла живее, и постепенно возник внутренний счёт: раз – два – три – четыре. Мысли отлетели куда-то, остались и не мысли вовсе, а так, обрывки какие-то. И вскоре заметил, что его взяли на буксир: слева в его ящике замелькал мастерок Кузичева, справа – Мартынюка. Не прошло и десяти минут, как они выскребли со дна последний раствор. Сергей перевернул ящик вверх дном, лёгкой быстрой дробью обстукал, сбил налипь. Обчистил мастерок и кельму, сунул в полиэтиленовый мешок, спрятал в чемоданчик.
Молча спустились со стены, пересекли двор. Расставаясь на углу Литейного, Сергей спросил у Мартынюка, не хочет ли он зайти по вчерашнему адресу во двор, чтобы вместе отдать деньги, или доверяет ему, Сергею. Мартынюк возмущённо, как бы жалуясь, обратился к Кузичеву:
– В третий раз дураком хочет сделать. Нет, ты смотри, Кузьмич, что творит: я его на халтуру взял – раз дурак, заработанные, кровные вернул – два. Да ещё относить? Нет уж, Метла, давай без меня. Потешь себя, тут своих забот – ажно задницу дерёт.
Кузичев отмахнулся – дескать, разбирайтесь сами – и, уже повернувшись уходить, сердито сказал Сергею:
– Сам отдашь.
На том и разошлись. Сергей направился к телефону-автомату звонить Надюхе. Пока она дойдёт от управления до Литейного, он успеет забежать вернуть деньги.
Как и хотелось Сергею, Екатерины Викентьевны дома не оказалось, была одна старушка мать. Узнала Сергея, насторожилась, поджала губы, но дверь распахнула – раз пришёл человек, входи, не прогонишь. Сергей безо всяких предисловий протянул ей деньги, сказал, наклонившись к самому уху:
– Деньги это, восемьдесят рублей. Вчера ошибку дали, ошиблись. Возвращаем. Поняли?
Старуха с недоумением посмотрела на деньги, на него, удивилась, не веря ему, протянула обратно сложенные бумажки, но он не взял.
– Это ваши деньги. Ваши! – погромче повторил он, думая, что она недослышала.
Старуха ахнула от радости, прижала кулачок с деньгами к груди.
– Милый ты мой, значит, есть бог на небе, а совесть на земле. Это Катенька свои отпускные за печь отдала. Господи! Какие вы славные люди! А мы уж думаем, зубы на полке целый месяц. Господи, да что же я держу тебя у порога! Входи, Катюша вот-вот придёт, порадуется.
Она суетливо задвигалась в тёмной прихожей, сама не зная, куда вести Сергея: то ли в кухню, то ли в комнату, где, видно, был ещё непорядок. Сергеи придержал её под локоток, притянул поближе к себе, сказал в ухо:
– Спешу я, бабушка, бежать надо. А дочке скажите, после праздников заскочу, сделаю. Платить не надо, за те же деньги сделаю.
Старуха растроганно замотала головой:
– Господи, господи, дай тебе счастья, сыночек. Говорила Катеньке, хорошие люди, не могло так закончиться. Вот и вышло по-моему. Спасибо тебе, спасибо за доброту. А пол, – она махнула кулачком, – бог с ним, с полом. Мы там фанерку положили. Мышей у нас вроде нет, тумбочку поставим, и не видно будет.
– Сделаю, – сказал Сергей, чувствуя, как от жалости к старухе, вообще к этой семье, делается ему не по себе: стыдно, горько, досадно. И он повторил вдруг осевшим голосом: – Сделаю.
11
На этот раз открыла кислицынская молодуха Наталья – высокая, гибкая, красивая. Откинула длинную тонкую руку, как в цирке – алле, на манеж пожалте! И головой тряхнула – гордо так, по-актёрски.
– Прошу вас, ждём. – Голос глуховатый, глубокий, приятный. Глаза большие, иссиня-серые, спокойные. Брови чёрные, крутыми дугами, никаких красок – сама вся светится. Халат в обтяжечку, из-под халата – брюки, на другой бы нелепо смотрелись, а ей всё к лицу.
Познакомились, пожали руки, пошли по квартире. Наталья, как гид-экскурсовод, то туда покажет, то сюда: "Это кухня, там кладовочка, ниша, коридорчик, спальня родителей, кабинет, наша комната…" После каждой остановки и беглого осмотра неизменно спрашивала: "Понятно, да?", – обращаясь при этом к одной лишь Надюхе. И Надюха кивала с готовностью, бормоча: "Конечно, конечно".
Вслед за ними в маленькую комнату осторожно вошёл Павлик, неся перед собой шахматную доску с расставленными фигурами.
– Ну вот, явление народу, – насмешливо сказала Наталья.
Павлик остановился перед Сергеем.
– Давайте блиц. Они боятся со мной. Я их всех обыгрываю.
– Ой хвастун! Какой же ты хвастун, – совсем не сердито сказала Наталья. – Дедушка тебя обыгрывает и папа, когда захочет.
– Это когда я захочу, тогда они выигрывают. Жалею их. – Павлик поставил шахматы на стул, потеребил Сергея. – У вас разряд? Какой?
– У меня высший разряд – строительный! – сказал тот, подмигнув Наталье. – Мы с тобой сыграем потом. А сейчас извини, брат, не могу. Работы, сам видишь, навалом.
– Блиц же, – заканючил Павлик. – Две минуты.
– Павел! – строго сказала Наталья. – Выметайся! Лучше сам… – многозначительно предупредила она.
Павлик засопел, как-то по-взрослому поправил очки, взял шахматы и удалился, ни на кого не глядя.
Чуть не сбив его, в комнату влетела Христина Афанасьевна.
– О, пришли! Рада, рада. Вас Надеждой зовут? Значит, Надюша? Можно так? Ну, отлично. Видели наши хоромы?
– Прекрасная квартира, – сказала Надюха.
– Прекрасная, пока не берёшься за уборку да за ремонт, – пожаловалась Христина Афанасьевна. – А для нас с Наташенькой она ужасная! Сколько мы тут потрудились. Правда, Наташа?
Наталья закатила глаза и развела лёгкими руками – получилось это больше в шутку, чем всерьёз.
Христина Афанасьевна без всяких переходов заговорила о деле. В первую очередь, по её мнению, надо браться за маленькую комнату, привести в порядок, побелить, поклеить обои и всем дружно наброситься на книги: протереть, пропылесосить, перенести в чистую маленькую комнату. Затем ремонт кабинета – полностью, до последнего гвоздя, чтобы потом уже не беспокоить Андрея Леонидовича. Ну, а дальше – как угодно: то ли комнату молодых, то ли спальню – всё равно.
– Всё ясно. Надежда займётся комнатой, я – плиткой, – решил Сергей. – Вы поможете разметить стену под плитку?
– Ну разумеется! Итак, вы приступайте, а мы с Наташенькой пойдём складывать книги из спальни. Всё равно же надо будет освобождать!
Они ушли, и вскоре в спальне загудел пылесос.
Надюха переоделась в старенький сарафан, линялый и тесноватый, в котором бегала ещё школьницей. Застелила в маленькой комнате пол газетами, установила лестницу, полезла со скребком обдирать с потолка отставшую извёстку.
Для разметки стены приглашён был из глубины квартиры Александр. В кургузом своём спортивном костюме, серьёзный, надутый, он принёс чертёж в полватманского листа. У него всё уже было размерено и начерчено, оставалось лишь нанести мелом контур будущей кладки к примерно наметить, где пройдут водопроводные трубы. Проект был хорош, особенно понравилось Сергею то, что Александр "привязал" кухонный гарнитур к имеющейся разводке горячей и холодной воды, так что никаких особых слесарных и сварочных работ не предстояло. Александр тотчас, как только закончили разметку, ушёл.
Сергей сбегал на стройку. За рамами лесов нашёл старую детскую ванночку, захватил и ведро для воды. Вернулся полный нетерпения скорей-скорей взяться за работу. Быстро, вприпрыжку перетаскал из маленькой комнаты на кухню мешки с песком и цементом, пачек десять плитки. Привычной рукой, на глазок сыпанул в ванночку песку, потрусил цемента, ещё прибавил, ещё. Коротким мастерком перемешал, взрыхлил смесь, пальцами размял комки, вылил ведро воды, плеснул ещё, сколько рука отмерила. Тщательно, бережно, неторопливо начал первый замес.
Возле него то и дело кто-нибудь проходил: то Александр, то Павлик, то Христина Афанасьевна – таскали в прихожую увязанные пачки старых газет, журналов, черновиков. Павлик каждый раз останавливался за спиной Сергея или сбоку и молча сопел, глядя, что делает Сергей.
Закончив замес, Сергей напористо, одним натиском отбил молотком штукатурку по намеченному контуру стены, вколотил дюбель с отвесом и сел покурить перед началом работы.
Перекур этот перед первым рядом тоже пришёл не сразу. Чего, казалось бы, ещё: разметил, сел, сигарету в зубы и – пошла, родимая! Нет, есть тут маленькая, но тоже очень многозначительная хитрость. Вот сидишь ты в сторонке, покуриваешь и вроде бы ничего не делаешь, даже не шевелишься, а глаз тем временем вверх-вниз, туда-сюда, как бы рисует, планирует будущую кладку: во-о-он та щель между кирпичами – останется слева, сантиметра на два от края будущей кладки, а вот это место, где выбоина, тут как раз и пройдёт нижняя кромка, замазать выбоину придётся, потолще раствору положить… Вот так посидишь, выкуришь сигарету, а глаз ужо разметил, запомнил, как и что, свыкся с местом. Со стороны поглядеть – сидит мужик и курит, шабашничает, а на самом деле тут, может, и свершается самая главная работа: настройка глаза!








