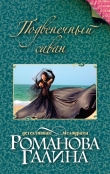Текст книги "Жизнь-река"
Автор книги: Геннадий Гусаченко
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
Кто, кроме нас отважится отправиться туда, где запросто свернуть себе шею, навсегда затеряться в безбрежном океане, в бескрайней таёжной глуши, в лабиринтах пещер и гротов?
Никто, кроме нас!
«Чудики» и «ненормальные»
От лежания в одной позе занемело тело. Хочется чаю с конфетами и пряниками, но выбираться из нагретых одежд не достаёт мужества. Преодолеваю себя, выкарабкиваюсь наружу. Ветер стих. Волны сменились рябью, и взошедшее солнце сулит хороший день.
В благоговейном уединении прочитал я молитву:
– Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится имя Твоё, да придет Царствие Твоё, да будет воля Твоя, яко на Небеси, и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твоё есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Перекрестясь на образок Христа—Спасителя, трижды поклонился я Господу, и целуя нательный серебряный крестик, обратился к Нему со словами Давида:
– Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий… Научи меня исполнять волю твою, потому что Ты – Бог мой; Дух Твой благий да ведёт меня в землю правды.
И ещё я сказал так:
– Утвердь шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои.
И помолясь, принялся за дело. До полудня просушивал одежду. Увязая в прибрежном иле, стаскивал в лодки припасы и снаряжение. Отталкиваться от берега не пришлось. Течение быстро подхватило мое утлое плавсредство и скоро отнесло на середину реки. Белые и красные бакены фарватера виднелись далеко вдоль левого берега. Я мог спокойно плыть, не шевеля вёслами, один на один со своими мыслями. За неделю до ухода в плавание мне попалась на глаза любимая книга детства «Что я видел» Бориса Житкова. Я листал страницы замечательных морских рассказов, и в памяти оживали мечты далёких лет о путешествиях в чужеземные страны. За шестьдесят пять прожитых лет много чего довелось увидеть. Переворачивая пожелтевшие истрёпанные листы, я будто вновь слышал шум портальных кранов Владивостока, грохот морского прибоя и якорных цепей китобойца. Приключений, испытаний, происшествий, выпавших на меня, хватило бы и на несколько чужих жизней. Должен, однако, признаться: не волею судьбы приходилось мне попадать в сложные, порой, очень рискованные, страшные ситуации. Чаще всего я сам становился на довольно опасный путь. В пору моей молодости не употребляли модных ныне слов «экстремал», «адреналин». Жажда острых ощущений, бешено бьющегося от волнения сердца гнала меня в отсек подводной лодки. В уголовный розыск. В «воронье гнездо» на мачте китобойного судна. В кабину планера и электровоза. В редакцию газеты. В дикую тайгу. В плавание по великой реке на хлипком плоту. Чувства, когда нервы напряжены до предела, а гибель кажется неминуемой, медики объясняют бурным выделением в кровь адреналина. Отчаянные «сорви–головы» сейчас так и говорят: «Не могу жить в стоячем болоте. Адреналина мне не хватает. Пойду в спецназ, а то сдохну от скуки». Я таких экстремалов понимаю, согласно киваю и поддакиваю им. Сам не могу жить без зависти к альпинистам, водолазам, яхтсменам, парашютистам, пожарным, лётчикам, следователям, геологам, космонавтам, морякам, спасателям, разведчикам – да разве перечислишь всех, кто не представляет себя без риска и острых ощущений?!
Те, кто предпочитают спокойную, размеренную жизнь со всеми удобствами, не пойдут навстречу песчаной буре, свирепому шторму. Не вслушаются в могильную тишину подземной пещеры. Не всмотрятся под ужасающим давлением воды в холодный мрак за стеклами батискафа. Эти, всего боящиеся людишки, ленивые, равнодушные ко всему, кроме личного благополучия, не вступятся за слабого и беззащитного. Торопливо прикроются газеткой, отвернутся при виде хама, хулигана, грабителя. Молча и боязливо прижмут хвост, позволяя оскорблять себя, девушку, жену. Не постоят за свой дом, за товарищей. Не поспешат на выручку в беде или в минуту опасности. Не заслонят собой Отечество. Не вступятся за веру православную.
Этой человеческой породе, схожей с червями, ужами и прочими представителями подобных видов, и в голову не придёт идти по льду через Берингов пролив, в разведку, в спецназ, поехать учителем в заброшенную деревушку, уйти в монастырь. Им не испытать счастья парения под облаками. Не увидеть сказочный подводный мир диковинных рыб, звёзд и кораллов. Не встретиться на таёжной тропе с рыкающим тигром, разъярённым медведем или скалящей зубы стаей волков, не испытать страх от смертельной близости кровожадной акулы. Им, «нормальным», не понять порыв души старца, на склоне лет отважившегося пешком совершить паломничество в Иерусалим, к Гробу Господню, и умершему на обратном пути. Не оценить веление сердца милиционера, пришедшего на зов о помощи и погибшего в схватке с бандитами. Не разделить радость юноши, взлетевшего на дельтаплане собственной конструкции и разбившегося при падении. Не пережить страсть следопыта, в азарте охоты заплутавшего и замерзшего в снежном лесу. Не ощутить волнительную дрожь альпиниста, крепящего трос на вершине горной кручи и сорвавшегося в глубокую расщелину. И много еще чего не понять «нормальным». Сидя в кресле у камина в мягких шлёпанцах, за вечерним чаем в семейном кругу, за шахматами или карточным столом, на диване у телевизора, человек–червяк с благообразным лицом и мелкой душонкой зевнёт лениво, сделает глоточек–другой кофе, небрежно промямлит: – Придурок…И куда его, чудика, занесло! Вот ненормальный…
Жаль мне этих «нормальных», боящихся скрипа своей кровати, шарахающихся от собственной тени, не мечтающих пройти тропами Иисуса Христа по знойной пустыне Палестины, переплыть Атлантику, Байкал, взобраться на горы Камчатки, Тибета и Памира, увидеть льды Антарктиды. Без разницы на чём: в шлюпке, на воздушном шаре, в ванне, на ишаке, на собаках или на мотонартах. Было бы желание… Я с гордостью отношу себя к «чудикам и «ненормальным». К таким, кто падал с колокольни, пытаясь пролететь над землёй на махолёте. К тем, кто нырял в глубину, нацепив на себя какое–то подобие дыхательного аппарата. Кто накручивал педали самодельного веломобиля. Кто шёл через тундру, донося слово Христово до аборигенов Севера.
«Чудики» и «ненормальные» проложили человечеству дорогу в космос. Современники Константина Эдуардовича Циолковского ничем иным, как «чудачествами школьного учителя» не называли его смелые космические проекты. Иронически посмеивались над его бумажными ракетами и, как тогда многим казалось – над «безумными» чертежами. Кто серьёзно воспринимал «бредовые» идеи чудаковатого старикашки из Калуги?! Памятник этому неугомонному «чудику» стоит сейчас там, отлитый из бронзы. А когда–нибудь поставят из золота.
Что говорить о людях великих, но простых смертных, осмеянных за «чудачества», если и Сына Божьего ненавистники Его обвинили во лжи и несостоятельности знамений. «Войдя, Он говорит им: что вы скорбите и плачете? Отроковица не умерла, но спит. Они же насмехались над Ним… говорили, будто Он одержим духом нечистым». Евангелие Марка, гл.5 (39,40), гл.3 (30).
«И встав, некоторые стали ложно обвинять Его, говоря: «Мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворный, а через три дня воздвигну другой, нерукотворный… А некоторые стали плевать на Него и, завязав Ему глаза, бить по лицу, говоря: ну–ка, прореки! И слуги стали избивать Его»
Евангелие Марка, гл.14, (57, 58, 65).
Они, «чудики», прошли под льдами Северного Ледовитого океана. А было время – смеялись над крестьянином Ефимом Никоновым, над его «потаенным» судном из дерева и кожи. Скептики с недоверием смотрели на опыты погружений Жака Кусто в самодельном акваланге, считали авантюрным проект Огюста Пикара и его сына Жака покорить Марианскую впадину (11034 м.) – самую глубоководную в Мировом океане. Почему сейчас никто не смеётся над глубоководниками–исследователями, опустившимися на её дно в батискафе «Триест»?!
Очень много чего понаделали и напридумывали всякие там «чудики и «ненормальные». Открыли новые острова и материки. А идею Христофора Колумба обогнуть земной шар на каравеллах и достичь Индии тоже ведь считали ненормальной. Инженера Эйфеля сочли чудаком, когда он предложил построить свою знаменитую ныне башню, ставшую символом Парижа.
«Ненормальные» лазали в болотах и топях Западно—Сибирской низменности, отыскивая нефть. И нашли! Продираясь сквозь таёжные дебри, открывали новые месторождения полезных ископаемых. Они, эти «чудики», создали шедевры искусства. Состязаясь в силе и ловкости, поставили рекорды выносливости. Сделали реальным то, что считалось фантастикой. Компьютер стал таким же бытовым предметом как чайник и утюг. Но прежде «нормальные» посмеялись над студентом Ершовым, будущим академиком, ещё полвека назад предложившим ввести в школах курс информатики!
– Ну и чудак же! – сказали тогда про него.
А главное, «чудики» и «ненормальные» всегда болеют душой за Отечество, являются его патриотами и главной опорой, защитниками и хранителями. По доброй воле идут по отдалённым сёлам проповедниками слова Божьего, поступают на военную службу, становятся спасателями, испытателями, космонавтами, бойцами спецназа, отрядов быстрого реагирования. Они там, где труднее, где надо постоять за веру православную, за честь и во славу России. Именно они, «чудики» и «ненормальные», Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Кузьма Минин, Пётр Великий, Фёдор Ушаков, Иван Крузенштерн, Александр Суворов, Фаддей Беллинсгаузен, Павел Нахимов, Степан Макаров, Александр Колчак и ещё тысячи тысяч таких же неординарных людей провозгласили девиз: «Бог. Верность. Отвага. Отечество. Долг. Честь».
«Чудики», «ненормальные» и все любители адреналина ко всему сказанному ещё и влюблённые романтики. Любят природу, Родину, приключения и, конечно, красивых женщин. Они вообще любят всё красивое. Для прекрасной дамы влюблённый романтик–чудик потратит последние деньги на цветы. Помните, как в песне про бедного художника? «Миллион, миллион алых роз…» Ради неё он готов на рыцарский поступок, свернёт горы. На свидание придёт с букетом ландышей – он же романтик! Блеснёт аккуратностью в одежде, изысканными манерами и остроумной речью. За словом в карман не полезет и слушают его всегда с неподдельным интересом. Он – человек бывалый, ему есть, что рассказать. Отважный, как правило, хорошо воспитанный человек – романтик – желанный гость компании, надёжный друг и законно–послушный гражданин. Жаль, только, в семье у него не всё и не всегда благополучно. За богатствами не гонится. Накопительством не озабочен. О карьере не размышляет. Ему бы ветер в паруса. Тайгу непроходимую. Скалы покруче. Пещеру неизведанную. И всё в таком духе. Не всякой спутнице или спутнику в жизни по нраву такое отношение к семейным проблемам их избранника или избранницы. И если один из супругов не увлечён походами, не заражён страстью путешествий, приключений, считай, пропало. Тут либо вдвоём протирают диван у телевизора, либо вместе дрожат от холода в мокрой палатке, зябнут в таёжном зимовье, ожидая, пока раскалённая докрасна печурка сгонит наледь со стен. Либо супружеская чета любуется закатом и пальмами экзотических островов с палубы огромного океанского лайнера. Либо кувыркается в беснующемся море на маленькой яхте, готовой вот–вот перевернуться вверх килем. Третьего не дано. Бывают, разумеется, исключения, когда любимая женщина, как в песне, стоит на причале с косынкой в руке, задумчиво всматриваясь вдаль: не мелькнёт ли на горизонте знакомый парус! Но это в песне. А в жизни романтических любителей адреналина на пирсе, на причале, в аэропорту и на вокзале не встречают те, кто не влюблены в природу, лишены чувства постоянного влечения в неведомую даль, того самого, что подвигало мореплавателей отправляться в скитания по морям.
– Если не мы, то кто? – вопросом на вопрос отвечали они тем, кто с недоумением спрашивал:
– Зачем? Что толкает вас навстречу возможной гибели? Загрузив корабли съестными припасами и бочками с водой на два–три года, под свист ветра в снастях и жалобные крики чаек уходили в Неведомое, в Никуда… Тайны пропавших в неизвестности многих скитальцев–романтиков до сих пор хранят нетронутые пески морских глубин, льды неизведанных пещер и бездонные пропасти горных ущелий, барханы пустынь и степные курганы, зыбкие болота тайги и мерзлота тундры.
В Никуда, в Неведомое иду и я. Странствующий, одиноко плывущий по реке романтический отшельник, ненормальный чудик. Извилист и опасен мой путь, хотя… «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Библия, Притчи Соломона, гл.16 (25).
Как жить будем?
Ночь я провёл на плаву в тальнике, накрывшись плащом. С рассветом ополоснул лицо и руки холодной водой и, воздав хвалу Царю Небесному за скромную пищу свою, перекрестившись, принялся за трапезу. Наскоро позавтракал остатками вчерашней овсяной каши, запил чаем, успевшим за ночь остыть в термосе, и развязал узел на капроновой верёвке. Прежде чем взяться за вёсла, поцеловал я талисман – серебряный крестик и прошептал, вторя словам Давида:
– Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи! Будь мне помощником! Библия, псалом 29 (11).
Лишь только плот освободился от ветки, как течение вынесло меня из кустов в протоку. Взошло солнце. Кучевые облака нагромоздились на юго–востоке, но западная и северная части неба чистые. День обещает быть без осадков и тёплым. Поверхность воды отливает зеркальной гладью.
– Спасибо, Боже!
Прошёл буксир, поднял зыбь. Плот–катамаран хорошо держит волну, легко управляется. Плыть удобно. Скоро я вышел из протоки в Обь. Справа идёт буксир, толкает баржу. Надо поскорее уйти к левому берегу. Вот он уже близко. «Свежий» – гласит надпись на белой надстройке. Почти рядом, качаясь на журчащем потоке встречной воды, промелькнул белый бакен № 68. И вот уже меня обходит буксир с двумя баржами «Плотовод – 697».
На небе ни облачка. Яркое солнце. Безветрие. Река спокойная. Гладь.
Прошел мимо красного бакена № 79. И вот первая пристань «Ягодная». Весь левый берег – дачи. Навстречу, упираясь против течения мощными винтами, толкает баржи «Плотовод – 690». Быстро обходит меня справа речной толкач «Василий Шукшин». Вечером 15‑го мая я видел это судно в Новосибирском речном порту. Иду со скоростью пешехода – приблизительно четыре километра в час. Миновал строящийся мост через Обь. На трёх опорах уже задвинута ферма.
Навстречу со стоянки двинулся «Плотовод – 104». Близятся сумерки.
Меня обгоняет теплоход «Москва – 121».
На западе кучкуются тучи. Небо быстро затягивается грязно–серыми облаками. Заметно свежеет. На воде рябь, быстро переходящая в волны. На южной стороне мрачного неба, покрытого чёрными, лилово–сизыми, иссиня–фиолетовыми тучами, изредка поблескивают молнии. Ветер усиливается, срывает брызги с верхушек волн, вспенивает их белыми барашками. Дождя не миновать. Вот тебе и ясное утро, безоблачное небо и спокойная речная гладь! Как быстро всё переменилось! Но на то воля Божья. Я усиленно налегал на вёсла, наметив местечко для высадки на мелком галечнике. Всё же меня протащило дальше. Торопясь, соскочил с катамарана всего в шаге от берега, но и этого расстояния хватило вполне, чтобы принять неожиданную ванну. Бережок, подмытый течением, предательски обрывался у самой кромки воды. Цепляясь за кусты, чертыхаясь и стоя по грудь в холодной воде, я потащил лодки на галечник. Вода ручьями текла с меня, когда я выгружал рюкзаки и ставил палатку. Выпустил воздух из лодок и набросил их поверх палатки. Скоро хлынул дождь. Сильный, порывистый ветер хлестал струями воды по моему укрытию. Но теперь с подволока не капало. Мягкий непромокаемый коврик уютно располагал ко сну. Переодевшись в сухие одежды, я уже через несколько минут кайфовал с кружкой горячего кофе, вскипячённого на портативной газовой плитке.
Грохочет гром. Сверкают молнии. Шелестит дождь. Ветер треплет листву деревьев. С шумом накатываются на берег волны. Пусть беснуется стихия. Мне до неё дела нет. В палатке тепло и уютно. «Радио России» услаждает слух приятной мелодией. В кустах крякают утки. До хрипоты и почти непрерывно противным, надтреснутым голосом надрывается коростель–деркач. Блаженство безделья. Отсутствие забот и какой–либо ответственности за что–то. Ощущение затерянности в пространстве и времени. Отрешение от мира. Полный покой! Лежу один–одинёшенек и трудно вообразить, что где–то сейчас движутся автомобили, бегут поезда, толпятся на переходах пешеходы, едут в метро пассажиры. Переполнены людьми магазины, больницы, парки, заводы, улицы. А здесь – никого! Никаких проблем! Ничего не нужно. Ни квартиры, ни обстановки для неё, ни машины, ни гаража, ни дачи. Ни–че–го! Кружка горячего кофе, сухарь, тельняшка, спортивные трико и шерстяные носки – как мало надо для счастья в палатке! Но окажись я с этим скромным житейским набором в благоустроенной квартире на мягком диване – и счастья как не бывало! Много сразу чего понадобится. Много неразрешимых проблем возникнет. Иногда они заканчиваются очень плачевно. Какое уж там счастье?! Лучше поблаженствую здесь под баюкающий шелест дождя, млея от сознания неограниченной свободы. Спешить никуда не надо. Ведь всё равно, по выражению Козьмы Пруткова, нельзя объять необъятное. И дремать, накрывшись пуховиком, так приятно. Дремать и думать. Вспоминать прожитое. Размышлять о былом…
Мой прапрадед донской казак Емельян Гусаченко. О нём известно лишь, что в небытие он ушёл в станице Липово Ромненского уезда Черниговской губернии. У него остался сын Иван, мой прадед. О нём знаю чуть больше.
Иван Емельянович Гусаченко, со слов моего отца, служил в казачьем конвое, охранявшем, якобы, самого царя. (Полагаю: Александра Третьего). Имел какую–то медаль и по две нашивки на погонах. (Младшего урядника?) У Ивана Емельяновича был сын Зиновий, мой дед.
Зиновий Иванович Гусаченко, родился в 1872 году. Был он двухметрового роста! Георгиевский кавалер, участник русско–японской войны. Был ранен в Манчжурии. Вернулся домой в станицу Липово на Черниговщине, где женился на донской казачке Марии Платоновне Левада. Умер от воспаления лёгких 15 февраля 1937 года, простудившись на строительных лесах шахтёрской станции Промышленная Кемеровской области, куда ездил на заработки.
Мария Платоновна Гусаченко (Левада) родилась в 1868 году. Донская казачка, умела хорошо ездить верхом на лошади. Умерла от тифа 2 июня 1936 года. Похоронена в одной могиле с Зиновием на боровлянском кладбище.
В 1912 году Иван, его сын Зиновий и невестка Мария на льготных условиях по царскому указу вместе с другими черниговцами перебрались в Сибирь. Поселились в маленькой деревеньке Канабишка Тогучинского уезда Новониколаевской губернии. Здесь, за околицей Канабишки, которой сейчас уже нет, похоронен Иван Емельянович Гусаченко.
Зиновий и Мария переехали в Боровлянку – большое по тем временам село. Построили просторный дом, амбар, скотный двор. Жили они до октябрьского переворота 1917 года зажиточно. Как сказал мне однажды мой отец:
– Было у Ивана золотишко. Не с пустыми руками в Сибирь отправился. Подкопил на царёвой службе. На его деньги здесь хозяйство завели.
Зиновий Иванович и Мария Платоновна имели лошадей, коров, свиней, коз, овец, индеек, гусей, кур и кроликов. Были у них плуг с боронами, жатка–лобогрейка, конные грабли и сенокосилка американская, веялка, свой луг, пашня, делянка в лесу и пасека. Работников не держали. Сами управлялись. Сеяли рожь, пшеницу, просо, гречиху, ячмень, горох, выращивали картошку и овощи. Били масло. Варили пиво и медовуху. Пекли хлебы, блины–гречаники, пироги с молотой черёмухой, с клубникой, с малиной сушёной, с калиной пареной. Пили чай с мёдом, с вареньем смородиновым, кисели с крыжовником, компоты земляничные. В кладовой висели колбасы домашние, копчёности, ломти сала, окорока свиные, туши бараньи и говяжьи, птица мороженая, стояли туеса берестяные с колобками сливочного масла, с творогом, сметаной, мёдом, маслом конопляным и подсолнечным. Закрома амбара полнились зерном. В погребе стыли кадушки с огурцами, капустой, грибами. Излишки продуктов неутомимые труженики Зиновий и Мария продавали на базаре в Тогучине. Были у них граммофон, часы с «кукушкой», тяжёлые сундуки с цветастыми шалями, хромовыми сапогами, вышитыми сорочками, отрезами сукна, шёлка и ситца. По воскресеньям, принарядившись, ходили в церковь. Спину Зиновий и Мария гнули, не разгибаясь, с рассвета до поздней ночи. Зато жили в достатке. И всё по той же схеме: «Работать, чтобы жить».
– Эх, кабы знать–то как всё обернётся, – сокрушался, бывало, мой отец. – Ведь всё у них прахом пошло…Всё!
«Все труды человека – для рта его, а душа его не насыщается». Екклесиаст, гл.6 (7).
В годы семейного благополучия у Зиновия и Марии родились Полина, Елена и Григорий, мой будущий отец.
Так проходит жизнь у большинства людей, не имеющих других целей, кроме обогащения и накопительства, не понимающих своего предназначения, в трудах тяжких работающих на живот. Крепко зажили Зиновий и Мария, но случился октябрьский переворот. Народ, растравленный большевиками и меньшевиками, эсерами и конституционными демократами, либералами и монархистами, националистами и анархистами, белыми, красными, зелёными, жёлто–голубыми и прочими возмутителями общественного спокойствия и порядка, начал братоубийственную гражданскую войну. Кровавую, жестокую, беспощадную бойню, унёсшую миллионы жизней лучших людей России. Сколько храбрых сынов Отечества, Георгиевских кавалеров, проливавших кровь на фронтах первой мировой, полегли в Гражданскую в своей же России! Скольких из них оболгали, сделали врагами и расстреляли за казачьи лампасы, за принадлежность к офицерству, за недовольство новой, безграмотной властью, за благородное происхождение?! Сгноили в сталинских лагерях, изгнали за рубеж, в ссылки, на поселения?! Скольких священников предали мученической смерти? Кто их считал?! Одного из замечательных людей царской России, адмирала Александра Васильевича Колчака, исследователя Арктики, моряка–учёного, героя русско–японской и первой мировой войн, командующего Черноморским флотом в 1916 году, большевики расстреляли в Иркутске, а тело бросили в прорубь Ангары. Кто они? Звери? Нет, животные на такие гнусные поступки не способны. Тогда кто? Просто подонки в кожаных тужурках и с маузерами! Счастье адмирала Степана Осиповича Макарова, что погиб на броненосце «Петропавловск» у Порт—Артура. Через пятнадцать лет не миновать бы и ему большевистской расправы!
На селе красный большевистский грабёж – так называемая диктатура пролетариата – разгулялся с размахом, развернулся во всю ширь беспредела. Посыльные из городов с пулемётами на тачанках, вместо того, чтобы самим работать на заводах и фабриках, поехали отбирать хлеб у крестьян. «Продразвёрстка» – это называлось.
Мне сейчас вспомнились слова стихотворения из школьного учебника моего детства:
Рабочий тащит пулемёт,
Сейчас он вступит в бой…
Интересно, где этот лоботряс взял грозное боевое оружие? Украл на военном складе? Напал на караул и захватил у солдат? Выменял у них за водку, купил за деньги? В любом случае – это тяжкое преступление и восхваляемый угодливым поэтом зловредный человек не рабочий, а преступник.
В то лихое время советская власть в лице местных тунеядцев–коммунистов отобрала у моего деда Зиновия дом, амбар, сельхозтехнику, скотину. Совдеповцы вычистили сундуки, забрали граммофон. Хорошо, в Нарым или на Колыму не сослали по причине отсутствия у них работника по найму – батрака. Сгинул бы там от голода и болезней мальчик Гриша – мой будущий отец. И я бы не родился. И у многих людей, не встретивших меня, всё по–другому бы пошло.
– Как жить будем? Зерно, муку, картошку – все выгребли проклятые лодыри с винтовками, – плакала Мария Платоновна. – Чтоб они подавились!
– Как жить будем? – качал головой Зиновий Иванович, Георгиевский кавалер, защитник Отечества. – Грабители! Чтоб вы сдохли вместе со своими пулемётами!
Когда из дому выносить было нечего, рьяный активист Гришка Ткачёв – пучеглазый, с огромной шишкой на лбу, выхватил из русской печи чугун со щами. Дед Зиновий остановил его:
– Щи хоть оставь…
– Нешто в Нарым захотел? – ощерился Гришка, поднимая крышку и нюхая щи. – Старым жиром проживёте, кулацкие морды, – хрипло рассмеялся Гришка. И унёс чугун. Позже он получил прозвище Ткач – Могучая Шишка.
«Кулацкие морды», денно и нощно пахавшие на своём подворье, перебрались в халупу на краю Боровлянки. Неприглядная избёнка эта – избушка на курьих ножках – и по сей день стоит там.
Мой отец Гусаченко Григорий Зиновьевич родился 31 января 1916 года. В двадцать один год был призван в Красную Армию, в город Благовещенск, что на высоком берегу Амура. Отслужив срочную в должности старшины роты, Григорий Гусаченко решил стать офицером.
В поезде, по пути в Тюменское пехотное училище Григорий познакомился с Фаиной Даниленко, моей будущей матерью, 1914 года рождения, (24 сентября). Она возвращалась домой в село Казанку Боготольского района Красноярского края из Ачинска, где окончила курсы продавцов. Её мать – Юлия Петровна Гудкевич, по рассказам старших сестёр матери, была грудным ребёнком подброшена богатому купцу, выросла у него и унаследовала его фамилию. Её муж и отец моей матери – Фёдор Фёдорович Даниленко, марксист, председатель сельского Совета в Казанке, убит из обреза бандитами – кулаками в коллективизацию. Он возвращался из лесу на санях с возом соломы, на которых его и сразила пуля. Лошадь втащила во двор сани, а на возу – убитый Фёдор Фёдорович, мой дед.
Впоследствии, уже в преклонные годы, когда мои родители ругались, отец называл мать «голытьбой», «голодранкой». Мать, не оставаясь в долгу, обзывала его «кулацким отродьем».
В июне 1941‑го, за несколько дней до начала Великой Отечественной войны, Григорий и Фаина справляли свадьбу на родине моей матери, в Казанке. Правда, Фаиной моя мать стала позже, когда исправила в свидетельстве о рождении своё настоящее имя – Фёкла. Так Феня превратилась в Фаю. С этим именем она и прожила всю свою долгую жизнь. На свадьбе мой будущий отец – высокий, широкоплечий, красивый, поскрипывая ремнями на новенькой офицерской гимнастёрке, поблескивая лейтенантскими «кубарями» на петлицах с эмблемами стрелкового полка, вызывал восхищение баб и зависть деревенских мужиков. Удивлял всех силищей своей, бросая гирю через баню и приставляя её одной рукой к оконному стеклу. Пил много самогона, не хмелел и на радость мальчишкам давал им посмотреть пистолет «ТТ».
Надо сказать: отец мой у моей матери был вторым мужем. Первый – гармонист Федька Гусаков – кудрявый весельчак и балагур. Шестнадцатилетнюю Фенечку вдова и мать семерых детей Юлия Петровна охотно выдала замуж за хорошего парня из зажиточной семьи. Но добрый русский парень сложил голову при штурме неприступной линии Маннергейма в финскую войну в 1939 году. Где–то в заснеженной Финляндии родился финн и ему суждено было убить Фёдора Гусакова и дать тем самым возможность родиться мне, моим детям и внукам.
В семье марксиста–ленинца Фёдора Фёдоровича Даниленко после его смерти от кулацкой пули осталось семеро детей: Варвара, Евдокия, Лукерья, Марина, Марфа, Фёкла, Иван. Прокормить эту ораву было в те голодные годы для моей бабушки Юлии Петровны истинным горем. Ездила по деревням, просила милостыню. Однажды, в зимнюю буранную ночь на неё напали волки. Юлия Петровна поджигала пучки соломы и бросала с саней. Лошадь вскачь унесла её от острых волчьих зубов.
Старшие сёстры Фенечки – моей будущей матери, при лучине пряли пряжу для местного кулака. От нитки на их девичьих пальцах, натёртых до крови, подолгу не заживали мозоли.
Кулак пришёл, рассчитался с девчонками требухой от дохлой коровы. Его жена, сварливая и жадная кулацкая морда, принесла в кармане фуфайки горсть овса, сунула семилетней Фенечке.
– На табе бубы, – угощая девчушку овсом, сказала эта кулацкая сволочь. А было у них дома всего в достатке: масло, конфеты, сахар, пряники. И ситца цветастого тугие рулоны. Ещё много другого по тем временам богатства. Что же, не могло кулачьё принести ребёнку пряник, подарить девчонкам за их изнурительный труд по платочку или по отрезу ситца на сарафаны? Не говоря уже о плате за выполненную работу.
Нет, не могло кулачьё расщедриться на пряник, на платочки. Жадностью, скупостью, алчностью подавились.
Да, так было…
В каждой деревне один–два кулака, как клопы, кровью односельчан питались. В наши дни этих сволочей продажная пресса праведными тружениками выставляет. Этакими добропорядочными, трудолюбивыми фермерами.
А я верю лишь матери. Она не обманет, не приврёт. Скажет, как было. И не надо путать крестьян–тружеников: землепашцев, хлеборобов, скотоводов, огородников с кулаками–кровопийцами, эксплуататорами за дешёвую цену чужого труда. С такими, как те, в Казанке, угощавшими ребёнка не шелушенным овсом.
Умерли они давно. И следа от них на земле не осталось. И всё их накопленное в сундуках барахло плесенью взялось, сгнило, стлело, сопрело. Для чего жили? Для чего изнуряли батраков непосильной работой, рассчитываясь с ними луковицей, краюхой чёрствого хлеба, кружкой кислого кваса? Для чего скупердяйничали?
Задумайтесь над этими вопросами наглые, пресыщенные изобилием хамы, жрущие в три пуза, в то время, как большинство народа испытывает нужду, когда бедствуют дети и старики–пенсионеры. Задумайтесь те, кто, владея магазином, рестораном, швейным ателье, огромной фирмой, большим промышленным предприятием или многими заводами сразу, зажимают зарплату рабочим, выплачивая им крохи от своих бешеных прибылей. Задумайтесь и те, кто продолжает жить для того чтобы жрать, спать, справлять нужду и хапать. Час расплаты и ответа перед Богом за свои неблаговидные деяния недалёк. Окочуритесь – а это обязательно случится, и про вас злорадно скажут:
– Всё хапал, хапал, а сейчас ему ничего не надо.
Такими эпитафиями провожают простые люди каждого богача в последний путь. Никто не сочувствует ни ему, ни его близким.
Столь же сочными, красочными выражениями – не вслух, про себя – «обласкивают» богачей, вольяжно восседающих в креслах казино, за пышным столом ресторана, в роскошной каюте яхты или в салоне супер–автомобиля.
Не обольщайтесь, господа. Никто не уважает вас. Сказать, что народ не любит вас – всё равно, что ничего не сказать. Народ презирает вас и ненавидит. Все знают, что вы жулики, бандиты, мошенники, взяточники, воры, убийцы, грабители, вымогатели, шантажисты, насильники, лжецы, рвачи, хапуги. В спину вам летят проклятия и «пожелания»: