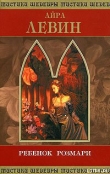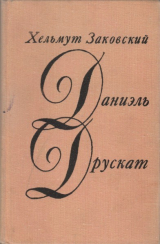
Текст книги "Даниэль Друскат"
Автор книги: Гельмут Заковский
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
– Откуда я знаю, – с легким нетерпением отозвался Макс и подумал: «Какое мне дело до всяких там древних славян и германцев, эти земли, вне всякого сомнения, принадлежат моему кооперативу, прошлый год у нас польский генерал с дружеским визитом побывал, сам я, к сожалению, болел, а сейчас нас, небось, Хильдхен поджидает, нынче утром она была чертовски не в духе, я поехал за Гомоллой и хочу знать: что произошло с Даниэлем? Чего это старик надумал тыкать мне тростью в грудь? И в довершение всего еще речи произносит о философии истории. Следовало бы поставить его на место...» Так думал Макс, сказал же он совсем другое, незлобливо и преданно взглянув на Гомоллу:
– Ты говорил о сарацинах.
Тому и в голову не пришло, что сорокалетний «юнец» вздумал насмехаться над ним.
– Верно, – отозвался он. – Я хотел сказать, что они быстро подыскали название для истребления народов. Прежде именовали христианизацией, потом спасением европейского Запада или защитой от большевизма, но, как ни назови, на деле все эти кровавые набеги совершались ради богатств, которые отнимали у побежденных, ради чужой земли и чужих сокровищ, а заговорил я об этом просто из-за великого множества мертвецов в этом холме и еще потому, что, как ни странно, одни лежат там уж две тысячи лет, а другие – два с половиной десятилетия, и потому, что все это время – с тех пор и до наших дней – продолжалась на этой земле резня.
Голубая бусина в пепле, мы нашли ее, крошечную блестящую штучку, для меня это словно предзнаменование надежды. Что останется от нас?
Двадцать пять лет, ничтожный промежуток времени, и вот тут-то понимаешь, сколь грандиозно то, что мы задумали в этой стране. Уже двадцать пять лет у нас мир, это наша заслуга, наша, а не тех, с той стороны, с их «поп» и «бит» и прочей мишурой.
Неужели не стоит заткнуть рот людишкам, которые без конца ноют, потому что кое-что нам пока не слишком удается? Чего молчишь?
– А? – Макс обернулся, и кончик палки Гомоллы опять уткнулся ему в грудь. На сей раз Штефан прикинулся запуганным и поднял руки, словно сдаваясь. – Все это весьма интересно. Нет, честно, Густав, мне остается только сказать: так оно и есть, товарищ Гомолла!
Гомолла убрал трость, и Штефан с нагловатой ухмылкой опустил руки.
– Если бы у нас, – сказал Гомолла, – было поменьше г... вроде тебя, которые гонятся лишь за собственной выгодой, у нас и трудностей было бы меньше. Тоже мне герой, настырный, прямо германский вождь. Между прочим, ты на него и внешне смахиваешь, и у тебя есть название для своей узколобой сельской политики... Как это ты говоришь – удовольствие от социализма?
– Вот именно, – обиделся Макс Штефан, – социализм должен доставлять удовольствие, и, по-моему, давно минуло время, когда в ответ на любое упоминание о недостатках заявляли, что-де со времен древних германцев общество неслыханно шагнуло вперед. – И как порой бывало, Штефан не сдержался и брякнул: – Ты доволен, ежели выпускается вдоволь красного материала на флаги, а я тебе говорю, люди стосковались, например, по голубым бусам, по тем махоньким блестящим штучкам, о которых ты упорно толкуешь, хорошеньких голубых бус у нас пока маловато, если ты в состоянии уразуметь, что́ я имею в виду.
Гомолла тоже был чуточку склонен к актерству и в этом отношении походил на Штефана. Он посмотрел на небо и вздохнул:
– Ну и поколение мы вырастили! Век себе не прощу, что принял тебя в партию.
– Дело прошлое, – раздраженно воскликнул Макс. – А теперь давай-ка поговорим серьезно. Я тебя сюда привел, потому что хотел узнать, что с Даниэлем. И я не понимаю, почему ты собираешься меня судить?! Речь не обо мне!
Гомолла неторопливо опустился на землю возле липы и насмешливо посмотрел снизу вверх на Штефана.
– Вон оно что! К тебе, значит, все это не имеет ни малейшего отношения?
Гомолле вспомнился шестидесятый год. Той весной он вызвал Даниэля в Веран, в райком, ибо в деревне Хорбек разразился самый настоящий скандал, и, как вскоре выяснилось, этот краснобай Макс Штефан очень даже имел к нему отношение.
Ничего себе комнатенка, кабинет Гомоллы, – обои в полоску, настоящий полированный гарнитур-гостиная: письменный стол, журнальный столик, мягкая мебель. Признаться, нынче первые секретари устраиваются шикарнее, ведь оформлением занимаются художники по интерьеру: определяют цвет драпировок, стен – все на уровне мировых стандартов. В те времена еще не додумались до латексных красок, всяких там поливинилхлоридов и поролонов, и обитель у первого секретаря райкома была постаромоднее и поуютнее – так Гомолла считал сейчас, – а руководил он в свое время как будто построже, наверняка строже.
Как бы то ни было, Друскат приглашен на беседу, а точнее – Друската следовало пропесочить, это было необходимо, черт побери, повсюду весна социалистической кооперации, и лозунг, хотя и не совсем соответствуя времени года, гласил: «Яблоко созрело!» И надо же, Хорбек, как назло, та самая дыра, где партию представлял Друскат, оказался тогда ядром сопротивления. Что ж, ударь-ка по-рабочему!
Гомолла вспомнил, как Даниэль стоял тогда перед ним. Он внимательно рассматривал парня. Ну и вид – худющий, все еще настоящим мужиком не стал, а ведь малому уже тридцать или даже больше, под глазами синяки, словно он из тех, кто многовато резвится в постели... только там, небось, не очень-то много веселья... жена хворает... другую, поди, завел... это уже нарушение норм морали, не было печали... что ж его еще гложет, ведь явно не перерабатывает, кооператив-то не из лучших. Хорош руководитель: костюм висит прямо как на вешалке, волосы всклокочены...
«Здравствуй, Густав!» – сказал Даниэль.
Никакого Густава, нынче не приятельские посиделки, никаких фамильярностей, мой милый, положение серьезное.
«Здравствуй, товарищ Друскат», – ледяным тоном отрубил Гомолла. Ничего, пусть знает, что его ждет.
Луиза тоже должна бы соображать. Эта добрая душа, старенькая секретарша Гомоллы, стояла за спиной у Друската. Родом она была из Галле, в партии давно, и к тому же волшебница от пишмашинки. Гомолла считал бы ее идеальной сотрудницей, но не мог, ибо при всех достоинствах Луиза, к сожалению, обладала еще и качествами, которые он не одобрял. Например, она решительно вмешивалась в дела, не входящие в ее компетенцию, и, кроме того, совершенно беззастенчиво критиковала его. Гомолла отнюдь не противник критики, но как прикажете понимать, если он, только-только закончив речь, спускается под бурные аплодисменты с трибуны, а Луиза говорит: «Ты, товарищ, бывало, и лучше выступал!» И это только один пример!
Теперь она стояла у двери, а должна была бы давным-давно закрыть ее за собой. Яростно сверкнув глазами, Гомолла недвусмысленно кивнул ей, она же проигнорировала его знаки, щечки-яблочки округлились в улыбке, и Луиза сказала уютным говорком уроженки Средней Германии:
«Сварю-ка я вам кофейку покрепче!»
«Не нужно!» – с нажимом произнес Гомолла. Это был приказ, а Луиза возразила:
«Но ведь товарищ Друскат с дороги, он наверняка не откажется».
«Да я не знаю». – Друскат нерешительно поглядел на Гомоллу.
«Чашечку или кофейничек?» – любезно осведомилась Луиза.
Даниэль протестующе поднял руку.
«Не беспокойтесь из-за меня».
«Ах, чего там», – приветливо улыбнулась Луиза и ушла, бросив на Гомоллу через плечо взгляд, который, по всей вероятности, означал: нельзя так, товарищ!
Неизвестно, что она там думала, но своей болтовней насчет кофе – чашечку? кофейничек? – она уже испортила Гомолле первый ход задуманного дебюта против товарища Друската.
Гомолла в тот день кипел праведным гневом, он даже стул Друскату не собирался предлагать, но после Луизиного приступа радушия заставил себя сделать вежливый жест и показал на кресло:
«Садись».
Зато сам он выпрямился во весь рост и, возвышаясь над письменным столом, заговорил, может статься, от раздражения даже с некоторой издевкой:
«Почему нужно полностью кооперировать деревни, я всем недавно объяснял, но ты, стало быть, не уразумел. И это меня бесит. Но ты мне все еще симпатичен, вот мы сейчас и устроим закрытый семинар!»
И вслед за тем он еще раз ткнул Даниэлю в нос убедительные аргументы: промышленность, крупные социалистические предприятия, развивается планомерно, а в сельском хозяйстве застой – почему? Потому что достигнут предел того, что может дать традиционная система хозяйствования, это вроде как в свое время с парусными кораблями, верно? Пришлось перейти на паровую тягу. Кто же мешает обществу переключиться? Крестьяне-единоличники, тридцать процентов, и, к превеликому сожалению, это самые преуспевающие хозяева, они поплевывают на кооперативы и блокируют общественный прогресс...
«Странно, странно, – пронеслось у него в голове, – теперь, одиннадцать лет спустя, то же происходит с богатейшими кооперативами».
...Сильный народный сектор в промышленности, сильный частный сектор в сельском хозяйстве – отсюда диспропорции, противоречия. Надо что-то делать, но как? С революционным подъемом, конечно, вот почему на повестке дня сплошная кооперация.
Так вещал Гомолла, как ему казалось, доступно, назидательным тоном и даже с некоторой долей сарказма. Он видел, что Друскат все больше мрачнеет. После заключительных слов Гомоллы – «Ну, теперь-то дошло?» – парень вскочил, сверкая глазами. «Похоже, топор ищет, чтобы раскроить мне череп», – подумал Гомолла.
«Все это я знаю, можешь не убеждать убежденного!» – взорвался Друскат.
«Ага! Значит, ты не такой дурак, ты просто слишком труслив, чтобы победить Хорбек!» – в свою очередь взревел Гомолла.
В этот-то момент в кабинет вошла с подносом чертова добрячка Луиза. Она расставила на столике чашки и сказала:
«Ну, садитесь. Густав, ты, конечно, тоже выпьешь чашечку».
Правда, на сей раз она исчезла, прежде чем Густав рявкнул «Вон!».
Они сели за столик. Даниэль – пожав плечами. Гомолла – едва в состоянии выдержать, когда взрослый человек упрямится, как мальчишка, – он постанывал, ему не хватало воздуха, спор с Даниэлем выбивал его из колеи. Он хмуро прихлебывал Луизино варево, оно казалось ему чересчур горячим и горьким, тем не менее он приказал Даниэлю:
«Пей!»
Парень не пил, сидел и молчал, глядя прямо перед собой.
«Ох, уж эти мне молодые коммунисты, – думал Гомолла, – чуть пожуришь, и сразу обиды».
Он, Гомолла, давно заставил себя забыть о щепетильности, в годы нацизма пришлось и унижения терпеть, иначе бы не выжил. А нынче? Несмотря на все заслуги, окружное партийное руководство частенько критиковало его, причем он не мог позволить себе корчить кислую мину, как этот Даниэль. Гомолла знал, что у него случались ошибки, и научился отвечать за них. Непросто руководить районом со сложной структурой, в государственном аппарате кое-кому недоставало мужества принимать решения самостоятельно, со всякой ерундой шли к Гомолле. Ну ладно, это его профессия, но, черт побери, порой человека можно доконать вопросами, кое в чем можно бы положиться и на специалистов, возьмем хотя бы хозрасчет и прочие тайные премудрости, а Гомолла больше любил масштаб, размах. Теперь партия решила: деревни нужно полностью кооперировать! Такое задание ему по душе, ведь это революция.
Конечно, крестьян нужно убеждать, и убеждать терпеливо, очень терпеливо, однако нельзя слишком испытывать терпение. Речь идет о власти? Что ж, в крайнем случае позволительно немного посодействовать добровольному решению. И Гомолла не назвал бы это нажимом, нет, меньшинство обязано подчиниться большинству, и нарушений демократии тут нет... Между прочим, как в героическом восемнадцатом году красный солдат разъяснял основной вопрос нытику-интеллигенту, смотри у Джона Рида: «Братишка... Есть два класса, и кто не за один класс, тот, значит, за другой...»[16]16
Джон Рид. Десять дней, которые потрясли мир. М., Госполитиздат, 1958, с. 160.
[Закрыть]
И кто пасует в классовых схватках, как этот Даниэль, обязан терпеть критику, но парень чересчур впечатлителен, значит, к нему нужен другой подход.
Гомолла встал и подошел к карте района, она закрывала целую стену комнаты по ту сторону письменного стола.
«Взгляни сюда, – сказал он, – вот какая ситуация. Почти все деревни полностью кооперированы; тут и там еще агитируют, еще сидит эдакий, запершись в усадьбе, и противится прогрессу, но все это мелочи. А вот тут – да, смотри внимательно, – Хорбек, твоя деревня, самый настоящий очаг противодействия. И я хочу знать, почему это так!»
Пусть он мне не рассказывает, что положение в Хорбеке серьезное, я и сам знаю, кооператив воюет с трудностями, ему достались разоренные усадьбы: прежде чем удрать на Запад, владельцы их попросту разграбили, и каждый заброшенный участок пашни тоже навязали кооперативу... работа тяжелая, заработки маленькие – все это я знаю, но загвоздка не в этом. В Хорбеке – я с ним, правда, давненько расстался, – очевидно, подобралась группка реакционной сволочи. Мне нужны имена, имена и номера домов – вот тогда я и вмешаюсь по-рабочему.
«Ну, парень, выкладывай».
«Лучший хозяин в Хорбеке, – сказал Даниэль, – Макс Штефан: у него и знаменитое племенное стадо, и куча дипломов – словом, хозяин он образцовый, и авторитет у него есть. Если он подпишет, другие тоже вступят».
«Что ж, значит, по нему и надо бить!» – воскликнул Гомолла и вспомнил задачку про звено цепи; чтобы порвать хорбекскую цепь, придется ударить по самому прочному месту.
Гомолла посмотрел на Даниэля, тридцать лет парню, а глаза по-прежнему печальные, как тогда, пятнадцать лет назад, когда он нашел мальчишку в лесу, надо же, сколько лет прошло.
«У меня был единственный друг – Макс Штефан, – сказал Даниэль. – Мы вместе были молоды, все делили поровну, кроме девушки, ты знаешь...»
«Ну и что?...Что?» – Гомолла мало-помалу терял терпение.
«Мне трудно применить к Штефану насилие, понимаешь? – ответил Даниэль. – Заставить полицию привести его в сельский комитет... я не смогу».
«Прямо сердце кровью обливается... вот это конфликт», – заметил Гомолла.
«Да, – сказал Даниэль, – конфликт. И тебе его не разрешить, хоть в порошок меня сотри. И вообще, методы у тебя!»
Ишь, осмелел малыш-то – критикует, возмущается.
«Я слыхал, что ты выкинул... «Крестьянин Шмидт, вот два стула, один – это война, другой – мир, пожалуйста, выбирайте!» Эти методы не по мне, я так не стану. Прошу тебя, подожди еще пару дней, и я уговорю Макса Штефана перейти на нашу сторону. Или отзывай меня из Хорбека».
«Нет, – сказал Гомолла. – Ты должен сражаться в Хорбеке, от этого тебя никто не избавит, а методы борьбы назначаю я».
Ему пришлось взять себя в руки, иначе он бы опять вспылил. К тому же он был убежден, что за товарища Друската пора взяться как следует. Кстати, уже тогда ему приходило в голову, что за всем этим кроется нечто большее, чем старая дружба, может, кто-то у кого-то в руках, ему опыт подсказывает и вообще: как же так – старая дружба не позволяет действовать решительно. Гомолле пришлось и этому научиться, он умел принимать подобные ситуации, глазом не моргнув и особенно не переживая. Ему доводилось отрекаться от людей, предавших свой класс, даже от некоторых – совсем немногих – товарищей по концлагерю, – а что это такое, мой милый, в сравнении с дружбой юности? Они переметнулись на другую сторону... я вас больше знать не знаю и вспоминать не хочу, теперь вы мои противники, наши враги. Слишком многие, тысячи, заплатили жизнью за верность классу, а я должен неделями биться за душу середняка? Я должен тебя понять, Даниэль?
Гомолла читал письма, написанные товарищами накануне казни. Один писал: «Не забывайте нас. Когда выйдете на волю, помните – за любую слабость придется опять платить своей кровью».
Нет, Гомолла не забудет никого из них – никого из повешенных, обезглавленных, пропавших без вести, куда-то сгинувших – никого! Он не позволит слабости ни себе, ни Друскату!
«За мной все-таки опыт, – сказал Гомолла. – Там, где революционное развитие замедляется, как в Хорбеке, чаще всего дело дрянь, подчас ниточки тянутся в прошлое.
Одному тебе не справиться. Я помогу. Приеду в Хорбек и при всех вложу кое-кому из мерзавцев по первое число. А ты, как прежде, будешь моим адъютантом. К сожалению, сегодня мне на доклад, в Хорбеке буду завтра к обеду, не раньше. Но не говори потом, что я не дал тебе шанса. У тебя еще двадцать четыре часа, чтоб убедить крестьян собственными методами!
Завтра в полдень, ровно в двенадцать, доложишь, что Хорбек сплошь кооперирован! Если до того времени не справишься, я возьмусь за дело лично».
Да, так и было, Даниэль не сумел одержать победу над Хорбеком, и сегодня Гомолла догадывается почему: две скалы внизу, два скелета, в обойме нет двух пуль – кто-то держал Друската в руках, может сам Штефан... знать, мол, ничего не знает, а ведь тогда был главарем оппозиции. Будто целая вечность прошла, уже много лет этот человек председатель самого передового кооператива в округе, популярная личность, правда, нынче его слава несколько померкла, Друскат задал ему перцу. А теперь Даниэль выбыл из игры, и толстяк сможет показать, кто тут настоящий хозяин.
Отдавая дань уважения любому успеху, Гомолла все же недолюбливает этого малого, тоже силач нашелся, газетные писаки без стеснения именуют его «рубакой, бойцом за социализм» потому только, что его кооператив производит много молока и яиц. Но какими методами он этого добивается!
Тогда, в Веранском райкоме, речь тоже шла о Штефане. Гомолла дал Друскату шанс, а на деле предъявил ультиматум. Что ж, это уже тонкости политики.
На прощание он пожал Друскату руку и сказал:
«Катись домой и как следует воюй завтра до обеда. Кстати, во дворе ждет агитмашина, ты ее прямо сейчас забирай, там есть пластинки с вальсами – помогут поднять настроение».
А потом – Даниэль уже стоял в дверях – Гомолла вдруг позабыл о тонкостях политики; заметив это, он ужасно разозлился, но слово сказано: то ли он понял, что был слишком груб, то ли хотел, чтобы Даниэль ему посочувствовал, – как бы там ни было, он услыхал собственный голос:
«Ты же знаешь, я старейший секретарь райкома в округе. Неужели тебе непонятно, что мне хочется первым доложить: мои деревни полностью кооперированы?»
Он увидел, как Даниэль кивнул, почти незаметно, словно желая сказать: вот оно что!
5. Гомолла и Штефан сидели под сенью липы. Изумительный вид – поля, дальние деревни, дорога, петляя, спускается в ложбину – прямо к Хорбеку.
– Самое позднее в шестидесятом году, – сказал Гомолла, – мне бы надо было сообразить, что с Друскатом не все в порядке. Ведь наконец одолел и тебя, и всю деревню, победил тебя и вдруг решил уйти из Хорбека – любой ценой. Странно, правда?
Штефан взглянул на часы.
– Слушай, по-моему, пора идти. Хильдхен заждалась.
– Не любишь вспоминать шестидесятый год?
– Бурное время.
– Пожалуй. Ты до последнего упирался вступить в кооператив, а когда наконец сделал это – почти силком, – сразу в председатели. Странно это, ты не находишь?
– Даниэль предложил.
– А ты и рад!
– Видишь ли, – вскользь заметил Штефан и пальцем сдвинул шляпу на затылок, – я вообще-то всегда старался жить по собственным принципам.
– Социализм должен доставлять удовольствие. – Гомолла насмешливо посмотрел на Штефана.
– Да, – сказал Макс, – но в то время у меня был другой девиз: бессмысленно плыть против течения. Только я не люблю, когда меня уносит большой поток, у меня самое главное – охота, ты же знаешь, я вообще могу делать лишь то, что доставляет мне удовольствие. Вот я и сказал себе: надо занять руководящее положение, пара сильных рывков – и я впереди.
Он засмеялся. Гомолла тоже засмеялся, вокруг глаз разбежались лучики морщин.
– А может, расскажешь, как было на самом деле? Ты и вправду ничего не знал о трупах у валуна и не воспользовался этим... тогда?
Штефан медленно покачал головой, потом задумчиво провел ногтем большого пальца по верхней губе.
Гомолла прав, вспоминать он не любил.
Каждый человек знает, что такое стыд. Порой ужас от содеянного приходит не сразу, не сразу понимаешь, что оставил человека в беде или предал, что совершил подлость... именно ты, ты сам был таким, и не всегда ты был, как сейчас... только не думать об этом.
Человек подавляет неприятное воспоминание, в конце концов начисто забывает – так порой при всем желании не можешь вспомнить сон, он словно вычеркивается, вымарывается из памяти, но странно, человеческий мозг работает, точно компьютер: копит-копит и вдруг, как по вызову, все, что хотелось забыть, воскресает.
Гомолла спросил насчет весны шестидесятого года, Гомолла вызвал, и Штефану волей-неволей пришлось вспомнить.
Встретились они у липы – Макс и Даниэль. Молодыми парнями они частенько приходили сюда, сидели под деревом – вот как сейчас они с Гомоллой, – правда, разговаривали о других вещах: о девушках и как все устроить наилучшим образом... боже мой... они мечтали, как переделать мир.
Здесь, возле Судной липы, они встречались и потом, когда втихую сбывали альтенштайнцам самогонку, в бурные годы после сорок пятого, ни одной свадьбы без свекловичного шнапса – эх, вот было время.
Но времена меняются, люди тоже, ничто не вечно, и дружба тоже. Один туда, другой сюда, вот и живут в одной деревне, а друг друга избегают. И Даниэль ушел с его пути.
Потом, спустя годы, той весной, они еще раз встретились у Судной липы. Старая дружба, правда, не ожила, наоборот, расстались они как заклятые враги.
День клонился к вечеру, Макс гордо скакал верхом на лошади. В ту пору он был моложе, всего тридцать лет, ему было в высшей степени наплевать, что вся деревня шушукалась: кто сидит в седле эдак, как он, у того-де помещичьи замашки. Вздор, он в свое удовольствие скакал по стерне, дерзко – гей! – перемахивал через заборы и плетни, а теперь немножко шенкелей: быстрей к холму – и вскоре конь взлетел на пригорок.
Подъехав ближе, Макс разглядел прислоненный к стволу мотоцикл. Ну и драндулет, впору в металлолом сдавать, оно и неудивительно – кооперативный!
Затем он увидел, как из травы поднялся Даниэль, как он в ожидании стоял под липой, черная грива растрепана ветром, ишь, безразличным прикидывается, а сам небось кулаки в карманах сжимает. Ну-ка, покажи кулак-то!
Он подскакал вплотную к Даниэлю, осадил горячего коня, ласково погладил животное – успокойся, успокойся! – немножко покрасовался, секунду потешил себя, взирая на Даниэля сверху вниз. Тот поднял к нему лицо, лоб в морщинах, веки прищурены: не то солнце слепит, не то от неудовольствия сморщился, а хоть бы и так?
Макс пружинисто соскочил с коня. Рукопожатие. Он умел проявить великодушие – со всего размаха шлепнул лапищу в ладонь Друската, сильное пожатие, как в годы дружбы, как меж людьми, которые друг друга ценят и с радостью здороваются, встречаясь после долгой разлуки.
Макс чуть склонил голову к плечу, заглядывая Даниэлю в лицо, с улыбкой, разумеется, но подняв брови... боже сохрани, никакой иронии! Ситуация и без того более чем щекотливая: руководитель сельской бедноты вызвал богатейшего хозяина, причем не к затянутому кумачом столу в ревтрибунал, а к липе – на памятное место... некогда мы были заодно, но еще из-за Хильды первый раз сцепились, мужская дружба крепка до поры до времени, пока бабы не вмешаются... лишь одному из нас было дано одержать верх.
Шлепок по крупу коня: проваливай!
«Ну, – начал Макс. – В чем дело?»
Помахивая хлыстом, он лениво направился к валунам, к которым тянутся узловатые корни липы; второй пошел следом. Небось, руки чешутся засветить мне разок по черепку, дай-ка я лучше обернусь – взгляд через плечо, – ну и глаза у мужика, как у фанатика. Макс был убежден, что именно так смотрел тот монах, Савонарола, которого сожгли.
Они уселись на камни, друг против друга. Даниэль явно затруднялся начать разговор, он искал сигареты, безуспешно ощупывая карманы. Макс протянул ему пачку.
«Не знаю, куришь ты такие или нет, они ведь оттуда, от твоего классового врага. У нас на Западе старушка тетя живет».
Оба закурили.
Макс нагло уставился на Даниэля, тот проводил взглядом дымок сигареты, потом наконец сказал:
«Когда-то мы дружили...»
Макс счел, что лучший способ защиты – нападение, и перебил его на первой же фразе:
«Я с тобой не порывал. Это ты чураешься моего дома. Может, так и надо. Мне рассказывали, как один из Верана, молодой здоровый парень, заработал неприятности по партийной линии, закрутив с дочкой пекаря. – Штефан поднял руку и погрозил пальцем: – Никаких отношений, разве что с товарищами по классу, сам понимаешь».
Даниэль потер лоб:
«Ты знаешь, как я попал в деревню, и как я здесь жил, и как много значила для меня дружба с тобой. Но что ни говори, мы разные люди, ты прешь напролом, лишь бы тебе было выгодно...»
«Продолжай, продолжай», – заметил Макс.
«Ты, видно, никак понять не можешь, что до сих пор я сдерживался ради нашей дружбы».
Макс невольно рассмеялся:
«Жмешь на меня».
«Пока нет, – сказал Даниэль. – Но все может, конечно, и измениться».
«Ну-ну, – вставил Макс, – все, значит, еще впереди!»
«Я всегда надеялся, – продолжал Даниэль, – ты поймешь, что́ сейчас поставлено на карту, в любой газете можно прочесть, по радио услышать, если поймать соответствующую станцию, я много раз всем объяснял».
Он действительно не раз говорил об этом на крестьянских собраниях. Ах, вот было время! Вся деревня приходила, зал в замке битком, ведь толковали о вещах, которые касались каждого, речь шла о хозяйствах, о наследственной или недавно приобретенной собственности, о многовековой традиции, которую со дня на день грозились ликвидировать в пользу кооперативов.
Макс помнил, как Даниэль стоял за покрытым красной скатертью столом, слегка наклоняясь вперед и опираясь ладонями на стол, словно ощупывая его. Говорил он с трудом, приходилось обдумывать каждую фразу, впрочем, получалось у него неплохо. Он не был блестящим оратором, да, верно, никогда им не станет – то ли дело Макс, он способен произнести зажигательную речь. Даниэль говорил бесстрастно и вместе с тем убедительно, выкладывая один за другим аргументы: почему устарело мелкое производство, так называемое лоскутное единоличное хозяйство, почему будущее за крупными предприятиями и так далее... Так вот, он с трудом говорил, а в задних рядах кто-то вполголоса болтал, как бы вторил с издевкой, резко выделяясь на фоне первого голоса, то и дело вставлял: слушайте, слушайте!.. так-так... вот те на... да, но... надо же... и все ради...
Даниэль по-прежнему стоял, опершись на стол, склонившись вперед, взгляд исподлобья ищуще скользил по толпе. Конечно, парню нужно было продолжать агитировать дальше, он не позволял сбить себя с толку, на его лице ясно читалось напряжение, лоб покрылся испариной, но он говорил, а этот кто-то, значит, бубнил и бубнил: слушайте... да нет же... И все это, когда речь идет о социализме, о светлом будущем, о раскрепощении женщины. Как и следовало ожидать, бабенки зашушукались, и скоро весь зал приглушенно хихикал.
Тут наконец на шее у Даниэля от ярости вздулись жилы, он треснул кулаком по столу и рявкнул:
«Кто?»
В зале напряженная тишина.
И снова:
«Кто?»
И кто же нехотя поднялся, медленно-медленно, выпрямился, встал – гляньте, ну и здоров мужик, прямо башня, – он, Макс Штефан.
Стоял и корчил из себя невинного младенца, потом вытаращил глаза и сказал:
«Я».
Люди сперва затаили дыхание, а потом разом вздохнули. Наверно, вот так же бывало в средневековье, когда толпа теснилась вокруг эшафота и небось так же вздыхала, стоило палачу занести топор.
Глядите! Сейчас, сейчас они друг дружку в пух и прах разнесут!
Всем было видно, как Даниэль распрямил спину – тоже мужик хоть куда, – вот он набрал воздуху, глубже, глубже, и пристально посмотрел в невинную физиономию. Как долго он смотрел? Да уж не меньше минуты.
Тем все и кончилось.
Даниэль с шумом выдохнул.
«Но ведь это нехорошо», – сказал он, сунул руку за ворот сорочки, несколько раз дернул шеей и, как ни в чем не бывало, продолжал свою речь.
Делать нечего – Макс сел. Весь спектакль насмарку. Да... Даниэль-то не рискнул сцепиться с ним при всем честном народе.
Он под большим секретом вызвал Макса на памятное место, к старой липе, листва которой когда-то осеняла друзей.
«Извини, – сказал Макс Даниэлю, – что ты сейчас сказал? Я не расслышал».
«Ты довольно сильный человек, – сказал Даниэль, – но ты себя переоцениваешь, ты не остановишь неизбежное развитие».
«А во главе этого неизбежного развития в Хорбеке стоишь ты?» – спросил Макс.
«Да».
«Видишь ли, – сказал Макс, – потому-то мне ужасно трудно считать сие развитие хорошим».
Даниэль слегка улыбнулся.
«Шутишь, как всегда. Но сейчас не до шуток, Макс. Ты должен подписать».
«И не подумаю!»
Даниэль поднялся, бросил сигарету на землю и тщательно затоптал ее.
«До сегодняшнего дня я надеялся избежать крайних мер. Мне хотелось и Хильду от этого избавить. Однако ты не желаешь по-хорошему. Придется и мне отбросить щепетильность, в других деревнях с такими, как ты, не церемонятся.
К твоему дому подкатит автомобиль с громкоговорителем – загораживай ворота, закрывай ставни, заткни себе уши – все равно услышишь то, что я велю играть: веселенькие мелодии, марши, на потеху деревне. Дети сбегутся, любопытные, а репродуктор будет каждые десять минут орать: «Говорит сельский революционный комитет. Крестьянин Макс Штефан, час решения настал!»
Таким вот шутовским способом я подготовлю крепость к штурму. Ты достаточно повеселился за мой счет. Теперь и я могу выставить тебя на посмешище. Ты меня к этому вынуждаешь».
Даниэль выложил все это небрежным тоном и, как показалось Максу, с хамской улыбкой. Тот успел еще подумать: «Значит, он и в цинизме толк знает, собака», а потом глотнул, холодная ярость перехватила горло, потому что Даниэль загремел:
«Но потом забаве конец, и, если надо, я прикажу полиции вытащить тебя из твоей берлоги и поставить перед моим столом!»
Удар хлыста со свистом рассек воздух. Макс с превеликим удовольствием угостил бы Даниэля по физиономии, но усилием воли сдержался.
«Угроза, – сказал он, – нравится мне куда больше всей трепотни насчет дружбы и добровольности. А теперь выслушай-ка и ты от меня парочку истин. Мы ровесники, шансы у нас были одинаковые. Я выбрал один путь, ты другой, более легкий, по-моему: под крылышком у Гомоллы, партия, партшкола, так нетрудно сделать карьеру, но во что ты превратился! Главарь стада неумех, лодырей, а то и пьяниц. Разве не правда, что тебе на днях опять пришлось выгнать одного из дояров, что у вас скот падает? Стадо баранов твой кооператив, и название как насмешка – «Светлое будущее».
Я надрывался как вол и кое-что нажил – хозяйство, сто моргенов, я его поднял и до мелочей механизировал. Может, звучит хвастливо, но так оно и есть, в тридцать лет я почти всего добился, чего хотел. И все зря?!