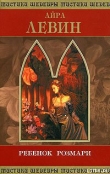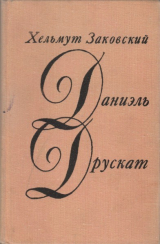
Текст книги "Даниэль Друскат"
Автор книги: Гельмут Заковский
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Затем завтрак с Розмари.
«Ты расстроена, милая?..»
«Просто немножко устала».
«Я думаю».
Я был голоден как волк, ел с удовольствием, жевал, улыбаясь, поглядывая на любимую и был абсолютно счастлив – такая редкость в моей жизни.
Мы успели на один из последних автобусов, что направлялись на территорию ярмарки. Даже выкроили минутку, чтобы подымить: курили у входа, поболтали кое с кем о пустяках: что поделываешь? как дела? И те, кто знал меня поближе, смотрели удивленно, как на чужого, – в то утро я мог радоваться, шутить и смеяться, хлопать мужчин по плечу, говорить женщинам приятные вещи. Я был влюблен.
Потом я опять сидел на своем месте среди тысяч других, видел далеко впереди Розмари; она склонилась щекой на руку, как всегда, когда внимательно слушала, наконец повернула голову, посмотрела на меня и улыбнулась. Не помню, кто в эту минуту стоял на трибуне, о чем он говорил. «Розмари, ты не спросила об этом, когда мы были вместе, – думал я. – Но теперь я понял, как мне тебя не хватало, понял после одной-единственной ночи любви».
Сегодня я чувствую в себе силу и уверенность. Мы сидим среди множества других, в одном зале с представителями правительства. Я сижу здесь, и, по-моему, это справедливо: ведь я мужчина, который тебе нравится, мужчина, который кое-что может, руководитель. Кстати, с дипломом, на заочном корпел, похвастаться даже не удалось, времени было маловато, ночь так коротка. Ты не спросила, никто и никогда больше не спросит меня о той давней истории, боже мой, ведь она случилась с совсем другим человеком в совсем другой жизни.
Перед расставанием мы долго держались за руки – разлука не навечно, но прощание всегда горько. Мы снова любили друг друга, но знали, что видеться будем редко.
Иногда я писал ей, примерно так:
«Любимая!
В кооперативе, как обычно, полно работы. Готовы планы мелиорации Волчьей топи, но власти сомневаются. Будем строить опытный польдер своими силами, на собственный страх и риск. За мной крестьяне. Аня на той неделе едет с классом на экскурсию в Росток. Значит, в субботу, такого-то числа, я мог бы приехать на день в Берлин. Придумай что-нибудь, выпроводи свою милую соседку.
Радуется, считает дни, любит тебя
твой Даниэль».
Порой писала она, что-нибудь в таком роде:
«Дорогой мой Даниэль!
Диссертация у нас наконец готова, слава богу, осенью защита. Надеюсь, ты сможешь освободиться на денек, чтобы поддержать меня в тяжелую годину. А теперь мне надо хоть на один день удрать отсюда. Соскучилась по тебе. Ужасно хочется снова погладить твой непокорный чуб. Как насчет субботы, такого-то числа? Напиши, не откладывая, можешь ли ты найти для нас пристанище, и если да, то где.
Нежно, нежно целую
твоя Розмари.
P. S. Забыла самое важное: представляешь, мне удалось устроиться поближе к тебе – заключила трудовое соглашение с Бебеловом. Меньше тридцати километров от тебя! Просто не верится...»
3. Боже мой, о чем я только ни думал в эти часы – о себе, о виновности и невиновности, о стольких людях, годах и днях, о нынешнем и минувшем, о своей горькой, сладкой, любимой жизни.
Я думал о Розмари, входя в здание суда, и сейчас снова не могу не думать о ней, о нашей последней встрече, всего недели две назад, вечер был чудесный, почти летний, и я сказал:
«Давай немножко пройдемся?»
Они прошли до самых хорбекских угодий, на старое место у озера, поодаль от новенькой Штефановой купальни; там, как много лет назад, все еще можно было укрыться вдвоем за реденьким соснячком. Они долго лежали рядом в траве.
«Все как раньше, – засмеялась она, – и по-прежнему тайком. Когда у нас наконец будет своя постель?»
Он ласково улыбался, счастливый, упоенный любовью:
«Тебе достаточно выйти за меня замуж».
Она приподнялась и нарочно резко сказала:
«Зачем? Я прекрасно обхожусь без обручального кольца, хотя это и чревато известными сложностями – для человека, занимающего руководящий пост. У тебя дома мы редко остаемся одни, в Бебелове у меня за стенкой половина тамошнего начальства. Стены тонкие, знаешь, просто зло берет, когда по утрам на летучке коллеги как-то странно поглядывают на меня. Я почему-то начинаю думать, что они вовсе не слушают мои рассуждения, а гадают: интересно, мол, кто это был у нее ночью».
«Понимаю, – отозвался он. – Мне, между прочим, травяная постель не помеха».
«Тебе ничто и никогда не было помехой! – с упреком воскликнула она и вдруг бросилась ему на шею, осыпала градом поцелуев, потом сказала: – Каждый раз, когда мы вместе, мне, честно говоря, хочется все бросить, просто быть с тобой, и все».
Он упал навзничь, в траву, смеясь протянул к ней руки и воскликнул:
«Так иди же! И останься со мной навсегда».
Она задумалась.
«Знаешь, диплом достался мне слишком дорогой ценой, я целых одиннадцать лет ради него надрывалась, с таким трудом получила специальность, не могу я от нее так просто отказаться. А в твоей дыре работы для меня нет».
«Работы-то хватает, – протянул он. – Только для человека с ученой степенью нет».
«Перебирайся сам ко мне в Бебелов, для тебя там кое-что найдется. – Она вдруг фыркнула. – Я имею в виду соответствующее твоей квалификации».
«Неостроумно, – сказал он. – И, кстати говоря, твое предложение вообще неприемлемо. Именно теперь я не могу бросить людей на произвол судьбы».
Он вскочил, потянулся, расправил грудь – любил иной раз покрасоваться перед ней своей мускулатурой. Она глядела на него снизу вверх с должным восхищением, зная, что это ему нравится: он ведь тоже всего лишь человек. Он расслабился и невольно засмеялся:
«Надо наконец сделать эту чертову Волчью топь плодородной».
На минуту он впал в поучительный тон: на опытном польдере удастся, дескать, показать, чего можно добиться благодаря мелиорации, ведь удивительная вещь – четыре – шесть урожаев трав, прямо как на Ниле. Забота о кормах перестанет мучить кооператив, завтра о ней и думать забудут, но проект для Альтенштайна слишком велик, надо, чтобы подключились хорбекцы.
Он помог ей встать. Она охотно приняла помощь, покачнулась, словно от усталости, и прижалась к его груди. Он немножко покачал ее, неожиданно проворковал на ушко, что уже опять... разве она не чувствует. Она прыснула и припустила бегом. Виделись они по-прежнему редко, и в своей влюбленности порой дурачились, как молоденькие. Он скоро догнал ее, состроил влюбленные глаза, переводя дух, подступил совсем близко, она схватила его за плечо, но только чтобы надеть туфли.
«Давай-ка серьезно. Штефан не понимает пользы вашего проекта?» – спросила она.
«Все он понимает. Давно смекнул, зачем вы в Бебелове экспериментируете со своей суперфермой. Он, конечно, знает: если мы используем огромные площади Топи, то и работать нам надо не так, как раньше, значит, в один прекрасный день тут появится второй Бебелов, только, разумеется, крупнее и современнее, и тогда его герцогству конец, придется слезать с трона. Вот он и ерепенится».
«Ты поразительный человек, – сказала она. – Опять решил бросить вызов толстому Штефану».
«Верно, – улыбнулся он и добавил: – Ты меня, конечно, раскусила. Сама знаешь, у меня есть и очень личные причины».
Она притворилась дурочкой.
«Вот как?»
«Если я разделаюсь с Топью, если одержу победу, то здесь, в наших местах для животноводческого комплекса срочно потребуется человек с научной подготовкой, желательно доктор».
Она засмеялась и ласково потеребила его за нос:
«Что ж, раз так – давай!»
Они медленно зашагали домой через луга, на травы уже пала роса. Потом еще немного посидели рядышком на луговой ограде, глядя, как небо меняет окраску. В голубизне поплыли серые облака, горящие снизу алым пламенем, а над черноватым растрепанным лесом стеклянистой зеленью уже вставала ночь.
Розмари поежилась и поплотнее запахнула жакет.
«В шестидесятом году тоже создалась такая переломная ситуация, когда кто-то тебя шантажировал. Даниэль, отчего ты не пошел с повинной?»
В этот день они много любили и много смогли рассказать друг другу. Друскат был счастлив, а теперь как-то сразу замерз. Он спрыгнул с забора, долго стоял, отвернувшись, словно от холода обхватив себя руками и потирая ладонями плечи. «Спросила-таки, – думал он, – спросила сейчас, сейчас, когда больше никто этим не интересуется. Что ответить? Скажу, девочка была маленькая, когда умерла мать, что бы с нею стало? Всегда находится оправдание, откладываешь из года в год, в самом деле можно забыть. Розмари, я тебе уже однажды говорил, а может, только подумал: это случилось с совсем другим человеком.
В детстве я всегда боялся, что мне придется пережить что-то ужасное, непрерывно боялся. Однажды, на минуту, ненависть оказалась сильнее страха, тогда-то я и убил человека. Между тем прошло больше двадцати пяти лет, все эти годы я трудился ради жизни, в которой никому больше не придется никого и ничего бояться. Порой мне думается, если мой труд не способен возместить той единственной минуты, то мне это должно быть безразлично, но мне не безразлично.
Я был отверженным, и никому не понять, что для меня значило быть одним из многих единомышленников, товарищем. Ты знаешь, это не пустая фраза, и еще знаешь, что снова стать отверженным для меня равносильно смерти.
Что мне делать? Я не могу всю жизнь бояться шантажа. Я обязан прыгнуть. Может статься, я упаду, и все равно прыгать надо, я чувствую. Этим решится моя жизнь, и, может быть, я достигну берега».
Он повернулся к Розмари, взглянул на нее, но не сказал ни слова, только подошел и зарылся лицом ей в колени.
Возвращаясь в тот вечер в деревню, они не разговаривали.
За домом у Друската стоял белый «трабант». Розмари уже сидела в машине, как вдруг Друскат сказал:
«Ужасно трудно расстаться с тобой, я подъеду немножко, до шоссе?»
Она кивнула и открыла дверцу. Он сел рядом и, чтобы хоть что-нибудь сказать, начал расхваливать ее водительское искусство, но она вела машину вовсе не так уж хорошо, ей было грустно. На секунду она повернулась к нему лицом, и он увидел, что она пытается сдержать слезы.
«Остановись!»
«Нет».
Розмари ехала дальше, все время прямо, прямо.
«Чудесный был день, – помолчав, сказал он. – Я всегда рад, когда ты приезжаешь и вообще – что ты еще приезжаешь».
Не выпуская руля, она положила руку ему на колено, но не ответила.
У выезда на шоссе она остановила машину.
«Пора прощаться, Даниэль».
«Я уже говорил, что люблю тебя?» – спросил он.
Она слегка тряхнула головой.
«Но ты это знаешь?»
Розмари кивнула.
Друскат поцеловал ее на прощанье, потом вылез из машины и захлопнул за собой дверцу. Она опустила стекло, протянула ему руку:
«Счастливо, Даниэль», – и уехала.
4. Вот и полдень давно миновал. Друскат сидел за столом в кабинете прокурора, задумчиво помешивал давно остывший кофе, прислушивался к шагам в коридоре, к хлопанью дверей – служащие возвращались с обеда, Друскат все еще ждал. Страх пропал; он улыбнулся и откинулся на спинку стула.
«Многим я обязан женщинам, – думал он, – молодым и старым, заменившим мне мать и любимым, без них я был бы не я, не ведал бы, что такое печаль и счастье, какое наслаждение приносит борьба и как прекрасна жизнь, я пропустил бы мимо ушей иное предостережение, не ощутил бы лишнего стимула, не имел бы утешения, когда нужно, да и мужества тоже.
Прокурора это не касается».
5. Послеполуденная жара дрожала над асфальтом, когда служебный автомобиль, предоставленный Гомолле по его настоятельной просьбе, въехал в центр округа. Шофер уже немного поскучнел, ему пришлось долго ждать в Альтенштайне; теперь он искал и в конце концов нашел поблизости от здания суда местечко для стоянки. Гомолла со Штефаном вышли из машины.
Как долго они здесь пробудут? Шофер тыльной стороной руки вытер со лба пот. Гомолла сказал, что около часа, и сунул водителю десять марок. Тот начал отнекиваться.
– Бери, бери, не ломайся, сходи перекусить или мороженое купи.
Из вахтерки Гомолла позвонил прокурору, потом вместе со Штефаном поднялся по каменной лестнице. Лестница была крутая и неудобная. Гомолла слегка запыхался: сердце-то больное. Он покосился на Штефана – тому, кажется, приходилось не лучше.
– Ты слишком тучен для своего возраста, – неодобрительно заметил Гомолла.
– Тучный, да могучий, – отпарировал Штефан одним из своих афоризмов.
– Ну-ну.
Они прошли по коридору – освещение было тусклое, в стене пробиты только узенькие ниши, – и их пригласили в комнату для посетителей. При виде взрослых Аня и Юрген поднялись из своих кресел.
Штефан удивился, а ведь его ошеломить не просто:
– Что вы здесь делаете?
– Пришли навестить ее отца.
– Узнать правду, – сказала Аня.
И Юрген рассказал, что кое-что они уже выяснили у деда.
– Вот как! – Гомолла, склонив голову к плечу, взглянул на мальчугана, потом поздоровался и надолго задержал Анину руку в своей. – Девочка, – сказал он, – до чего же ты стала красивая. И невероятно похожа на мать.
Снова отворилась дверь. Вошел Друскат. Его предупредили, кто к нему пришел. Он улыбнулся – улыбаться можно и от смущения. Аня бросилась ему на шею, он похлопал ее по спине, поцеловал в щеку, отстранился. За руку поздоровался с Юргеном, потом крепко тряхнул Штефанову лапищу. Гомолла сделал вид, что не замечает протянутой руки Друската.
– Густав. – Друскат произнес его имя просительно, но старик только пристально глядел на него, на человека, которого знал столько лет, он подобрал его в лесу, заменил сироте отца, любил его, этого Даниэля Друската, и сейчас чувствовал себя обманутым и преданным.
«Никаких фамильярностей, – думал он, – было да сплыло, мой милый».
Друскат долго стоял с протянутой рукой, потом опустил ее. Никто не говорил, каждый наблюдал за происходящим, и все обрадовались, когда появился сотрудник прокуратуры и прервал тягостную для всех сцену.
Гомолла напустился на вошедшего:
– Ваш шеф обещал принять меня. Сколько еще ждать?
– Минуточку, товарищ Гомолла.
Сотрудник принес чемоданчик. Прежде чем поставить его возле двери, он приподнял его, демонстрируя всем, и только после этого удалился.
Друскат кивнул.
– Так что же? – спросил Штефан. – Они тебя отпускают?
– Да.
– Процесса не будет? – наседал Штефан.
– Само собой, отвечать ему придется, – сердито вмешался Гомолла. – Но сперва он разрешит мне задать несколько вопросов.
Штефан поднял руки:
– При детях?
– Пусть спрашивает. – Друскат сел.
Остальные тоже опустились в кресла, обитые кожезаменителем. Только Гомолла продолжал стоять.
– Не знаю, как обстоит дело, – это я скоро выясню, – и все же не могу тебя понять. Являешься сюда с улыбочкой, как ни в чем не бывало. Ты что же, думаешь, все позади?
Друскат медленно покачал головой:
– Двадцать пять лет я носил это в себе, вот что было тяжело. Теперь у меня точно гора с плеч свалилась.
– То ли еще будет, – с легкой иронией заметил Гомолла. – Одно ясно: прежде чем суд скажет свое слово, тебе придется держать ответ перед товарищами по партии. Что ты им скажешь?
Друскат не мог усидеть на месте, встал, прошелся по комнате, не глядя ни на Штефана, ни на детей, напряженно ожидавших ответа. Наконец он остановился, посмотрел в хмурое лицо Гомоллы и сказал:
– Долгие годы я думал об этом. Я оказался замешан в преступлении и не мог защититься. На кого мне было опереться? Людей вроде тебя в ту пору было мало, Густав.
– Они были, тысячи таких, как я, пора бы тебе знать.
– Да, – резко воскликнул Друскат, – но тогда я не знал ни одного, я же был мальчишка, и ты намерен судить меня? Или другие, половчей, а может, повезучее меня... – Он встал за Штефановым креслом, оперся на плечи своего друга и противника и слегка тряхнул его: – Они признают меня виновным?
– Успокойся, – примирительно сказал Штефан и похлопал Друската по руке.
– Или эти двое? – Друскат показал на детей. – Ведь это не их заслуга, а просто везение – расти в лучшие времена. И всем им действительно дозволено судить и презирать меня?
Выходит, парень действует по принципу: нападение – лучший способ защиты? Что он там болтал, какое отношение он, Гомолла, и дети имеют к той истории? Задыхаясь от ярости, Гомолла проревел:
– И это ты смеешь подсовывать мне как оправдание преступления, в котором ты участвовал?
– Так я думал, чтобы оправдаться перед самим собой, – сказал Друскат.
– Там, за границей, тоже так думают, в точности!
Было душно и жарко, даже в этой комнате, за метровыми стенами. Гомолла нервно вытянул шею.
– Гитлер во всем виноват, – сказал он, – и кучка фашистских главарей, их всех схватили, повесили или посадили – в лучшем случае. Для остальных это было недоразумением, так, что ли? Десятки миллионов погибли, но никто не обязан чувствовать за собой вину?
– Слушай, – возмутился Друскат, – пусть тебе покажут протоколы. Я свою вину признал.
– Сегодня, – Гомолла пренебрежительно махнул рукой, – в кои-то веки. Поневоле! Может, еще прикажешь шляпу перед тобой снять?
Друскат не ответил.
Зато вмешался Штефан.
– Густав, – сказал он, качая головой, – ну, ты даешь! Да еще удивляешься, что сопливый мальчишка не набрался духу признаться тебе...
– Тут передо мной мужик сорока с лишним лет от роду, он не один десяток лет помалкивал. Он обязан знать, что ущерб от этого измерить невозможно, хотя может и не знать, что он этим причинил лично мне.
Друскат подошел вплотную к Гомолле, глаз он от старика не прятал.
– Помнишь, как вы праздновали победу в хорбекском замке? – спросил он.
Гомолла не понимал Друската, он не все выяснил насчет истории, в которой замешан этот человек, но знал, во всяком случае, достаточно, чтобы составить себе определенное мнение, и считал, что виновный ведет себя неподобающе. Он, Гомолла, знавал времена, когда приходилось заниматься самокритикой вплоть до уничижения, причем по куда менее серьезным проступкам – эти времена, слава богу или, вернее, слава партии, миновали, – но можно бы ожидать и побольше раскаяния. Жаль, ребятишки тут, их присутствие сковывало Гомоллу, иначе он бы поговорил с прохвостом начистоту, и отнюдь не так, как мог делать до сих пор. Он больше не собирался позволять Друскату глазеть на себя, отвернулся, наконец-то сел и закурил сигарету.
– Вы обнимались, – продолжал Друскат, – кричали всю ночь от своей безудержной радости. Тогда я еще умел реветь, и ты спросил: «Почему?» Я сказал: потому что все кончилось. Мне бы надо сказать: от страха. От страха, Густав, я долго не мог отделаться.
Друскат подошел к Ане, взял ее личико в ладони, прижал к груди:
– Ты ничего об этом не знаешь и представить себе не можешь, нынче все по-другому. Мне в ту пору было сколько тебе сейчас, и какой же опыт я приобрел в свои шестнадцать лет? Страх. Мной помыкали, меня били, предавали. – Он поцеловал Анины волосы, потом поднял голову, взглянул на Гомоллу. – И ты в моих глазах тогда был не лучше других. Как ты думаешь, почему я остался с тобой и с товарищами? Из одной симпатии, из сознательности? Нет.
Он оставил Аню, сел рядом с Гомоллой на стул, поднял и опустил плечи:
– У меня не было ничего, сам знаешь. Я просто не знал, куда приткнуться. Вот и все. И лишь позже, когда я постепенно уразумел, к чему вы стремитесь, это оказалось именно то, чего я сам хотел. И тут коллектив приобрел для меня такое значение, что я опять испугался, Густав, я боялся потерять вас!
Помолчав, Гомолла сурово сказал:
– Ты сделал самое худшее, что только можно себе представить, ты злоупотребил доверием товарищей.
Эти последние слова Гомоллы прозвучали для Друската словно пощечина. Он сгорбился и опустил голову, зажав сплетенные руки между колен. Однажды Друскат уже сидел в такой позе, вспомнил Гомолла, много лет назад в горнице у Анны, когда почти умоляюще выкрикнул: «Мне надо уехать, Густав! Неужели никто не может войти в мое положение!»
– Я во что бы то ни стало хотел жить и работать с вами, – сказал Друскат. – Думал: забудь, это было давно, забудь. Да так и не смог забыть...
Вот что рассказал Друскат.
Началось все с рубашки. Ее сшила Анна, а материю не то кто-то украл, не то кто-то смародерничал; за мародерство полагалась смертная казнь. Поляка, его звали Владек, должны были повесить. Так управляющий сказал Анне. Ночью Ирена прибежала ко мне, я малость умел по-польски и предупредил тех, в лагере. Друзья помогли Владеку выбраться из лагеря, и я его спрятал. Только меня продали. Меня привязали к козлам и избили до полусмерти, но я ничего не сказал. Потом Ирена выхаживала меня у Анны в хлеву. Раз вечером пришел вот он, Макс; зажег коптилку и подвигает мне сверточек; я к нему не притронулся, лег лицом к стене, я тогда всех людей ненавидел. Макс сказал, что эсэсовцы ушли и что, как только я поправлюсь, обязан явиться на работу в замок Хорбек. Я притворился глухим, хотел от него отвязаться, но он и тогда был как сейчас – и ухом не ведет, знай себе рассуждает: старухе – он имел в виду графиню – я, дескать, чем-то приглянулся. Не вмешайся она и не скажи что-то там насчет ошибки и бедного мальчика и все такое, я бы сейчас, мол, не лежал, как младенец Иисус, на мягкой соломе в теплом хлеву, а давно бы укрылся дерном, кстати, кладбище в Хорбеке весьма красивое, прямо возле церкви, может, видал? Я решил молчать. И тут Макс говорит: «Ты спрятал поляка». Я не ответил. А он все рассуждает сам с собой при свете коптилки: человек, мол, может довольно долго голодать, по его подсчетам, дня два-три, сколько я уже тут валяюсь? Запах собственных нечистот человек тоже некоторое время выдержит, а вот жажду ни за что. Человеку необходимо пить – стало быть, спрятанный, ежели не собирается подыхать, должен вылезти из тайника и добраться до ближайшей колонки. При случае он наверняка стащит что-нибудь пожрать, тут его и накроют, а вместе с ним и того, кто указал ему тайник, и так далее. Я не выдержал, придвинул сверток к себе, но Макс покачал головой: в таком состоянии я, мол, своему другу ничегошеньки не дотащу, к тому же за мной следят. Он был прав. Он сам все сделает. Тут я впервые открыл рот и спросил: «Почему?» Они с Хильдой, говорит, насмотрелись, как меня били смертным боем, вот почему. Я долго колебался, потом сказал: «Если ты меня предашь, на твоей совести будут два покойника».
Макс не выдал, Хильда тоже, она доставала еду. Когда я поправился, мы втроем снабжали беглеца в его тайнике, до той самой ночи, когда графиня напоследок устроила в Хорбеке пир.
6. Прошло много лет, но Друскат помнил все до мельчайших подробностей и, рассказывая, видел себя, как он прислуживает за столом, – тщедушный мальчишка в пышной ливрее.
Вдалеке гремел фронт, а в дворцовом зале никто словно и не слышал, стол накрыт, как в праздник, но уже разорен. В эту ночь накануне конца света все они были навеселе – красавица в сверкающем платье и ее сотрапезники, офицеры в мундирах в обтяжку, в орденах, на черных петлицах оскал черепов. Пусть, мол, еще раз все будет, как прежде, в незабвенные часы в Хорбеке, плаксиво говорила графиня. Враг может отнять у нее все: имения, все, чем она дорожит, только-де не достоинство, только не положение. Господа офицеры наперебой загалдели, что придут обратно, вернутся и что за это стоит выпить. Друскату полагалось наливать, в хрустальных бокалах искрилось пламя свечей, господа пили напропалую, то и дело чокались, пока на башне не пробило полночь, час духов, час прощания. Графиня встала, и с нею поднялись пьяные поклонники, они разбили рюмки, чтоб никто больше не пил из них: мол, ни Иван, ни батрак.
«Я хочу попрощаться со своими усопшими! Кто мне посветит в склепе?» – воскликнула графиня, и голос ее вдруг сорвался от слез.
«Все, все! Идемте в церковь!»
Друскат похолодел. Как бы кстати был сейчас Штефан! Вдвоем они бы забаррикадировали вход в церковь или быстренько отпилили кафедру и свалили ее на плиту, закрывающую склеп, наверняка придумали бы что-нибудь сумасшедшее или разумное для спасения Владека, двое всегда способны на большее, чем один. Но когда пробило полночь, Макса Штефана в деревне не было: вместе с красоткой Хильдой и наиболее ценным Крюгеровым добром он еще с вечера отправился в путь, не дожидаясь, когда в деревне начнется паника. Макс всегда был парень не промах, с детских лет, – он-то в безопасности, а на Владека плевать, верно? Своя шкура дороже. Кроме того, удалец Макс сделал все, что в человеческих силах! Что могло случиться с поляком там внизу, при мертвом герцоге и мертвых графах. Воздуха ему на несколько дней с грехом пополам хватит, человек весьма долго может терпеть вонь и смрад – все лучше виселицы. У Друската от страха похолодело внутри, а графиня воскликнула: «Я хочу попрощаться со своими усопшими!» И пьяная сволочь вызвалась ее проводить. Он должен попасть в церковь раньше их, должен вытащить мальчишку; он его вытащил, выдал...
Сто раз, а то и больше Друскат переживал эту сцену во сне, сто раз одно и то же: хочет спасти кого-то и не может, хочет убежать и не в силах сдвинуться с места, не хочет и все же убивает кого-то. Сотню раз, а то и чаще просыпался весь в поту, разбуженный женой, которая лежала рядом, или собственным испуганным воплем, сотни раз, проснувшись, не испытывал облегчения, зная, что это не только сон, так было в действительности, точно так же начиналось в зале хорбекского замка.
Медленно-медленно он попятился, не желая упускать из поля зрения пьяную компанию, и наконец почувствовал спиной резную дверь, ощупал ее руками и вдруг увидел, что эта собака Доббин следит за ним.
Но тут с управляющим заговорила графиня, тот поклонился; каждый знал: дамочка не выдерживала одиночества вдовьей постели, и он с ней исправно спал, а еще каждый знал, что управляющему давненько показали на дверь, ему пришлось сделать хорошую мину и до поры до времени уступить.
Друскат выскользнул наружу и помчался по каменным плитам коридоров, он слышал гул своих шагов, шум крови в ушах, остановился перевести дух у зеркала в конце коридора, собственные мысли звучали, как посторонние голоса: если ты скроешься, никто не сможет притянуть тебя к ответу. Владек погибнет! Бросишь его в беде и будешь жить! Если тебя схватят у Владека, ты умрешь! Голоса кричали, сразу за и против: беги и останься, будь храбр и будь поумнее, спасай его и спасай себя.
Вдруг в зеркале возникло лицо управляющего. Доббин зашептал:
«Они удирают! А нам придется остаться. Боишься! Чего хорошего, если нам потом что-нибудь пришьют. Я помогу тебе, мой мальчик. Он в церкви, верно? У тебя ключи от церковной двери, вот наш шанс, офицерам придется сперва поднять кистера».
У охваченного страхом Друската не было выбора – он доверился человеку с вкрадчивым голосом.
Наконец они подняли крышку склепа.
«Владек, вот моя рука, я тебя вытащу, тебе надо бежать, спеши, хватайся за руку!»
В этот момент в церковь ввалилась вся компания, еще можно было шмыгнуть в тень, но управляющий прошипел:
«Ни с места, сволочи!»
Почему он это сделал? Боялся эсэсовцев или хотел на прощанье положить к ногам графини мертвеца?
Никто не узнает!
Люди в мундирах высоко поднимали подсвечники – незабываемое зрелище, свет и тени, краски и тьма, и красавица графиня в мехах, накинутых поверх бального платья, бледное лицо под шапкой темных волос, ее жалобный голос проникал во все уголки церкви:
«Погодите, господа, минуточку. Мне хочется в последний раз поиграть на органе».
Действительно, несколько офицеров прошли вместе с ней на хоры, колеблющиеся отблески свечей заплясали по стенам, серебристо блеснули трубы, двое качнули мехи, для них это была забава, и вот полились торжественные звуки органа.
Отсрочка и для нас, Владек, может, даже спасение, дивная музыка во славу всевышнего, как молилась моя мать? Отче наш... он не сумел спасти собственного сына... Мы стояли в оцепенении, видя, как они подступают все ближе, словно тени, шатаясь и угрожая. Какую птичку мы поймали! Желтый знак, клеймо – поляк – светилось на груди у Владека; он плюнул мне в лицо. В ту же секунду щелкнул выстрел – предсмертный крик и мой собственный отчаянный вопль.
«Что случилось?»
Скрипнула и заохала деревянная лесенка, графиня неторопливо спускалась вниз, положив одну руку на перила, другою же грациозно придерживая длинное блестящее платье; следом за нею загромыхали по ступенькам и плитам сапожищи. Они окружили труп.
«Выше свечи, ради бога! – прошептала графиня, поднеся руку ко рту, и сразу же последовал властный приказ: – Господа, прошу все уладить. Этому человеку полагалось предстать перед военно-полевым судом. – Графиня показала на мертвеца, потом взглянула на старшего по званию среди офицеров: – Вы поручитесь за это, – потом, повысив голос, обратилась к управляющему: – В деревне не должно быть никаких кривотолков, я не хочу, чтобы говорили, будто мои гости убили в Хорбеке человека из одной любви к убийству».
Они крепко держали Друската, холуи. Пришел его черед? Графиня подошла к мальчишке, подала знак – его отпустили, дама с улыбкой потрепала его по щеке:
«Малыш заслужил награду!»
Она обернулась и, высоко подняв голову, шурша платьем, вышла из церкви, точно не нашла в этом обществе должного почтения. Сказать последнее прости усопшим она забыла.
Пьяный сброд тут же на алтаре, перед лицом распятого, сфабриковал и быстро скрепил печатью приговор военно-полевого суда, наградил молодого Друската – для них это была извращенная забава – Железным крестом. Так они сделали его своим героем и совиновником.
– Владека застрелили у меня на глазах, потом кто-то рванул колокол, ударил в набат, по-моему, для смеха, они все были пьяные, а потом я остался наедине с убитым. Сидел на ступеньках алтаря, в отчаянии пытался молиться и не мог. «Будешь сидеть тут, – думал я, – пока не придет кто-нибудь, кому ты сможешь все рассказать, или кто-нибудь, кто тебя убьет, это все равно». Я не знал, куда деваться. Чуть позже действительно пришел один, управляющий вернулся, эта сволочь Доббин. Он задул алтарные свечи, тем не менее убитый был виден, он лежал на кирпичном полу, на небе за свинцовыми переплетами церковных окон стояло красное зарево – в ночи горел Карбов.
Теперь, дескать, надо уничтожить следы, и он мне поможет, сказал Доббин, а потом я ему помогу, против врага, против русских. Я-де герой, у меня и письменное подтверждение есть, и теперь нам надо, мол, держаться вместе.
Я погиб. Сволочь, хотел сделать меня своим прихвостнем. Владек был на его совести. «Убери труп, – скомандовал он. – Зарой где-нибудь как можно скорее. Полячишки, того и гляди, вырвутся на свободу. Если они найдут тебя возле трупа, висеть тебе на ближайшем суку. Убери мертвеца! Зарой его!» – Он говорил так, точно речь шла о падали, о дохлой скотине.
«Он во всем виноват, – думал я, – он тебя одурачил, держит тебя в руках, с этого часа я у него в могильщиках, зарывателях мертвечины, в сообщниках. Что еще мне придется сделать, а ведь придется делать все, что он потребует». Я ненавидел его, должен был отомстить за Владека, за себя, или ненависть убьет меня самого. Я бы кинулся с колокольни, повесился на первом попавшемся столбе, но в последнюю минуту подумал: «Значит, он будет жить как порядочный человек, кроме меня, никто не сможет ни в чем его уличить, но я в руках у этой свиньи, нет, нельзя такому жить!» Я был так измучен, я знаю, что значит ослепнуть от ненависти.