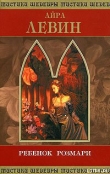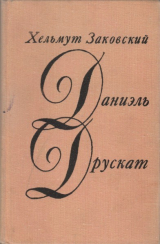
Текст книги "Даниэль Друскат"
Автор книги: Гельмут Заковский
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
То ли в апреле, то ли в марте – русский фронт, как говорили, все приближался – я ненароком зашла в замок, с Идой надо было потолковать. Гляжу: Крюгер бежит, Хильдин отец, запыхался весь – ты ведь знаешь, он был ортсбауэрнфюрером и в нацистах, конечно, состоял, – подбегает, стало быть, в своем коричневом мундире и щелк каблуками, насколько позволяли кривые ноги: «Госпожа графиня, спешу сообщить, в Хорбек беженцы с Волыни идут».
Стояли мы на лестнице замка – графиня, управляющий, дворовые сбежались, Макс Штефан, прямо как сейчас вижу, и Хильдхен – ты, наверно, знаешь, она целый год в Хорбеке отработала. Стоим, значит, на лестнице, а они входят в аллею... Мне сразу вспомнились обрывки стихов, которые мы когда-то в школе учили про армию Наполеона... Лошади едва тащили жалкие колымаги, женщины, дети, старики средь тряпок и узлов – вот так они и пришли: твой отец со своими, с края света... небось не один год добирались, кто ее знает, где она, эта самая Волынь, уж наверно, не близко... небось спелись с нацистами, а потом снялись с места, выгнали поляков с ихних дворов, хотели там поселиться и разбогатеть на чужой земле, да только счастье их недолго длилось, потому что война покатилась из России назад и пришлось им убираться восвояси, совесть-то нечистая, да страх по пятам идет: только бы к русским в лапы не угодить – кто этих переселенцев знает, какие делишки за ними водились.
Аня знала, что отец не местный, но никогда не слыхала, что в деревню он пришел в компании людей, над которыми тяготел груз вины.
– Отцу было тогда сколько мне сейчас. В чем он мог быть виноват?
Анна свысока улыбнулась:
– Чем я виновата, что родилась в семье трактирщика, да на сорок лет раньше. А то, глядишь, была бы теперь в вашем правительстве министром потребкооперации или торговли и вообще делала бы кое-что совсем по-другому, будь уверена. Но за всеми что-то тянется из времен отцов, особая судьба или называй это как хочешь. И будь ты хоть десять раз не виновата, люди тебе припомнят, не беспокойся.
Девочка открыла рот, собираясь возразить против странных Анниных речей, но тут в комнату с подносом в руках вошла фройляйн Ида. Одета она была в цветастое летнее платье с рюшками, в седых волосах – шелковая ленточка. Анна неодобрительно скривилась.
– Какая прелесть, что ты к нам зашла, – защебетала Ида, звеня посудой и гремя приборами. Она накрыла на стол, поставила колбасу, хлеб, масло, налила в тонюсенькие чашечки кофе, и о себе тоже не забыла. В левой руке она держала блюдце, а правой изящно поднесла ко рту чашку, но пить не стала, сперва по обыкновению завела разговор.
– Жарко, не правда ли? Сама по себе жара – это неплохо. Хотя на улице пыльно, – сообщила она, а потом очень серьезно добавила: – Зато дороги сухие, а это опять же хорошо, не так ли?
Анна закатила глаза к потолку и снова потупилась, потом склонила голову на плечо и искоса посмотрела на сестру:
– Вот рассказываю, как ее отец пришел в Хорбек, в сорок четвертом, помнишь?
– Ах, это очаровательно, – воскликнула фройляйн Ида, хотя вид у нее при этом был несколько сконфуженный.
В сорок пятом в Хорбеке много чего происходило, говорить об этом никто не любил, всем забыть хотелось – и младшая Прайбиш тоже не была исключением. Ида неотрывно глядела на девочку и думала: «Ребенок-то все больше становится похож на мать, та ведь частенько сиживала за этим столом, в сорок пятом и позже, тоже была нежная, худенькая, прямо как спичка, кожа да кости, ей-богу, тяжелая работа не по ней, но хорошенькая, как картинка... Ирена... она приехала с последним эшелоном «рабочей силы» с Востока, ни один хозяин на нее не позарился, тогда Анна взяла ее к себе... Кто знает, откуда она была родом, может, из Польши, может, нет, под конец они кого только ни хватали, прямо на улице, Ирена рассказывала. Она наверняка была из приличной семьи, во всяком случае, говорила по-немецки, хотя и с легким акцентом, позже он исчез, девочка была способная и не обижалась, что я не смела ее привечать, пока горничной в Хорбеке служила. Как-никак должность ответственная, а господин граф был то ли штурмбанфюрер СС, то ли штандартенфюрер, не помню уж, кто там главней, он потом в России погиб, госпоже графине очень траур шел... боже мой, Даниэль и Ирена, заброшенные, отринутые, нашли друг друга, но если б не я... ах, мне красивый мужчина так и не встретился, никогда...
В тот день, когда явились волынцы, Ирена крутилась возле замка, я своими глазами видела, как она сунула мальчишке-поляку рубашку, Анна ее сшила, а материя была краденая, за это полагалась смерть, мальчишку-поляка хотели повесить, но он сумел улизнуть. Ирена предупредила, я уверена, а Даниэль оказался замешанным в этой кошмарной истории, боже мой, бедный мальчуган, шестнадцать лет... госпожа графиня кричала, ломая руки: «Довольно, довольно!» – не то бы его до смерти запороли, и никто бы меня не поцеловал... Даниэль единственный мужчина, который целовал меня, хотя всего лишь в щеку...»
– Ах, это очаровательно, – сказала Ида, поставила чашку на стол и указательным пальцем осторожно смахнула с ресниц слезинку.
Аня внимательно посмотрела на старую деву.
– Отчего ты плачешь, Ида? Разве в тот день произошло что-нибудь особенное?
– Что там могло произойти? – Анна не дала сестре и рта раскрыть. – Обычное дело в те времена, беженцы в Хорбеке, ну и что? Беженцы сгрудились во дворе замка, как назло именно там. Люди выкарабкались из телег, сразу неразбериха. Тогда ведь не то что нынче в кооперативе – на дворе чтоб ни соломинки не валялось, ценили немецкий порядок и дисциплину. А тут, будто цыгане в церковь ввалились, – крик, сутолока; бабы подхватили орущих ребятишек, начали протягивать их графине и попрошайничать, да не просто нахально, а отчаянно и с ненавистью, они требовали хоть немного молока и хлеба...
Представляешь, спустя сто лет опять к своим пришли, к немцам, вернулись домой в рейх и никому не нужны. Так и стоят у меня перед глазами, точно все это было вчера.
«Странно, – думала Анна, – притащились с края света, и парень с ними. Так он пересек мой путь и путь Ирены. Случай, не больше, но он определил судьбу Ирены, да и мою тоже, мою тоже. Кто в тот день мог предположить, что еще случится».
Она опять увидела себя на лестнице... Ирену искала, та побежала сюда, в замок, с этой жалкой рубашкой, и скоро из-за клочка бязи повисла на волоске человеческая жизнь. В спешке она не нашла девушку, да и боялась привлечь к себе внимание, ведь чуть поодаль, за спиной у графини и у этой свиньи управляющего, выстроились эсэсовцы – мундиры в обтяжку, блестящие сапоги. Теперь Анна разглядела бородатого мужчину – старшину беженцев, он растолкал баб, подошел к графине, низко поклонился, почти коснувшись рукой земли, и попросил приюта, хоть на одну ночь, провизии – ради бога! – все запасы съедены.
Графиня сошла с крыльца прямо в толпу, превозмогая себя, погладила по головке замурзанного ребенка, от него, казалось, остались одни глаза, огромные глазищи на изголодавшемся личике. Она обещала еду, посулила даже молока для детей, при условии – тут ее голос зазвучал громко и повелительно – что двор замка немедленно будет очищен. Жилье она, как ни прискорбно, предоставить никак не может – жест сожаления (ах, бедняжки!) и печальные морщинки на лице мадонны. В доме военные, деревня переполнена, польский лагерь возле парка – все это не позволяет им остаться здесь. Недовольство, ропот, даже проклятия среди беженцев; и вновь, перекрывая шум, звонкий, привыкший повелевать голос – графиня была дочерью генерала: на ночь они могут спокойно расположиться в парке, но наутро должны уйти. «Ортсбауэрнфюрера ко мне!» – «Слушаюсь, госпожа графиня». – «Крюгер, распорядитесь накормить лошадей!» Потом управляющему: «За дело, господин управляющий!»
Чуть в стороне от толпы волынцев стоял бледный чернявый парнишка в изношенном комбинезоне, держа под уздцы красавца коня, благородных кровей – это графиня оценила сразу. Подойдя поближе, она ласково потрепала беспокойного коня, окинула его взглядом знатока и наконец спросила, не продается ли животное.
Даниэль Друскат – так звали парнишку – отрицательно помотал головой. Лошадь – его единственное достояние, он сам беженцам чужой, родители погибли, его взяли в обоз, потому что надеялись на запасную лошадь. Дама еще раз оглядела обоих и, наверно, решила: мальчик миловидный, хоть и оборванный, сгодится... например, в пажи. Она улыбнулась и сказала, что это еще не самое страшное, в Хорбеке и служба найдется, да, кстати, и новая куртка тоже.
Графиня удостоила парня беседой.
Это заметила не одна Анна Прайбиш. Управляющий Доббин тоже. «Вперед, вперед!» – пролаял он, бегая возле волынцев, словно собака вокруг стада, и стараясь выпроводить обоз со двора замка; снова крик, визг, господа офицеры СС, засунув руки в карманы, чуть не падали со смеху.
Анна видела, что Доббин хотел было вытолкать молодого Друската, уже и руку для удара занес, но графиня обняла парнишку за плечи, под защиту взяла. Управляющему, надо думать, это не по нраву пришлось, в деревне всякий знал, что он спит с хозяйкой.
– Вот так твой отец и появился в деревне, – сказала Анна. – А почему он остался, когда волынцы на рассвете ушли, никто точно не знает.
– Лучше бы ему уйти, – вздохнула фройляйн Ида. – Бедный мальчик попал под подозрение.
– Под подозрение? – изумилась Аня. – Как это под подозрение?
– Да разве отец тебе не говорил?
– Ни слова.
– А тебе непременно надо проболтаться, – рассердилась Анна Прайбиш. – Дура! – И обернулась к Ане. – Ты же знаешь, всегда она все перепутает.
– Как нехорошо, Анна, – оскорбилась фройляйн Ида. – И потом, я не понимаю, почему от нее непременно нужно это скрывать, все равно многие знают: Макс, Хильда и Крюгер, они же все там были.
Анна грозно посмотрела на сестру, но фройляйн Ида только повысила голос.
– Можешь сколько угодно возмущаться, – закричала она, – я все равно скажу. Поляк сбежал. Одни говорили: ему Даниэль помог, по крайней мере весточку в лагерь снес, другие твердили, что эсэсовцы-де – жуть! – спутали его с поляком. Он ведь тоже похож был на поляка. Эх, лучше бы он ушел с этими цыганами, отец-то твой, а тут пришлось ему страдать как поляку. Раздели его при всем честном народе, привязали к козлам и высекли, забили бы до смерти, не вступись графиня фон Хорбек.
– И они все видели, Штефан с женой и Крюгер? – прошептала девочка.
– Беги к ним, – проворчала Анна Прайбиш, – пусть бумажку напишут, а потом дуй в суд: так, мол, и так, отпустите отца, он антифашист, жертва как-никак. Я еще тогда в толк не могла взять, отчего он справку не выхлопотал, ведь мог бы куда быстрей других пробиться. «Прекрати» – вот что он отвечал на мои упреки. Позднее-то он и жил у меня, и столовался, эдакий постоялец для моего заведения не без пользы, а то два раза лицензию отбирали, но это так, к слову.
Старая женщина умолкла; она разволновалась и терла рот платком. Фройляйн Ида не преминула использовать момент и опять вмешалась в разговор. Похоже, ей стоило большого труда сосредоточиться на рассказе об унижении и порке Даниэля, теперь она, как водится, заговорила о вещах, никак не относящихся к делу.
– Хорбекская графиня была красивая женщина, – сказала она и как бы в доказательство прибавила: – Второй муж у нее американец.
– Мерзкая тварь она была, вот кто, – сердито махнула платком Анна Прайбиш. – И с управляющим путалась, и с офицерами. Я почти уверена, что она и мальчишек вроде Даниэля «просвещала».
– А гардероб? – Фройляйн Ида восторженно закатила глаза и знай свое: – Это вот платье – от нее. Несколько смело, не так ли?
– В Писании сказано, – раздраженно заметила Анна, – Вавилон был великой блудницей. Господи, что понимали в таких вещах древние святые, Хорбека они не видали.
Но фройляйн Ида не желала слезать с любимого конька.
– Цветастое, – объявила она, – вообще мне к лицу!
– Ида! – взорвалась Анна.
– Да? – засмущалась фройляйн Ида.
– Надо накормить кур.
– Ах, кур.
Фройляйн Ида поднялась, с улыбкой посмотрела на девочку, точно говоря: вот видишь, она же не в своем уме. Потом, шелестя рюшками, проследовала к дверям и там остановилась.
– Думаешь, я ничего не понимаю, Анна? А я точно помню, все началось с рубашки. Ты тоже виновата. Вечно норовишь всех перехитрить.
Анна взмахнула рукой:
– Вон!
– Как угодно. – Фройляйн Ида откинула голову, как обиженный ребенок, и оставила их одних.
Казалось, слова сестры задели старуху за живое, она смотрела прямо перед собой, теребя кисти скатерти, потом наконец подняла голову:
– Тут, за этим столом, мы часто сиживали с твоей матерью... Господи, как давно это было...
– В сорок четвертом, – рассказывала Анна Прайбиш, – Гитлер приказал стереть с лица земли город Варшаву, дом за домом. И вот привезли еще один эшелон «рабочей силы»; всех прибывших построили во дворе замка и, как бы это сказать, учинили что-то вроде торгов. Осматривали женщин: крепкие ли ноги? Что они смогут поднять руками? Среди женщин была пятнадцатилетняя девочка, тонюсенькая, никто на нее не польстился, я ее и взяла. Звали девочку Сирена, что ли, или как-то похоже, в общем, не выговоришь. Я и говорю: «Тебя зовут Ирена, понятно?»
Она пугливо кивнула: Ирена, так ее потом все и звали. Девочка была робкая и запуганная, знаешь, как собачонка, которую долго и беспричинно колотили. Много времени прошло, пока она доверчивее стала.
Полякам в те времена запрещалось садиться за один стол с хозяином-немцем. Не скажу, чтобы я делала ей добро специально, хвастаться не стану, но тут в трактире, бог мой, неужели накрывать себе и ей отдельно? Я женщина практичная, вот мы зачастую и питались вместе. Я усердно занималась с ней языком, мне это нравилось, и было очень забавно, потому что она нередко коверкала слова.
В конце концов выяснилось, что все ее близкие погибли во время восстания[11]11
Имеется в виду Варшавское восстание 1944 г., жестоко подавленное фашистами.
[Закрыть]. Она рассказывала жуткие вещи. Никого у нее не осталось, кроме некоего Владека, дальнего родственника, он вместе с другими поляками жил в мужском лагере при имении.
Та история случилась под конец войны. Однажды кончила я завтракать, а девчонка все вертится у стола.
«Ну, говорю, – Ирена, в чем дело?»
Она отвечает:
«Хозяйка, Владек, родственник, все вещи совсем капут».
Что бы мне дать ей рубашку сына, он в тридцать девятом погиб, так нет, не могла расстаться с его вещами.
«Все капут, – говорит, – у меня есть материал. Вы можете шить рубашку?»
«Есть материал? – спрашиваю. – Откуда?»
Ну, Владек этот ей подсунул. Бежит в комнату и возвращается с двумя метрами бязи, по краю весь кусок опален.
«Господи, – говорю, – плохонький лоскуток».
А Ирена печально так говорит, что не умеет шить. Тут меня, видать, черт попутал. Я не больно-то мастерица шить, но, думаю, покажу-ка малютке, что умеет хорошая хозяйка, и ну кроить, затарахтела «зингером», отгрызаю нитки, то и дело узлы распутываю, нитки-то были сущее барахло, и сшила рубашку – швы косые, один рукав длиннее другого, – любой отбивался бы руками и ногами, вели ему надеть такое. А Ирена уж так обрадовалась. Руками всплеснула, и мне тоже радостно. Ты еще узнаешь, Аня, сколько радости может испытать человек, когда сделает доброе дело.
С этого все и началось. Сидим мы как-то вечером за столом, вдруг стучат – управляющий Доббин и Крюгер.
«Хайль Гитлер!»
«Хайль Гитлер!»
«Да, – говорю и тоже руку тяну и цыкаю на Ирену: – А ты себе чего-нибудь поищи в кухне, только курам не забудь оставить».
Лишь бы не показать, что мы с малюткой ладим. Она поняла, покорно присела и хотела было с подносом вон из комнаты.
Доббин ее за руку хвать, одна тарелка упала на пол и разбилась.
«Полька останется!»
Ну, ты меня знаешь, я такого не люблю, не на ту напали, и раз по столу:
«В моем доме командую я!»
«Минуточку». Доббин открывает портфель, швыряет на стол рубаху: не знакома ли мне?
Я сразу смекнула: косые швы – мое произведение, а сама не спеша так надеваю очки, поднимаю рубашку кончиками пальцев. «Нет, – думаю, – дудки, меня не купишь, нипочем не признаюсь». И говорю:
«Господи, грязь-то какая!»
Поляк, мол, один в ней разгуливал, прямо сенсацию произвел – надо же! – белая рубаха в лагере. Крюгер сейчас займется девчонкой, рубашка-то ее. Отпираться бессмысленно, поляк сознался! Где Ирена украла рубашку?
«Не украла! – Ирена протестует, все на меня показывает, призывая в свидетели. – Хозяйка знает, не украла».
«Ничего я, деточка, не знаю», – думаю. Доббин девчонке руку выворачивает, та в крик, на колени рухнула.
«Будешь говорить, падаль?!»
У нее волосы на лицо упали. А мне уж ее голова на плахе мерещится.
«Господи боже, – кричу, – разве так важно, откуда взялась эта тряпка, зачем столько шума из-за рубахи?»
А Доббин мне: нечего, мол, прикидываться тупее, чем я есть, и разъясняет – за кражу полякам положена смерть. Жестокость необходима: сволочи, дескать, из повиновения выходят. Хватают они Ирену, один слева, другой справа, поднимают с пола.
«Мерзавка под суд пойдет!»
Ирена в слезы:
«Почему, хозяйка! Я не делала ничего дурного».
Я все еще пыталась остаться в стороне, но не в силах была вынести ее причитаний.
«Отвяжитесь от нее, – говорю, – рубаху сшила я».
Оба прямо обалдели, и эта скотина Крюгер, и управляющий.
«Ведь не для поляка же, фольксгеноссин[12]12
Соотечественница – обращение, принятое в фашистской Германии.
[Закрыть] Прайбиш?»
Быть того не может, это-де пособничество иностранным работникам и прочая, и прочая. Я прямо удавить их была готова.
«Что? – шиплю. – Как? Я не ослышалась? – И пальцем на Ирену показываю: – Они тут зачем? Для работы, конечно. Только гляньте-ка на нее, что она может? Ничего! Все растолковывать надо. И разве они не должны учиться у нас немецкой дисциплине и порядку? Вот я и надумала: покажу-ка неумехе, как в Германии приличные рубахи шьют. А вы мне – запрещено!»
От страха едва дышу, а нацисты решили, что я от законного возмущения задыхаюсь. Управляющий и говорит:
«Успокойтесь, фольксгеноссин Прайбиш, мы просто хотим выяснить, продали вы польке материал или, чего доброго, подарили?»
Крюгер с важным видом поднял палец. Ирена, видать, вообразила, что я в опасности, и в горячке сама не понимала, что говорит:
«Не купила и не подарила. Клянусь, фрау Прайбиш ничего не дарит. Владек вытащил его после бомбежки из-под развалин, этот материал, совсем опаленный огнем, мокрый от воды, совсем капут».
«Стало быть, мародерство, – подытожил Доббин. – Все совершенно ясно. Занесем в протокол. За мародерство – смерть!»
Тут в комнате стало тихо-тихо, до жути тихо.
Что мне оставалось делать? Прикинулась, будто у меня от сердца отлегло, и спокойно говорю:
«Ну, господа, значит, выяснилось, что я невиновна, – и показываю подбородком на Ирену, – и эта дуреха тоже».
Девчонка прислонилась к стене и дрожит от страха. Я напустилась на нее:
«Ты чего тут торчишь да глаза пялишь?»
Видит бог, я всегда была добра к девчонке, а тут как заору:
«Что, еще не заработала сегодня свою порцию тумаков? – Надо было ее из комнаты удалить. – Живо закуски господам. Поворачивайся, у тебя что, ног нет?»
Потом я тоже вышла. Она собрала закуску и повязывает платок на голову.
«Куда, Ирена?»
«Владек, – шепчет. – Владек не должен умирать».
И убежала.
Я перепугалась. Сама спустилась в погреб, достала старого коньяку, сигарами их умасливала и разными яствами – и припрятанными, и купленными на черном рынке, пьянствовала с этими типами до глубокой ночи. Под конец Крюгер затянул тоскливые песни, а Доббин сказал:
«Ты на сей раз опять выкрутилась, фольксгеноссин Прайбиш. Но поляк будет повешен!»
Не знаю, как они устроили поляку побег, я никогда не спрашивала. Верно, Даниэль помог Ирене и страшно за это поплатился...
Анна устало замолчала, голова ее низко склонилась, кончиками пальцев она терла веки.
Дома, в Альтенштайне, они редко говорили об Аниной матери. Отец точно боялся этого, сам о покойнице почти не заговаривал, вероятно, не хотел, чтобы Аня ощущала утрату, чувствовала себя осиротевшей. Если Аня спрашивала о матери, он отвечал скупо: добрая, мол, была, они вместе много хлебнули, жизнь тогда была жестокая и горькая, но и хорошее тоже случалось. Порой, восхищенно глядя на дочку, он говорил, что мать была такая же красивая. У Ани хранилось несколько фотографий, судя по ним, он говорил правду. Об истории с рубахой отец никогда не вспоминал, никогда. Сейчас Ане казалось, что произошла эта история бесконечно давно, будто на другой планете. Девочку особенно подкупало, что молодые люди пошли на риск ради другого человека и из-за этого сами попали в беду. Но кино и книги рассказывали о куда более великих подвигах из тех далеких времен. Отец, верно, знал, что делает, потому и не хвалился. Аня разволновалась: сильнее, чем рассказ, подействовали на нее слезы старой Анны Прайбиш.
Девочка встала и пересела к Анне на диван. Она пришла сюда, желая узнать что-нибудь об отце, а может, еще и потому, что без отца чувствовала себя немного заброшенной, искала защиты, теперь же ей самой пришлось успокаивать Анну. Она утешала старуху, о которой все твердили, что она стреляный воробей, прошла огонь, воду и медные трубы. Анна искала носовой платок.
– Знаешь, – сказала она, – Ида без конца несет несусветную чушь, но на этот раз она права, я тоже виновата.
– Нет, Анна. Нет!
– Страшные годы, – сказала Анна, – но они были, их из жизни не вычеркнешь. Проще всего успокоить себя том, что в стране хватало закоренелых нацистов, настоящих преступников, на которых можно было свалить и свою вину. Знаешь, когда с кем-нибудь поступали несправедливо, многие из нас просто закрывали глаза, вместо того чтобы вмешаться, просто помалкивали, когда надо было говорить, просто отворачивались, когда что-то случалось. Они невиновны? Господи, что произошло из-за обожженного по краям клочка бязи. Если бы я тогда оказала: «Он мой и делайте со мной что хотите!» – у некоторых людей жизнь пошла бы совсем иначе. А я молчала.
Аня обняла старую женщину:
– Это было так давно, Анна, это уже неправда, а нынче все по-иному.
Анна Прайбиш высвободилась из Аниных рук, поправила на голове сбившийся платок.
– Хорошо тебе, – пробормотала она, громко высморкалась и энергично объявила: – Катись на свое место!
Аня с улыбкой повиновалась. Такая Анна была ей хорошо знакома.
– Ты ведь ничегошеньки не съела, – заворчала старуха. – А все от этой никчемной болтовни. Я тебе дам на дорогу парочку бутербродов.
По всей вероятности, она стремилась отделаться от девчонки: с двух пора за стойку, а работы еще непочатый край, хозяйство требовало ее рук. Анна щедро намазывала хлеб маслом, потом вдруг отложила нож и посмотрела на Аню.
– Все по-иному, – сказала она. – Ну хорошо. Но поверь мне, детка, они и сейчас никого не минуют, и тебя в том числе, эти минуты в жизни, когда нужно совсем одному решать: что хорошо, а что плохо, что правильно, а что нет. – Тут она вдруг взмахнула ножом, точно угрожая девочке, и сказала: – И социализм ваш не дает гарантий от провинностей и заблуждений!
Аня невольно рассмеялась: ну и чудачка эта старуха!
Анна ехидно улыбнулась и заметила:
– Твоего отца, лапонька, посадили. Кто виноват?
Не дожидаясь ответа, она встала и бесцеремонно закончила аудиенцию. Делать нечего, Аня поблагодарила за хлеб-соль. Старуха недовольно отмахнулась, а толстый черный кот выполз из-под дивана, одним махом вспрыгнул на кресло и коварно сощурился. Казалось, прежде чем занять Анино место, он посылает зеленые световые сигналы.
Пожав плечами, Аня отворила дверь и неожиданно оказалась лицом к лицу с фройляйн Идой. Та стояла в коридоре, вытаращив глаза и приложив палец к губам: явно подслушивала. Теперь она за руку свела девочку вниз по лестнице, пронзительно крикнула:
– До свидания! До свидания! – но прощаться вовсе не собиралась. Вместо этого она метнулась на улицу и потащила Аню в сад, отгороженный от дома густыми зарослями сирени.
Там она усадила Аню рядом с собой на лавочку.
– Небось, думаешь, я немного не в себе. Детка, поживи один-другой десяток лет рядом с такой деспотичной особой, так у тебя тоже нервы не выдержат. Не хочу сказать ничего против Анны, она милая женщина, но тогда, тогда – знаешь, после порки мы привезли мальчугана к себе, госпожа графиня так захотела, лишь бы эсэсовцы ушли, а у Анны его никто искать не станет. Макс Штефан правил лошадью... в телеге соломенная подстилка, а на ней избитый стонет. Я постучала. Анна появилась в дверях, рядом с ней Ирена.
«В чем дело?» – холодно спросила Анна.
«Мы парня привезли».
«Давайте-ка проезжайте, – крикнула Анна и показала на Ирену: – Мало мне с ней неприятностей? Пускай за ним графиня ухаживает!»
Тут Макс Штефан поинтересовался, куда девать мальчишку. Анна подошла ближе, стянула с Даниэлева лица одеяло:
«В дом не пущу».
Ах, она умеет быть злой.
«Положите его вон туда, в пустой хлев».
Так мы и сделали. Немного погодя Анна решила промыть ему раны шнапсом. Алкоголь-то не только для питья годится. Мне пришлось держать фонарь – затемнение ведь, если ты представляешь, что это.
Боже мой, за всю жизнь мне не доводилось видеть такое... кошмар... парень пытался отползти подальше по соломенной подстилке, прочь от света, в угол, точно дикий зверь: хочет забиться подальше и не может. В глазах у него была страшная ненависть, шипел, как затравленный зверь:
«Я его убью! Всех вас убью! – И повторял как безумный: – Я его убью!»
Может, и нехорошо так говорить, но тогда я от твоего отца всего ждала. Даже убийства!
Ида похлопала Аню по руке, поднялась и быстро убежала.