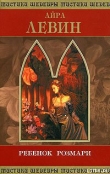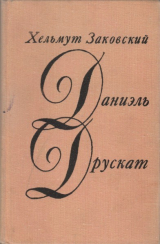
Текст книги "Даниэль Друскат"
Автор книги: Гельмут Заковский
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
«Все хорошо, Гасан, все хорошо!»
Много лет прошло с тех пор, как они оба – Друскат и Штефан – играли с собакой.
«Вот видишь, – засмеялся Даниэль, все еще отбиваясь от фамильярностей старого Гасана, – зверь-то не забывает, остается другом».
«К ноге!» – рявкнул Макс. Пес послушно оставил Друската. Наверняка понимал: если голос хозяина звучит так страшно, как у Штефана, то это означает опасность. Гасан на животе подполз к хозяину, лег возле него, пугливо повизгивая и зарывшись носом в грязь. Тут в самом деле последовал пинок, и пес, поджав хвост, забился в конуру.
«Временами по пьянке, – сказал Друскат, – а временами в ярости ты ведешь себя по-скотски».
Штефан чуял: Друскат припер его к стенке, он попал в ловушку, и от этого страшно злился, чувствуя, что надо защищаться, нападать, всем его существом завладела одна мысль: ударить, свалить противника.
В этот день на Макса обрушилось слишком много разных впечатлений, и теперь он уже был не в силах разобраться в них. Он торжествовал победу в полдень, посадив в калошу окаянных вербовщиков из кооператива; в карбовском трактире, выпивая вместе с родственниками в память покойного, он еще оставался героем дня. И все же скоро наступило похмелье, ведь он, конечно же, сознавал свою слабость. В силе были другие, и их было много, а у него что за сообщники – сплошь болваны, он одинок, а в одиночку человек мало чего добьется! От этих мыслей Штефан совсем расстроился: он был склонен к излишней самоуверенности, умел себя пожалеть, и, что бы он ни наделал, ни натворил в памятную субботу весной шестидесятого года, у него нашлась сотня самооправданий.
Может, все пошло бы иначе, если бы Даниэль сообразил, что перед ним несчастный человек, но Друскат обозвал его скотом, на это ответ только один – драка.
«Нет, Макс!» – закричала Хильда.
Но Штефан повел себя как разъяренный бык, он совсем озверел и пошел на Даниэля. Хильда взвизгнула, словно, того и гляди, произойдет убийство.
«Ради бога!»
Макс еще раз застыл, посреди разбега.
«Прочь! – рыкнул он. – Все до единого! Чтоб духу вашего здесь не было!»
Даниэль не пошевелился. Он стоял на прежнем месте; зато старик Крюгер кивнул, крепко схватил дочь за плечи и силой потащил в дом. Цилиндр выскользнул у Хильды из рук, Макс пинком, точно мяч, отшвырнул его в сторону. Шляпа отлетела к порогу, где с закатом сгрудились заспанные куры, надеясь, должно быть, на кормежку, и теперь птицы с возбужденным кудахтаньем кинулись врассыпную. Хильда в полуобморочном состоянии повисла на руке отца, бабкина траурная вуаль вилась вокруг растрепанных волос, старик Крюгер тащил разряженную дочь к дому, ее босые ноги топтали куриный помет.
11. Муха жужжала в полумраке комнаты, села Штефану на лицо, он лениво отмахнулся, встал, взял со стола вазу с увядающими розами и отнес ее на сервант. Он повернулся спиной к жене и Гомолле, теребя загрубелыми пальцами поблекшие цветы.
– Иной раз смотришь по телевизору фильм, уже виденный в юности. Тогда и настроение было другое, может, с девушкой в кино сидел, да мало ли что, во всяком случае, переживал и ходил под впечатлением, скажем, «Романса в миноре» или чего-нибудь в таком духе. И вот спустя много лет смотришь тот же фильм и не понимаешь, что тебя тогда взволновало, фильм кажется неуклюжим, немножко смешным и жалким – с таким чувством и я вспоминаю некоторые эпизоды собственной жизни.
– Вернись к своей исповеди, – из глубины кресла сказал Гомолла.
– Хорошо.
Штефан снова уселся напротив жены, он глядел на нее, но вроде бы и не видел. Хильда – красивая, крепкая, в платье без рукавов – сидела и смотрела на него, как-то странно, искоса; ведь то, что́ сказал муж и ка́к он это сказал, теребя жесткими ручищами лепестки роз, показалось ей столь необычным – прежде Макс никогда так не говорил, тем более о подобных вещах, и это напугало ее больше, чем его заявление в начале рассказа. Штефан продолжал:
– В тот вечер мы с Даниэлем зверски подрались, по всему было ясно, что речь идет о жизни и смерти, что одному из нас придется сдаваться.
Я прямо обезумел, все виделось мне как бы через багровую завесу, смутно: Даниэль – отскакивал то туда, то сюда; стены – они то валились на меня, то отступали назад, я... – Макс помедлил. – Я и вправду от ярости как зверь сделался. Все знают, что я силен, зато Даниэль проворнее, силу он может заменить ловкостью, и дрались мы на равных: то я ему врежу, то он мне.
Я не раз слыхал, что забава может обернуться очень серьезным делом, в нашей же драке вышло наоборот, постепенно схватка теряла жестокость, почему – объяснить не могу, может, вражде уже некуда было расти. Странно, мальчишками мы частенько дрались, кое-каким приемам Даниэль у меня еще тогда выучился; теперь мы лупили друг друга без всякой жалости, но мало-помалу красная пелена спала с моих глаз, ко мне вновь вернулась способность различать предметы. Подхожу к Даниэлю, собираюсь поддать ему напоследок, как можно аккуратнее, и тут этот паршивец с криком «гоп!» пускает в ход подлую хитрость, сам его в свое время обучил, – подставляет мне ножку. Я лечу, падаю, кости трещат, словно на мелкие куски разламываются.
«Ты ничего себе не повредил?» – кричит Даниэль.
«Да ну тебя!»
Встаю и почти с нежностью припечатываю его апперкотом. Эффект потрясающий – малый прямо рухнул наземь, нокаут! Наконец-то дело сделано. А очухавшись, парень вдруг как захохочет, и я тоже не удержался, невольно заржал.
«Ну и видик у тебя! – Он, хихикая, показывает на осколок зеркала над яслями. – Как, и у меня тоже? Что ж, поглядим. Старик, кто же это на тебя пялится? И это моя морда? Сам себя не узнаю».
«Погоди», – говорю.
На стене висело замызганное полотенце, я сорвал его с крючка, окунул в ведро с водой, а потом – шлеп! – бросил ему в физиономию. Он вытерся.
«Макс, – говорит, – подписать тебе все-таки придется».
А я – говорил уже, объяснить толком не могу – отвечаю прямо как по прежней дружбе:
«Старое ты дерьмо!» – или что-то похожее.
Даниэль ухмыляется во всю заплывшую физиономию.
«Придется вступить!»
«Подожди, – отвечаю, – поосторожней на поворотах, – или что-то в этом духе, решил на всякий случай еще чуток поартачиться. – Сперва надо привести себя в человеческий вид, – говорю. И собираюсь сходить за мылом, пластырем, шнансом. – Я сейчас вернусь».
Он лежит в соломе, как общипанный петух, но улыбается. Тоже, небось, рад, думаю, что концерт окончен.
Захожу в дом. Зову Хильду. Пусть ее поиграет в самаритянку, залепит пластырем ссадины, это для нее наверняка будет кое-что значить. Зову Хильду.
«Я тут», – жалобно пищит она, стуча изнутри в дверь. Ты не поверишь, Густав, старик ее запер.
– Ужасный был день, – вздохнула Хильда. – Всегда ужасно, когда мужчины схватывались друг с другом, снова и снова...
– Но, лапочка, – перебил жену Макс, – я же как раз рассказываю, как все чуть было не обернулось добром. Слушай, Густав. Так вот. Выпустил я, стало быть, Хильдхен, она с плачем падает мне на грудь, по-прежнему на ней черная шляпка, вуаль на голове, я осторожненько вытаскиваю шпильки из волос, а это не так-то легко; тюль изорвал в лохмотья, целую свою несчастную Хильдхен. Все хорошо, говорю, жив он, пощипан только, прихвати аптечку. Она так и сделала. Я взял бутылочку пшеничной, подбегаем к хлеву и видим: перед Даниэлем стоит мой тесть. Верно, думаю, хочет парня задобрить, из-за драки. Старик, поди, струхнул, и не без причины, – в его время суд не больно-то церемонился: кто оскорбил представителя власти, мог спокойно рассчитывать на пару годиков.
Старик, значит, стоит перед Даниэлем. Гляжу – парень застегивает рубаху, медленно-медленно, одну пуговицу за другой, надевает куртку – тщательно так, отодвигает старикана в сторону, пристально смотрит на меня и, помолчав, говорит:
«Возьми председательство на себя. Я уеду из Хорбека», – и, ей-богу, сплюнул мне под ноги. Хильда, добрая душа, вцепилась ему в плечо:
«Не уходи так!»
Он в сердцах стряхнул ее руку.
– Да-да, – отозвалась Хильда. Она сложила руки на коленях и вертела на пальце обручальное кольцо. Она носила его почти двадцать лет, и кольцо уже слегка потерлось. – Так оно и было, я помню. Он крикнул: «Что вы за люди!» – и ушел со двора, согбенный, точно древний старик... – Хильда подняла голову: – Я так и не поняла, почему он уступил тебе место, Макс.
– Я и сам сперва не мог понять, – сказал Штефан, – но еще той же ночью выяснил: некто держал Друската в кулаке, имел что-то вроде документа, датированного апрелем сорок пятого. Там написано, что Друскат выдал эсэсовскому военно-полевому суду в Хорбеке беглого поляка и что за это его наградили Железным крестом. Нацистская печать, подпись, вне всякого сомнения, подлинная.
Хильда недоверчиво улыбнулась.
– Ночью, когда мы сбежали, якобы все и случилось.
– Не верю! – тряхнула головой Хильда.
– Спроси у отца. Документ был у него. Пойми же, Хильда, твой отец шантажировал Даниэля: либо исчезнешь из Хорбека, либо бумажонка попадет к властям.
Муха жужжала в комнате, кружила над увядшим букетом. Гомолла потер пальцами веки, как человек, которому пришлось снять очки, потому что заболели глаза.
– Теперь вы знаете.
Штефан не сводил глаз с жены. Она съежилась на краешке кресла, облокотясь на колено и закрыв лицо руками. Потом наконец подняла голову, очень медленно, и поверх кончиков пальцев посмотрела на мужа.
– Вы все знали, отец и ты... Знали и воспользовались. Боже праведный!
Она хотела встать с кресла, казалось, это было для нее бесконечно трудно. Штефан вскочил, пошел к ней, раскинув руки, но Хильда отвернулась, подняла руку, словно отстраняя нечто мерзкое:
– У меня такое чувство, словно ты опять ударил меня в лицо.
– Хильда!
Она поднялась, неверными шагами подошла к стулу, схватилась, ища опоры, за спинку и сказала бесцветным голосом:
– Мне так стыдно.
Ни слова больше, ни взгляда на Гомоллу, на Макса, она даже дверь за собой не закрыла, выйдя из комнаты.
Штефан не посмел пойти за ней. Ее поведение не удивило его. Он предчувствовал: Хильда расстроится или растеряется, услышав его признание-исповедь, он думал, она заплачет или беспомощно затихнет, Макс знал свою «милую растяпу», как он называл ее в юности. Он был готов ко многому. Но Хильда не заплакала, а в присутствии Гомоллы точно с отвращением подняла руку, чтобы отстраниться от мужа. Он чувствовал себя неверно понятым, был глубоко обижен и не мог в этот момент предположить, что произойдет через четверть часа. Хильда впервые примет решение – ничего необычайного для женщины, в общем-то. И все же, если бы кто-нибудь заранее сказал Штефану, что́ произойдет, он бы громко расхохотался в ответ.
Мужчины уже некоторое время стояли во дворе на солнцепеке; они не разговаривали, каждый думал о своем. Штефан изредка мрачно поглядывал на двери дома. Наконец Гомолла нарушил молчание:
– Что же дальше? Поедет она с нами в Альтенштайн или нет? Может, выяснишь?
Штефану не понадобилось ничего выяснять: он увидел, что Хильда открыла дверь.
– Вот же она!
«Ну ладно! – подумал он и знаком позвал Гомоллу к машине. – Поехали!»
Он уже втиснулся за руль, когда Хильда крикнула с крыльца:
– Машина нужна мне!
Макс наморщил лоб, глянул через плечо в заднее стекло – вроде все в порядке. Хильда надела пыльник, потом торопливо сбежала по ступенькам крыльца, в руках у нее был чемоданчик – это еще зачем? Она подошла к машине. Макс опустил стекло:
– Что ты сказала?
Хильда, не глядя, швырнула чемоданчик на заднее сиденье, потом требовательно протянула руку:
– А паспорт на машину?
Штефан, охая, выбрался наружу. Он потел и злился. Требование Хильды показалось ему странным и бессмысленным. Она же знала, что им с Гомоллой нужен автомобиль. Она в замешательстве? Ну хорошо! Вечером можно высказаться, наедине, только без новых сцен! Гомолла подходил все ближе и ближе. Штефан совсем упал духом.
– Дорогая, – просительно начал он... как давно он не говорил «дорогая». – Я тебя не понимаю.
– Мне нужна машина, – настаивала Хильда.
– Зачем?
– Я не знаю, чем ты тогда себя успокоил, – сказала Хильда и внезапно повернулась к Гомолле, – или ты!
– Я? – Гомолла не верил своим ушам. Чего ей от него надо?
– Но я знаю: каждый из вас извлек тогда для себя выгоду, – сказала Хильда. – Ты тоже!
– Ты, видно, не соображаешь, что говоришь? – Гомолла не на шутку разозлился, по нему было видно, да и слышно тоже: он выкрикнул вопрос, словно с трибуны.
Хильда ответила не менее громко:
– Ты с обеда до вечера торчал в деревне, тогда, в шестидесятом, и не догадался, что Даниэль в беде? – Она язвительно засмеялась. – Главное, строптивцы наконец в кооперативе, важнее для тебя в тот день ничего не было.
– Слушай-ка, – Гомолла поднял брови, – коли тебе охота играть в обвинители, будь любезна, обращайся к мужу!
– За старика пускай возьмется, за эту жалкую развалину! – возмутился Макс.
Несмотря на летнюю жару, Хильда собрала рукой у шеи воротник, словно ей было холодно.
– Это омерзительно! – она огляделась и сказала: – Все выглядит по-старому: красивый дом, липы во дворе, все, как всегда. – Она легонько тряхнула головой. – Для меня все изменилось, с той минуты, как я узнала, что здесь произошло. Сейчас я ничего не могу сказать. Я еду к Ане в Альтенштайн.
– Хильдхен, пожалуйста, будь благоразумна! – почти взмолился Штефан. – Может, Розмари уже давным-давно занялась девчонкой.
– Мне по крайней мере надо убедиться. С сегодняшнего дня я хочу знать все, Макс! Давай паспорт!
Хильда сказала это так, что Штефан понял: жена говорит абсолютно серьезно. Теперь, в полдень, она едва ли была иная, чем утром, и все же отныне кое-что изменится, оба они с этого дня и часа не смогут больше жить друг с другом так, как привыкли за эти почти уже двадцать лет. Он больше ничего не стал говорить, отдал ей паспорт на машину и при этом не мог отделаться от чувства, что отдает гораздо больше. Она кивком поблагодарила, села в автомобиль, поправила сиденье. Макс подскочил, хотел помочь.
– Спасибо, я сама!
Взревел мотор, слишком громко, она включила скорость, лязгнуло сцепление, задымил выхлоп – машина вырулила со двора. Еще вчера Штефан болезненно скривил бы лицо, теперь же он только смущенно провел ладонью по лысине, потом повернулся к Гомолле.
– Как же мы теперь доберемся до Альтенштайна?
– Ты ведь человек изобретательный, – отозвался Гомолла. Ему тоже перепало от Хильды, и все же Штефану показалось, что старик чуть злорадно улыбается.
Глава третья

1. Друската провели к прокурору. Прокуратура помещалась в здании окружного суда. Война пощадила этот дом старинной кирпичной кладки, расположенный вблизи Городского вала. Раньше он, должно быть, принадлежал монастырю, но вот уже почти два столетия здесь заседал суд и выносились приговоры: сначала именем великих герцогов этой земли, происходивших из мекленбургского рода, а затем, в период Веймарской республики и в годы нацизма, «именем народа». Так, во всяком случае, утверждают документы. Благодаря надежным стенам подвала архив уцелел, сохранились протоколы допросов, тексты приговоров и счета палачей.
Из документов, например, явствует, что еще в двадцатые годы одному осужденному отрубили голову. Это был жнец-поляк, которого обвинили в детоубийстве, и, как выяснилось вскоре после казни, необоснованно. Обвиняемый, почти не владевший немецким языком, не мог следить за ходом судебного разбирательства, и лишь во дворе тюрьмы перед эшафотом и палачом он наконец понял, что его ожидает. И тут он пролепетал: «Нельзя ли мне спросить у господина, за что я умираю?» Сопровождавший его на плаху священник, однако, посоветовал: «Смиритесь, сын мой!»
В архиве хранится также судебное дело от 1930 года. В нем бывшему офицеру рейхсвера предъявлено обвинение в том, что он из охотничьего ружья застрелил сельскохозяйственного рабочего-коммуниста. Несмотря на многочисленные улики и неопровержимые свидетельства, доказать убийство не удалось, и преступник был оправдан.
Зато коммунистов и социал-демократов после прихода Гитлера к власти юстиция карала с беспощадной жестокостью.
На тысячу лет был рассчитан этот так называемый третий рейх, кровавое детище нацистов. В войну с ним было втянуто полмира. Через двенадцать лет, когда захватнические орды были разгромлены, рейх наконец рухнул.
Гарнизон вермахта, расположенный в этом городе с пятью воротами, отказался сдаться Красной Армии. В порыве бессмысленной ярости фашисты успели почти полностью разрушить город, прежде чем в апреле сорок пятого там воцарился мир. По счастливой случайности средневековая городская стена с увенчанными зубцами кирпичными воротами выстояла в этом огневом штурме: в ту пору она окружала груды развалин, среди которых поднималось лишь несколько уцелевших домов, в том числе здание суда.
Новые судьи пришли в этот дом, многие из них сами пострадали от произвола гитлеровской юстиции. В своей работе они на первых порах руководствовались одним лишь стремлением к справедливости да классовым сознанием, и это было в то время намного весомее, чем знание статей закона и искусство их толкования. Тогда все еще действовал буржуазный гражданский кодекс. К суду стали привлекать военных преступников, фанатичных нацистских молодчиков, доносчиков. Виновные в смерти так называемых «восточных рабочих» также не могли рассчитывать на снисхождение, и все это одобряли. Работы у новых судей было много, и они себя не щадили, но все же рука правосудия настигала не каждого преступника.
К связке дел за сорок пятый год подшит протокол, в котором значится, что такого-то числа у прокурора побывали Ирена Янковская и трактирщица Анна Прайбиш, по мужу Нойман, обе проживают в Хорбеке. Они просили разыскать некоего Владека Янковского, дальнего родственника Ирены. Этот человек, по их словам, вынужден был в последние часы войны скрываться от СС, однако исчез из своего укрытия и, вероятно, был убит. Накануне вступления в Хорбек Красной Армии в деревенской церкви ночью слышны были выстрелы и крики, очевидцы могли бы это подтвердить. Следствием действительно было обнаружено несколько пулевых отверстий в церковной скамье и следы крови на каменных плитах пола, однако судьбу Владека Янковского выяснить не удалось.
Кое-кто из преступников еще долго разгуливал на свободе, как, например, тот врач, которому даже не понадобилось скрываться под чужим именем. Его звали Майер, а такая фамилия в стране не редкость. Он обосновался с женой и детьми в прекрасном доме в отдаленной деревне на берегу реки. Майер слыл уважаемым человеком, и больные, доверяя ему и его искусству, издалека ездили к нему на прием на протяжении многих лет. Однажды выяснилось, что он работал врачом в концлагере и отправил в газовые камеры десятки тысяч людей, хотя позднее с помощью уколов и рецептов ему удалось спасти жизнь, пожалуй, не одной тысяче человек. Что тут было высчитывать и взвешивать: его приговорили к смертной казни.
Такие дела в пятидесятые годы в окружной суд попадали редко, в основном он занимался хищениями и спекуляциями. При открытой границе в ту пору постоянно наезжал всякий сброд по своим темным делишкам. Это наносило ущерб экономике, население испытывало нужду в тех или иных товарах, и поэтому пришлось решительно бороться со всеми проявлениями безответственности. О некоторых подобных случаях рассказывают архивные документы, сохранившиеся в подвале суда.
Так, например, много толков вызвал приговор, вынесенный в пятьдесят третьем году, когда на два года тюрьмы был осужден управляющий народного имения в Б., прекрасный агроном и известный животновод. Поданная им апелляция была отклонена. Пока он находился в городе на совещании, в имении сгорела рига с зерном. Пожар вызвала неисправность в электропроводке, которую давно никто не проверял. Управляющего обвинили в халатности и заставили отбывать наказание.
В это же время по обвинению в растрате в тюрьме сидел руководитель школы молодых активистов. Этот юноша вздумал накормить бесплатным гуляшом участников окружной молодежной конференции и без соответствующего разрешения велел заколоть одну из двух свиней, которых откармливали на школьной кухне. Свои действия он пытался оправдать «указаниями сверху», однако имен назвать не пожелал. Судьи не проявили к нему снисхождения.
Правда, в документах за пятьдесят четвертый год значится, что уже через три месяца обвиняемый был освобожден. Рассказывают, что некое высокопоставленное лицо из Союза немецкой молодежи заявило энергичный протест против несправедливого приговора, но, скорее всего, это легенда – в бумагах это лицо не фигурирует.
Кстати, сейчас, спустя двадцать лет, бывший молодой злоумышленник является заместителем министра.
Вскоре приняли новые законы, времена изменились и с ними – меры наказаний и мотивы преступлений. От нужды никто уже больше не ворует, зато юристам наших дней, дипломированным детям рабочих и крестьян, довольно часто приходится сталкиваться со случаями злоупотребления властью, хулиганства и отвратительного стяжательства.
2. Узкая и крутая, как в старинных башнях, каменная лестница соединяет этажи здания, за долгие годы ступеньки ее стерлись. Сколько людей поднималось по ней, виновных и невиновных, правых и неправых. Что они ощущали при этом?
Друскату казалось, что он не испытывает страха, и все же он почувствовал некоторое смущение и подавленность, когда, поднявшись по лестнице, наконец зашагал по выкрашенному в светлые тона коридору, ведущему в прокуратуру. Освещение было необычным, дневной свет проникал из глубоких ниш, пробитых в каменных стенах, и ложился на плиты пола причудливым узором. Это напомнило ему древний русский собор, который он видел во время поездки в Советский Союз. Цилиндрический свод при входе в церковь еще до нашествия монголов был расписан фресками в строгом византийском стиле, они изображали сцены Страшного суда. В самом низу, справа и слева, – апостолы, за ними – архангелы, а еще выше, ряд за рядом, – несметное число небесных судей меньшего ранга. Все они, однако, были настолько искусно изображены старыми мастерами, что их гневные взоры устремлялись прямо на входящего: сотни ангелов мести преследовали его своими грозными взглядами, куда бы он ни повернулся. Крестьяне и их жены при виде этого скопища слуг небесных в страхе осеняли себя крестом и бросали спасительные взоры на богоматерь, образ которой в золоченой раме висел на темно-голубой стене иконостаса. Этот образ растрогал Друската, особенно младенец Христос, сидевший на коленях у этой незатейливой мадонны. На нем были сапожки, шаровары и крестьянская рубашка с красным кушаком.
Друскат подумал: «Розмари... Надо было бы сказать ей, когда все это кончится. Аня... Как она это вынесет?»
Он сидел перед прокурором наверняка уже несколько часов. Интересно, сколько сейчас времени? Друскат взглянул на часы, было около полудня.
– Торопишься? – спросил его прокурор. – Странно. Ведь ты лет двадцать пять никуда не торопился.
«Сколько ему может быть лет? – подумал Друскат. – Пожалуй, он лет на пять-шесть моложе меня. И все же, кажется, он принадлежит к совершенно другому поколению. Быть может, он еще помнит о грудах развалин, и уж наверняка ему довелось видеть нацистов, эсэсовцев или солдат в форме вермахта, но многим, кто был тогда в моем возрасте, кому было шестнадцать, еще пришлось носить эту форму в войсках противовоздушной обороны в фольксштурме. Это был последний резерв Гитлера. Сколько нас еще было разорвано на куски, сколько пропало без вести и сколько погребено под руинами. А он тогда был еще ребенком. Что он может знать о нуждах и страхах моего поколения, о нашем энтузиазме и о нашей мечте изменить все к лучшему? Разве сможет он понять меня, разве сможет быть справедливым судьей?»
Деринг, так звали прокурора, был известен своим блестящим красноречием и снобизмом. Друскату изредка доводилось слышать его выступления на конференциях. Ему не нравилась манера этих выступлений, он называл ее про себя «политконферансом» и потому доверился этому человеку нехотя. Однако Деринг выслушал его внимательно и по-деловому, вот только этот вопрос: «Торопишься? Странно. Ведь ты лет двадцать пять никуда не торопился».
Друскату нечего было возразить, и он промолчал. В комнату вошла секретарша.
– А, протокол! – Прокурор сделал жест рукой. – Сюда, пожалуйста.
Женщина подала Друскату несколько страниц. Он мельком, страницу за страницей, скользнул по ним взглядом, да, да, именно так он говорил, и, поставив свою подпись, отодвинул бумаги от себя. Когда секретарша ушла, он сказал:
– Я ничего не утаил. Эксгумация подтвердит мои показания. Свидетелей нет, нет никого, кто бы мог снять с меня подозрение, да я и не хочу, чтобы его снимали. Я хочу только одного... – Он вдруг осекся, подумав, что Деринг, чего доброго, снова съязвит насчет его нетерпеливости, но все же договорил: – Я хочу, чтобы все это кончилось, и как можно быстрее.
– Видишь ли, – немного помолчав, произнес прокурор, – само дело, уголовное дело, – это ведь только одна сторона вопроса, другая – твое молчание. Ты можешь сказать, что это нас не касается, что здесь ты ответишь перед партией. Тебе действительно придется это сделать. Гомолла устроит тебе разнос. – Деринг слегка улыбнулся, он знал Гомоллу. – Хорошо, если все ограничится разносом. Кстати, он звонил. Он будет здесь примерно через час.
– Гомолла? – удивленно переспросил Друскат.
– Он хочет поговорить с тобой. – Прокурор поднялся из-за стола, тоже посмотрел на часы, теперь и он вдруг заторопился. – Ай-ай-ай, у меня ведь еще одна встреча. – Он вынул из шкафа свое пальто и, перекинув его через руку, на какое-то время задержался в дверях. – Можешь подождать Гомоллу у меня в кабинете. Подумай, в чем тебе еще нужно исповедаться.
Друскат с раздражением повторил уже сказанные слова:
– Я ничего не утаил.
– Ничего?
Друскат готов был вспылить, но не успел: вопрос Деринга, прежде чем тот закрыл за собой дверь, озадачил его:
– Может быть, кое-кто был заинтересован в твоем молчании? Действительно ли никто от этого не пострадал?
Друскат подумал: «Какое мне до этого дело? Хорошо, что я смог наконец-то выговориться, что мог говорить и говорить, уставившись на магнитофон, пока лента наматывалась сначала на одну кассету, потом на другую. Иногда я посматривал на прокурора и, когда он задавал вопросы, отвечал на них по совести, нет, я ничего от него не утаил. Я помню все, каждую подробность той ужасной ночи. Она началась грохотом орудий, от которого дребезжали стекла. Потом зазвонил колокол Хорбека, в это время Владек был уже мертв, но тот, другой, еще жил, ему оставалось жить недолго. Хорошо, что я смог наконец-то выговориться, и хорошо, что прокурор теперь ушел, и я могу побыть один, и не нужно больше напрягаться. Я устал, ночью не сомкнул глаз, как хочется опустить голову на стол и спать, спать. Но спать нельзя. Может быть, они мне дадут чашку кофе? Скоро Гомолла будет здесь, что я скажу? Я молчал слишком долго, спору нет, виноват. Но вреда это никому не принесло, никому, кроме меня. Я вкалывал как зверь, потому что хотел загладить свою вину. Это стоило сил только мне, только мою собственную душу разъедало то, что я вынужден так жить. Вынужден. Кто был заинтересован в моем молчании? Макс Штефан? Крюгер? Да, поначалу казалось, что это так, и я думал, что весь мир обрушился на меня. Это было тогда, в шестидесятом, весной...»
3. Драка с Максом была ужасной, мы здорово отделали друг друга, но вдруг, странная метаморфоза чувств, невольно расхохотались:
«Слушай, ну и вид у тебя».
Друскат сидел на вязанке соломы в коровнике у Штефана. Лицо у него было в кровоподтеках, губа разбита. Он выглядел бесконечно усталым после этой схватки, которая началась так, словно одному из них суждено было сложить голову. У него ныла каждая косточка, но он не чувствовал ожесточения к другому, к этому буйволу, который был разукрашен не хуже его самого. Штефан бросил ему мокрое полотенце, Друскат поймал его и вытер лицо. «Тебе все же придется подписать, Макс». Штефан, как в старые добрые времена, беззлобно, возразил: «Ну и дерьмо же ты, старик». Потом Макс куда-то пошел, нет не пошел, а заковылял через двор, подпирая рукой поясницу: кулаки Друската давали о себе знать. Он решил принести шнапса для поднятия духа и мыло: надо хорошенько умыться, не могут же они предстать перед Гомоллой за накрытым скатертью столом словно братья-разбойники, в этот решающий момент они должны выглядеть прилично. Друскат закрыл глаза, он улыбался, как довольное дитя, при мысли, что через несколько минут он абсолютно серьезно, разумеется, как того требует обстановка, скажет Гомолле: «Я привел к тебе Макса Штефана, ему очень хочется стать членом кооператива „Светлое будущее ”».
Вышло иначе. Открыв глаза, Друскат увидел в проеме двери старого Крюгера. На улице быстро темнело. Крюгер зажег фонарь. Дрожащими руками он поднес к свету какую-то бумажку.
«Знаешь, что это такое?»
Друскат узнал записку. Обессиленный, он откинулся на солому, его охватило чувство смертельного страха, как в ту ночь, когда графиня в зале замка Хорбек крикнула: «Кто хочет посветить мне в склепе?»
Крюгер протянул ему бумажку.
«Ты уступишь должность председателя Максу!»
Сердце Друската замерло, но потом его обуяли мысли, множество мыслей разом всколыхнулось в его мозгу: «Что делать, за что хвататься, как спасти себя? Нужно прикончить этого старого калеку, который через пятнадцать лет после той ужасной ночи хочет вызвать мертвецов из могил, чтобы мучить и шантажировать меня. Прочь из этого коровника, из этой деревни, туда, за холм, бежать, бежать! Но куда?»
«Ты уступишь должность председателя Максу!» – повторил Крюгер.
Друскат вспомнил об ужасах, которые разыгрались в церкви Хорбека. Он видел сцены, слышал шорохи; вот раздался выстрел, его схватили за руки. Пьяные офицеры и ему пустят пулю в лоб, но нет, графиня подала знак рукой: «Отпустите его! Выше светильники!» – приказала она. Взгляд на расстрелянного поляка. И улыбка. Она предназначалась ему. Графиня и правда потрепала его по щеке. Потом один из них подскочил к веревке колокола, ударили в набат, и колокол на башне загудел в ночи: русские приближаются, спасайтесь! Гул шагов удалился. Тишина. А Владек был мертв. Он лежал в луже крови перед рядами белых церковных скамеек. И этот старый пес Крюгер, должно быть, тоже все видел, сумел раздобыть документ, возможно, он видел и другое, чего доброго, знал и о могиле возле скал?
«Я не могу идти к Гомолле, – подумал Друскат. – Он мне не поверит, никто мне не поверит, меня арестуют, будут допрашивать, будут презирать. Я не могу идти к Гомолле, я должен выиграть время, хотя бы один только день, один час».