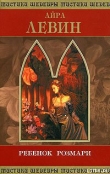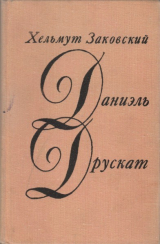
Текст книги "Даниэль Друскат"
Автор книги: Гельмут Заковский
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
«Госпожа графиня, я к этому не имею никакого отношения», – возразил я.
Но ее милость заявила, что как ортсбауэрнфюрер я отвечаю в деревне за все. Она приподняла платье, чтобы не споткнуться, и, воскликнув: «Господа, я на вас рассчитываю!» – быстро спустилась по лестнице вниз. Промчавшись на бронетранспортере по деревенской улице, она исчезла за поворотом, больше я ни разу ее не встречал.
Охранники втолкнули меня в церковь. То, что я увидел, было страшно: перед алтарем толпились смеющиеся офицеры с блестящими позументами и черными лычками на воротниках френчей. Под большим распятием на алтаре колыхалось пламя свечей, господь бог, наверное, удивлялся, видя, как какой-то ординарец, плеснув шнапсу в церковный ковш, пустил его по кругу. Они пили, а орган все гремел: «Германия превыше всего...»
Перед церковными скамьями в луже крови лежал поляк, а молодого Друската, – голова старика упала на грудь, – я сам видел! Друската двое держали под мышки, словно он уже не мог стоять. Один из господ, старший по чину, что-то писал на алтаре. «Как зовут мальчишку?» – крикнул он. «Даниэль Друскат», – ответил парень. Раздался хохот, это же полячишка, ну так и быть, ординарец подтащил стальной ящик, открыл его и вытащил орден. Он болтался на черно-бело-красной ленте. А потом я собственными глазами видел: они торжественно повели Друската вверх по ступенькам к алтарю. Старший по чину поднес к его губам церковный ковш. Не знаю, может быть, парень был верующий, он заплакал, но это ему не помогло, пришлось пить. А кто-то, словно благословляя мальчишку, поднял над его головой три пальца и крикнул – я как сейчас помню и, если нужно, могу повторить под присягой: «Да простятся ему все грехи за то, что в час наивысшей опасности для отечества он проявил себя как истинный немец, выдал поляка, за что и награждается Железным крестом». И они повесили ему на шею орден.
За всей этой суматохой господа совершенно забыли, что я должен был подписать приговор. Я и сейчас еще на коленях благодарю творца! Представь себе, Юрген, меня бы за это могли потом вздернуть.
Вдруг крик: «Русские!» Перед церковью взвыли моторы, органист в форме слетел вниз по деревянной лестнице, кто-то выстрелил в воздух, господа валом повалили мимо меня. Вдруг какой-то адъютант схватил меня за рукав:
«А это что за птица?»
«Я Крюгер, – ответил я, – бургомистр и ортсбауэрнфюрер».
Офицер сунул мне в руки свидетельство о награждении Железным крестом и сказал:
«Отдай парню, – потом, захохотав, добавил: – Или вытри им задницу».
Я не хотел вредить Друскату и оставил его наедине с расстрелянным. Нет, он был не один, там еще был Доббин, управляющий. Они оба не видели меня, и я тихонько пробрался к двери.
Крюгер сидел на ступеньках дома, солнце нещадно палило ему в лицо, иссеченное морщинами. Прикрыв глаза рукой, он посмотрел на Аню и Юргена и сказал:
– Друскат виноват в смерти поляка, это ясно как день. Он должен благодарить меня, что я никому об этом не рассказывал. Поляки в лагере избили бы его до смерти. С такими в сорок пятом разговор был короткий.
Я держал все в тайне, но, когда он начал строить из себя комиссара, захотел отнять у меня усадьбу, тут я решил бороться, тут я сказал: отступись или я расскажу то, что видел. Кто может меня упрекнуть? Вон посмотри, Юрген, на дом, какой он красивый. Твоему отцу комната показалась тесноватой, он велел снести одну стену, и, когда ее стали разбирать, обнаружили чугунную плиту. На ней стояла дата: 1750 год. Этому дому и усадьбе двести лет, здесь жили и трудились Крюгеры, здесь они рождались и умирали из поколения в поколение. Ты их наследник, сыночек, понимаешь?..
Старик хотел было подняться со ступенек, но это оказалось нелегко – уже лет двадцать с лишним его мучила подагра. Он протянул внуку огрубевшие от работы узловатые руки, чтобы тот помог ему встать, но Юрген отвернулся, взял девочку за руку, и оба, не говоря ни слова, вышли со двора.
Крюгер с трудом поднялся и устало поплелся к сараям. Он открывал одну дверь за другой и, словно ища чего-то, заглядывал в мрачные помещения: пусто. Старик покачал головой, будто впервые с удивлением обнаружил такое, и шаркающей походкой побрел куда-то. Наконец Крюгер остановился посреди двора, и в лучах послеполуденного солнца он показался ему заброшенным и осиротевшим.
Потом старик нагнулся, кряхтя взялся за метлу и принялся снова тщательно и размеренно мести двор. На дворе не было ни травинки, ни единого листочка, но Крюгер делал то, что привык делать десятилетиями.
Глава пятая

1. Друскат стоял у окна в кабинете прокурора. Долгие часы он провел в этой комнате, отвечая на вопросы и раздумывая. Теперь ему хотелось отвлечься, он глядел поверх крыш на строительные леса, на яркие бетонные кубики вдали. Они вырастали на холме, за последние годы поднялись целые кварталы. Центр города тоже день ото дня менял облик, целиком превратившись в строительную площадку. Друскат любил этот город, который кое-кто бранил за унылые окрестности; он считал, что благодаря соседству противоположностей город не утратил естественности и своеобразия: средневековые ворота, зубчатая крепостная стена с бойницами и тут же неподалеку многоэтажные жилые дома, а рядом с колокольней у развалин готической церкви – ее собирались перестроить в концертный зал – высился скромный небоскреб Дворца культуры. Открылась дверь. Друскат обернулся, ожидая увидеть Гомоллу, но в комнату вошел вовсе не старик. Принесли обещанный кофе. Секретарша прокурора поставила на стол посуду:
– Прошу вас.
Друскат поблагодарил. Ему ведь еще ждать и ждать – как долго?
Прокурор сказал: «Подумай, в чем ты еще должен покаяться!»
Не в чем мне больше каяться. Долгие часы мне пришлось сидеть перед товарищами, припоминая все подробности. Они выяснили, как нашли свою смерть Владек и управляющий, но хотят узнать от меня еще больше – как связаны с убийством некоторые повороты моей жизни. Рассказал я не все.
Касаются ли кого-нибудь мои увлечения? Никого! И Гомоллы они не касаются, а уж юстиции тем более. Какое отношение имеют ночи, что я провел с женщиной, к той ночи в хорбекском замке? Ни малейшего, и никому я об этом не расскажу. Зато понимаю, что тех женщин, которых я любил, старая история так или иначе коснулась – и Хильды, и Ирены, и Розмари.
2. Ах, Розмари...
Есть такая песня у одного поэта, у этого певца лугов и лесов, нынче он не слишком в чести, и, в общем, правильно, но одну из его песен, сентиментальную и, пожалуй, слегка банальную, я не забыл по сей день. Слыхал я ее в то время, когда новых песен было маловато, по деревням еще распевали старые – в том числе и эту, про Розмари.
Действительно, семь лет я ничего о ней не слышал, не получил ни единого письма, сколько ни ждал – она ведь наверняка знала, что Ирена умерла. Она ушла из моей жизни, я думал, навсегда, пока однажды не встретил ее снова.
Это было в шестьдесят седьмом. В Лейпциге заседал крестьянский съезд. Спустя семь лет после событий в Хорбеке, которые чуть не сломали всю мою жизнь, спустя семь лет после попытки Макса Штефана остановить похоронным шествием поступь эпохи, спустя семь лет я вошел в огромный зал – тысячи делегатов, все уже сидели на своих местах, в первых рядах посланцы социалистических стран. В те дни в большой политике, очевидно, происходило что-то особенное – уж не припомню, о чем шла речь, время быстротечно, – во всяком случае, глава правительства ФРГ прилетал на американском военном самолете в Западный Берлин; демонстрация силы – мы посмеивались, – демонстрация прошла втуне, наше правительство вместе с половиной Политбюро спокойненько посиживало в Лейпциге с крестьянами, и, когда я все это увидел – в одном зале такое количество сельских делегатов и политических деятелей, – у меня окрепла уверенность, что мы сильны и могучи, и я даже слегка загордился, потому что был одним из этих могущественных людей, сидевших ряд за рядом, плечом к плечу...
Вдруг – не могу толком описать – меня пронзило ощущение не то огромной радости, не то смертельного ужаса: далеко впереди я заметил Розмари. Она привычно склонила голову к плечу, как всегда, когда с интересом слушала, я видел ее профиль и уже не помнил, кто там говорил с трибуны, не слышал, о чем он говорил, я не сводил глаз с Розмари, чувствуя внутри странное напряжение и понимая, что не перестал любить ее.
Наконец объявили перерыв. Я протискивался между рядов, торопливо, впопыхах, пробивался сквозь бурлящую массу людей, как одержимый искал Розмари и вдруг очутился прямо перед ней. Дыхание перехватило, все вокруг будто замерло, каждое движение, каждый шорох, и сам я словно оцепенел. Ни шевельнуться, ни руки поднять не могу, такое чувство, будто от одной этой минуты встречи зависит вся моя жизнь. С мучительным усилием я подбирал слова и вдруг услыхал собственный хриплый голос:
«Здравствуй, Розмари...»
Она посмотрела на меня долгим взглядом, очень серьезно. Тело мое все еще было точно каменное, и тут она улыбнулась. Сперва заискрились, усмехнулись глаза, потом на щеках появились маленькие ямочки, я увидел, как в уголках рта образовались две складки, стали глубже и веселее, и наконец приоткрылся рот, и я почувствовал, как ее улыбка согревает меня, как стучит мое сердце; наверное, от смущения я покраснел, как мальчишка. Розмари рассмеялась.
«Здравствуй, Даниэль».
Она шагнула ко мне, поднялась на цыпочки и поцеловала в щеку, как доброго друга. Заклятие спало, я мог поднять руки, взять девушку за плечи, больше всего на свете мне не хотелось выпускать ее. Но в этот момент я снова услыхал многоголосый шум перерыва, заметил обтекавший нас людской поток, сейчас нас разлучат, до меня уже доносился зов ее друзей:
«Идем!»
Меня тоже окликнули:
«Друскат, к делегации!»
Еще секунду я крепко сжимал руку Розмари, успел спросить: «Сегодня вечером, в баре?» – и услышать в ответ: «Может быть». Потом нас разлучили.
Он нетерпеливо ждал вечера, потом долго изнывал от ожидания в полутемном зале. Сидел в мягком кресле, изредка подносил к губам рюмку, вполуха прислушивался к разговорам коллег, односложно отвечал, когда к нему обращались с вопросом, – это никого не удивляло, он слыл человеком замкнутым. Наконец появилась Розмари. Он вскочил и пошел навстречу, они медленно сходились, глядя друг другу в глаза, они улыбались. Он подвел Розмари к одному из мягких кресел, она села и почти утонула в нем. Он пристально смотрел на нее, не в силах сказать: я все еще люблю тебя. Все прочее казалось ему маловажным, он не мог просто болтать с ней о пустяках, смущался – мужчина под сорок! – в конце концов выдавил: «Потанцуем?» Она кивнула и встала, неторопливо и даже несколько равнодушно, как ему почудилось, может быть, ей больше хотелось поговорить с ним. Подойдя к танцующим, она остановилась, в ожидании приподняла руки; он схватил ее, вот она снова в его объятиях, они совсем близко, но чужие. Ему хотелось остаться с нею наедине; как часто прежде они бывали одни – в рощице на озере. Сотни раз достаточно было одного взгляда – и она шла за ним, одного прикосновения – и она ложилась рядом. Прошло время, они были те же и другие. Друскат отчетливо угадывал перемену, чувствуя щеку женщины у своего лица, вдыхая знакомый аромат ее волос; он видел красноватый свет, слышал ритмичный шорох ударных инструментов. Просто не верилось, что это он ведет Розмари по зеркальным мраморным плитам помпезного зала.
Его коллеги вполне естественно отнеслись к тому, что гостей со всего света переселили в другие гостиницы, освободив «Интеротель» для крестьян. Крестьяне столь же непринужденно сидели на табуретах в баре и на мягком плюше, как еще вчера на железных сиденьях тракторов или на скамеечках в доильной. Друскат вдруг ощутил неповторимость минуты: он танцевал с Розмари. Он хоть раз танцевал с ней? Держа в объятиях красивую женщину, он мечтал остаться с ней наедине и почему-то не знал, как это устроить, казался себе неотесанным, и голос его захрипел от волнения, когда он наконец выдавил (ничего более удачного в голову не пришло):
«Тут что-то накурено, может, погуляем немного?»
Она сразу же выпустила его и, как девчонка, хихикнула в ладошку. Потом быстро взяла его под руку:
«Идем».
Они миновали крошечный парк перед оперным театром, вышли на берег утиного пруда.
«Городская лужа, – пренебрежительно сказал он. – Помнишь наше озеро?»
«Да, помню».
«Еще вспоминаешь?» – спросил он.
«Иногда, – сказала она, – иногда, Даниэль».
Они нашли скамейку и сели.
«Между прочим, ты знаешь, что стала еще красивее?» – спросил он.
«Да, – чуть насмешливо улыбнулась она. – Да, знаю».
«Ты добилась, чего хотела, за эти семь лет?»
Розмари ответила не сразу, сначала попросила сигарету. Он протянул ей раскрытую пачку, она закурила, откинулась на спинку лавочки и наконец проговорила:
«Когда я от тебя ушла, я сама не знала, чего хочу. Просто хотела уехать – не зависеть больше ни от чего и ни от кого».
«От человека, который не мог решиться, от постельной истории – всякому понятно», – закончил он.
«Верно, – легко согласилась она, – сегодня женщине незачем казниться от несчастной любви».
Что тут возразишь? Оба молчали, глядя в ночное небо, звездам нелегко было соперничать с яркими огнями большого города.
Через некоторое время Розмари продолжала:
«Пока была с тобой, я чувствовала себя виноватой перед Иреной, а уехав, опять испытывала чувство вины, зная, что оставила тебя в беде, – и тем не менее не могла поступить иначе. Спрашиваешь, чего я хотела добиться? Перебороть свою горькую любовь, потому-то и набросилась на первую попавшуюся работу. Никому, кроме себя самой, я в этом не признавалась. Многие сочли это тщеславием, а на деле это было чистой воды отчаяние, во всяком случае поначалу, только позднее работа стала доставлять мне удовольствие. Не знаю, зачем я тебе это говорю, еще вообразишь бог весть что. Стало быть, чего я хотела добиться? Забыть тебя, Даниэль!»
Ее слова тронули его. Разве он не пережил подобное? Ему хотелось обнять ее, но было страшно прикоснуться, и он спросил:
«Тебе удалось?»
«Я забыла тебя, Даниэль».
Она отшвырнула сигарету и встала. Подняла воротник плаща, потому что было прохладно, сунула руки в карманы и, откинув голову, заглянула ему в лицо.
«А ты, – спросила она, – как было с тобой?»
«Я по-прежнему в Альтенштайне», – сказал он. Потом предложил ей руку, и они пошли дальше через маленький парк, через улицы, мимо освещенных витрин.
«И чем же ты занимаешься? – спросил он. – Какой работой? Ведь ты так и не сказала. Может, уже председатель кооператива, от тебя всего можно ожидать».
«В данный момент я на четвертом курсе. Учусь в университете имени Гумбольдта, на сельскохозяйственном факультете».
Он только сказал: «Ага!» – и больше ничего.
«Ты удивлен?» – спросила она.
«Нет-нет. – Он протестующе поднял руки. – Что ты».
«Вот, – сказала она, как ему показалось, чуточку резковато, – а я-то думала, ты удивишься. Что ж, из Друскатовой кухни в аудиторию, по-моему, это все-таки шаг вперед».
«Что здесь необычного? – нахмурился он и остановился перед витриной. – Смотри. – Он показал на застывшие в неестественно вывернутых позах манекены, изображавшие дам в дорогих шубах. Друскат нагнулся: – Каракуль, десять тысяч, – разобрал он. – Когда-нибудь сможешь себе позволить, доктора недурно зарабатывают».
Она и ты, подумал он, такое нельзя повторить. И что ей делать в Альтенштайне. Погуляем еще немножко в ночи, а потом скажем: «Очень приятно было повидаться, прощай!»
«За восемь тысяч можно купить «трабант», знаешь, я бы не отказалась от маленькой машины, на работе пригодится».
Потом она снова взяла его под руку, и они пошли дальше.
«Трудно было?» – спросил он.
«Что?»
«Все, – сказал он, – учеба», – а имел в виду забвение – трудно было забыть?
«Я часто думала, что не сумею, не справлюсь, брошу, но там подобралось еще несколько человек вроде меня, которые пришли в университет не сразу после школы, и мы всегда держались вместе. Я была не одинока, если хочешь знать».
«Друзья?» – спросил он.
«Друзья», – ответила она.
«Один друг?» – допытывался он.
«Много, – сказала она. – Но теперь твоя очередь рассказать о себе. Что поделывает Аня?»
«Аня?» – Он тихо засмеялся, для начала сообщил, сколько ей лет – одиннадцать, и какая она высокая – он поднял руку до уровня своей груди, и какая хорошенькая – он испытующе посмотрел на Розмари, – точно такая же хорошенькая, как она, потом поведал о любимой дочке поистине чудеса: между прочим, она и хозяйка... нет-нет, он не женился – хотя, видимо, кое-какие шансы у него еще есть... Одно время, Аня тогда была еще совсем малышка и каждое воскресное утро забиралась к нему в постель. – «Однажды я спросил: зачем ты это делаешь? Знаешь, что она ответила? Потому что ты красивый».
Они медленно шли под аркадами Нашмаркта. Даниэль прислонился к колонне, засунув руки в карманы плаща, с гордо поднятой головой, и посмотрел вниз на Розмари.
«Можешь полюбоваться, – усмехнулся он. – Потому что я красивый, дети не лгут».
Она подошла к нему совсем близко, серьезно заглянула в лицо, полуосвещенное и полускрытое тенью:
«Ты изменился, Даниэль».
«Я тебе больше не нравлюсь?» – спросил он.
«Что-то у тебя в лице незнакомое, – сказала она. – Горькая складка у рта, даже когда смеешься. Пока ты рассказывал об Ане, ее не было, а теперь, Даниэль, она снова там».
Она вдруг подняла руку и кончиком пальца провела по резко очерченной складке на его лице, тянувшейся по щеке до угла рта.
Незаметно повернув голову, он почувствовал кончик ее пальца на губах и смог его поцеловать, потом схватил ее руку:
«Мне пришлось вдоволь хлебнуть горя, сама знаешь и удивляешься, что это заметно».
Он вспомнил, с каким отчаянием рассказывал тогда Розмари свою историю, искал ее поддержки, бросился к ней, обнял и бормотал ей в шею: «Мы им докажем, что хозяйничаем не хуже Штефана со всеми его приспешниками. Ты должна мне помочь, любимая, должна, должна».
«Ты достиг того, к чему стремился?» – спросила она.
Он медленно покачал головой, все еще чувствуя на губах ее прикосновение.
«Отчего же?»
Он пожал плечами.
«Наверняка ты чего-то достиг. На этом съезде только лучшие из лучших».
Он язвительно рассмеялся. Розмари вырвала руку.
«Среди слепцов и одноглазый король, – сказал он. – Так и у нас».
Он взглянул вверх на башенные часы: полночь давно минула. Ему хотелось поцеловать Розмари, но он не смел, она уже не прежняя девочка, она невероятно изменилась, скоро защитится, и все же, когда она смотрела на него, Даниэлю казалось, будто он, как прежде, чувствует прикосновения ее рук, он желал ее, но теперь за ней придется ухаживать, как за женщиной, с которой он никогда не был близок, а ведь он уже не юноша. Прежняя страсть к Розмари снова завладела им; он продолжал говорить, и они шагали дальше, по улицам, площадям. Говорили о работе – о том, как он решил доказать, что деревню вроде Альтенштайна можно изменить и даже вытащить из середняков, кое-чего они добились, но хорбекские, Штефан и компания, пока что лучше и гораздо удачливее их.
Не замедляя шага, он взял ее руку, слегка помахал ею, как делают совсем молодые люди, и с широкой улыбкой заметил (нет, сегодня роль кавалера ему положительно не удавалась!):
«Гуляя ночью с красивой женщиной, надо бы говорить совсем о другом. Или не говорить вообще».
«Мне интересно, когда ты говоришь о работе», – сказала Розмари.
Друскат припомнил пирушку у паромщика, и то, как Ирена помогла ему завоевать альтенштайнцев, и как долго все это тянулось, и сколько ему досталось, и что убирать урожай помогали рабочие из города, ведь тогда, в начале шестидесятых годов, в деревнях не хватало техники и рабочей силы, а больше всего, пожалуй, того, что называется сознательностью. В альтенштайнском кооперативе кое-кто вообразил, что можно полностью устраниться от тяжелой работы, они возомнили себя на некоторое время эдакими социалистическими помещиками-феодалами, а рабочий класс считали вроде как преемниками довоенных жнецов. Но он, Друскат, вышиб из них эти замашки, причем, конечно, не обошлось и без скандала. Ему захотелось чуточку развеселить Розмари, и он рассказал ей о фрау Цизениц, потрясающей особе, которая вплоть до сегодняшнего дня осталась его закадычным недругом.
Однажды случилось вот что.
Была суббота – в свое время о выходном в субботу никто не помышлял, да и сейчас у крестьян такое выпадает далеко не всегда, – на альтенштайнскую площадь вырулил грузовик; он прибыл из Ретвица, с цементного завода, и сидели в нем примерно человек тридцать мужчин и женщин. Друскат вызвал их на уборку картофеля – каторжная работа по тем временам, ведь людям приходилось, согнувшись в три погибели, поспешать за прицепленным к плугу гребком, который широкой дугой отбрасывал в сторону картошку, камни и комья земли. Машина затормозила возле правления кооператива, и Друскат вышел встретить приезжих. Водитель вылез из кабины, разминая затекшие ноги, откинул борт, пассажиры начали выбираться из кузова. Друскат протягивал каждому руку, чтобы никто не упал. «Здравствуйте!» Работа предстояла грязная, каждый разыскал дома самые что ни на есть истрепанные вещи, фантастическое старье. Октябрьское утро, туман, холод.
«Я велел вскипятить чайник, – сказал Друскат. – Заходите в дом».
Он провел их в комнату отдыха, вернее, в одно из тех голых, скудно обставленных помещений, украшенных цветными литографиями и посему именуемых клубами. Висевший напротив двери транспарант сообщал: «Село и город – рука об руку». Люди из Ретвица, зажав в окоченевших ладонях горячие кружки, скоро допили чай, бригадир бросил в пепельницу окурок и сказал:
«Ну что ж, пошли, посоревнуемся с альтенштайнцами за корзины, мешки и секунды», – или что-то в этом роде.
В этот момент Друскат взглянул в окно и, как назло, обнаружил, что благородное состязание находится под угрозой. Дело в том, что альтенштайнские крестьянки – во всяком случае, большинство из них – собрались в город. Оживленно переговариваясь, они сгрудились на автобусной остановке, целая дюжина, а то и больше, по-праздничному разодетые, на плечах меховые воротники, даже целые лисьи шкуры с хвостом и головой, поверх пучков шляпки, в руках корзины и сумки – собрались, значит, в обычное субботнее турне по магазинам и в парикмахерскую, точно на полях делать нечего.
Прямо кулаки чешутся – Друскат и впрямь треснул кулаком по столу, ретвицкие только и успели сказать «ну-ну», а он уже вскочил, нахлобучил на голову засаленную шапку, хлопнул дверью и огромными скачками побежал через площадь к остановке. Крестьянки опасливо сбились в кучу, и только одна из них, «корова-заводила», как ехидно прозвал ее Друскат, короткошеяя Цизениц, стояла впереди, отдельно от всех, расставив толстые, похожие на пеньки ноги. Она упрямо глядела на Друската, держа перед животом, как щит, хозяйственную сумку.
Друскат сердито погрозил пальцем и крикнул, что письменно объявлял и в личных беседах просил в эту субботу выйти в поле. Даже через общинного курьера ежедневно оповещал, что в разгар страды эти окаянные выезды в город нужно отложить. Разве не так? Цизенициха воинственно задрала подбородок и подняла брови – глазки ее почти скрылись в жирных щеках – и пронзительным голосом заявила: кому, дескать, охота картошки, пусть изволит ее выбирать, городским не вредно разок прочувствовать, как тяжел крестьянский труд, миновало то времечко, когда женщин в деревнях угнетали, им, мол, и без того досталось, пока с собственными мужиками совладали, теперь никому не след терпеть издевательства председателя, они едут в город, и баста. Голос у нее сорвался, а когда она под конец крикнула, что они-де никому не позволят лишить себя своих завоеваний, крестьянки хором поддакнули.
В этот момент подъехал рейсовый автобус, дверь открылась, двое односельчанок услужливо подхватили толстуху Цизениц под руки, чтобы помочь ей взгромоздиться на подножку, следом собирались взять штурмом узкую дверь и остальные. Но Друскат опередил их и, сделав гигантский прыжок, блокировал дверь.
«Марш на картошку, – заорал он, растопырив руки. Потом гаркнул шоферу: – Трогай!»
Для полноты картины не хватало только пригрозить пистолетом – перепуганный водитель повиновался, должно быть, видал подобные сцены в гангстерских фильмах; он быстро включил скорость, автобус тронулся, Друскат соскочил с подножки и увидел, как женщины, причитая и жалуясь, некоторое время пытались догнать удаляющийся автобус, увидел подпрыгивающие шляпки и развевающиеся пальто. Он стоял на площади, чуть согнув ноги в коленях, уперев руки в бедра, и рычал от смеха.
Цизенициха наконец остановилась, повернулась к Друскату и подняла кулак: я этого так не оставлю! Угрозы он не испугался, потому что из окон комнаты отдыха высунулись представители ретвицкого рабочего класса, смехом и аплодисментами выражая ему свое одобрение. Правда, неприятности Друскату позже придется расхлебывать в одиночку, так как он, естественно, навлек на себя не только возмущение женщин, но и неудовольствие уязвленных мужей.
Он рассказывал обо всем этом, шагая рядом с Розмари по ночным улицам Лейпцига.
«Вот как пришлось вколачивать в них чувство ответственности за кооператив», – он со смехом рассек рукой воздух.
Розмари, очевидно, его рассказ показался не слишком веселым.
«И чего ты добился?» – спросила она.
Он не ответил, лишь подумал: «Почти ничего».
Между тем они дошли до длинного ряда витрин, над которыми сверкала кричаще яркая реклама: ДЛЯ ЖЕНЩИН – ДЛЯ МУЖЧИН. Розмари подошла вплотную к витрине модного салона, любуясь выставленными товарами: пестрыми платьями, элегантной обувью и шелковыми шарфами, затканными блестящими золотыми и серебряными нитями. Друскат бросил взгляд на все это великолепие и заметил:
«Богатым хорбекцам вполне по карману!»
Розмари, склонив голову к плечу, разглядывала зеленое платье, наверно, думая о том, что ей оно было бы весьма к лицу.
«Почему, – вскользь поинтересовалась она, – почему все так, Даниэль?»
Он увел ее прочь от витрины, неторопливо шел рядом по ночному городу, рассказывал:
«Нам не выиграть соревнование с хорбекцами, потому что мы можем взять только трудолюбием и по́том, потому что лишь выискиваем остатки так называемых резервов, а они не беспредельны.
Я прекрасно помню, как Гомолла отчитывал меня много лет назад, когда на повестке дня стояла сплошная кооперация деревень. Почему это нам нужно, товарищ? – спрашивал он. Потому что старый способ хозяйствования изжил себя, производительность единоличной усадьбы выше поднять невозможно. Примерно то же некогда произошло с парусниками, говорил Гомолла, внешне парусные посудины, конечно, весьма живописны, и тем не менее в один прекрасный день пришлось переключиться на пароходы.
Быть может, – продолжал Друскат, – нынче исчерпана производительная мощность кооперативов – ведь мы работаем просто вроде как в большущих усадьбах, наверно, здесь опять та же история, что с парусниками. Я ставил новые и новые паруса на старенькой лодчонке, муштровал свою альтенштайнскую команду, а скорость у нас все равно маловата. Может, я виноват? Может, все мы просто неправильно держимся под ветром? Откуда он дует? Что-то обязательно должно произойти. Скачок к новому. Какой он? Может, на съезде узнаем».
Он рассказывал ей о множестве вещей, которые занимали и мучили его, но частенько задумывался о другом и наконец смолк. Ему расхотелось говорить о работе, он бы гораздо охотнее сказал: Розмари... с каким удовольствием я произношу твое имя... за много лет не было дня, чтобы я не думал о тебе. Ему хотелось привлечь ее к себе и поцеловать, но он не смел, вдруг испугался, что она спросит, как тогда у озера: «Почему ты не пойдешь в суд? Даниэль, почему ты не явился с повинной?» Он молча шел рядом с нею, глубоко засунув руки в карманы, зябко подняв плечи, буйные черные волосы растрепались. «Что я отвечу, если она спросит?» – думал он. Он не заметил, как все ускорял и ускорял шаги, оба они почти бежали через площадь главного вокзала. Мимо с дребезжаньем проехали первые трамваи, с проводов сыпались синие искры, он не обращал внимания, не замечал, что Розмари с трудом поспевает за ним. «Я скажу, – думал он, – смотри, вот моя дочка, сейчас ей одиннадцать, и нет никого, кому я смог бы ее доверить, может статься, мне придется уехать на долгие годы». Собираясь перейти рельсы, он не заметил, как один из трамваев, скрежеща на повороте, двинулся прямо на него. Розмари с криком рванула его назад:
«Даниэль!»
Он остановился, полуобернулся, нахмурился и пристально посмотрел на нее:
«Ты о чем-то спросила?»
Она сокрушенно покачала головой, шагнула к нему – преодолела тот единственный разделявший их шаг, – ни слова ни говоря, взяла его лицо в ладони и коснулась сжатыми губами его губ. Только теперь он вынул руки из карманов, они робко скользнули вверх по ее бедрам, рукам и наконец схватили девушку за плечи. Она обняла его, прижалась лицом к щеке, и они долго стояли так. Наконец Розмари прошептала:
«Скоро утро, Даниэль».
Они быстро вернулись в гостиницу, благо было недалеко, попросили у администратора ключи. Гостевые талоны? Да-да, пожалуйста! Она рылась в сумочке, он шарил по карманам пиджака. Наконец талоны найдены. Пытливый взгляд ночной дежурной: не первой молодости, – наконец движение руки к доске с ключами и очень-очень мимоходом многозначительное:
«Третий этаж! Пятый этаж! Доброе утро!»
Двери лифта открылись на третьем этаже, но Друскат и не думал выходить, он смотрел на Розмари, улыбка не получалась.
«Я провожу тебя до двери», – хрипло сказал он. Под сорок человеку, а разволновался, как двадцатилетний юнец. Скоро они очутились перед ее номером. Розмари прислонилась спиной к двери, скрестив на груди руки, на губах ее играла легкая насмешливая улыбка. Что дальше?
Друскат – он был выше ростом – уперся ладонями в косяки и поймал Розмари в капкан из своих рук, потом нагнулся, потерся щекой о ее щеку, а она вдруг снова хихикнула в ладошку, как девчонка.
«Что тут смешного?» – обиделся он.
«Не знаю, – сказала она, – кто это выдумал, что небритая щека возбуждает чувственность. Наверняка мужчина».
«Что я должен сделать?» – спросил он.
«Отпереть дверь», – сказала она, протягивая ему ключи.
Снова все у нас было украдкой, но как никогда чудесно, потому что я, дорогая, умею любить. Я люблю редко, и моя нежность не растрачена. Тебе понравилось, не то бы ты утром выставила меня из постели куда раньше; было около восьми или даже больше. Остальные мои коллеги уже ждали при полном параде возле лифта, когда я, небритый и бледный после бессонной ночи, присоединился к ним. Все ухмылялись и, наверно, думали о выпивке, а я улыбался, думая о любви. Спустившись двумя этажами ниже, я разыскал свой номер, снова сорвал с себя одежду и весело швырнул на нетронутую постель. Редко я стоял под душем – то холодным, то горячим – с таким наслаждением, я стонал от восторга, дрожал, как на морозе, пел и намыливался; бреясь, тщеславно вертел головой, подмигивал своему отражению и даже поднялся на цыпочки, чтобы рассмотреть себя в зеркале. Я стоял обнаженный, такой, каким меня видела ты, и решил, что выгляжу вовсе не плохо, еще почти молодо, но я же и на самом деле молод – сорока нет.