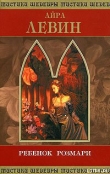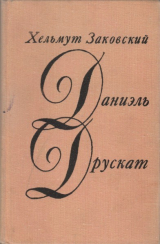
Текст книги "Даниэль Друскат"
Автор книги: Гельмут Заковский
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Позднее он пытался было объяснить ей, что такое любовь и что физическая близость между мужчиной и женщиной вещь абсолютно естественная. Быть может, хотел этим добиться, чтобы она поняла его, однако Аня обрывала отца после первых же фраз и недовольно роняла: «Да знаю я, мы в школе проходим».
Как и все деревенские дети, она знала, что такое спаривание животных, а о любви узнала из книг и стихов: Аня любила читать. Порой ему казалось, что она пока не может помыслить рядом любовь и пол. Но попробуй разберись в этом юном существе?
Сейчас Аня убирала со стола, ставила посуду на поднос. Зажав сигарету во рту, Друскат принялся помогать ей и шепеляво спросил:
– К кому ты ревнуешь?
Она засмеялась:
– Ни к кому.
– И к Розмари тоже нет?
– По-моему, она любит тебя не по-настоящему, – сказала девочка, передавая отцу поднос, и кончиками пальцев вынула у него изо рта окурок.
– Какой ты еще ребенок! Со своими десятью поклонниками знать не знаешь, что это такое, любовь.
Она ласково подтолкнула его в кухню и сказала с улыбкой превосходства:
– Я думаю, если женщина любит по-настоящему, она примирится со всем, отец, со всем!
– Что ты имеешь в виду?
– Ну, например, со строптивой падчерицей... и с деревней вроде нашей – согласись, это самое настоящее захолустье, водопровода и то нет. Или возьмется за работу, может, и не такую чистую, как у Розмари в этом ее сказочном госхозе... По-моему, для нее единственно важно, что она чем-то стала... Доктор – это, конечно, звучит. Тебе, бедный папочка, за ней не поспеть.
Он пожал плечами.
Друскату любая домашняя работа по плечу, об этом позаботились обстоятельства. Он умеет стирать и готовить, некоторые даже утверждают, он-де и со швейной машинкой совладает. Но мытье посуды после ужина он с незапамятных времен предоставил дочери – той нравится, когда он придвигает к кухонному шкафу табуретку, курит и болтает с Аней, пока она возится с посудой.
– Так говоришь, не пожелал назваться?
Она покачала головой, потом вдруг сказала:
– Глупо, что я тут ревела. Но... – Она помолчала. – Ты ведь меня знаешь... всякий раз я начинаю думать: а что же дальше? На первых порах я еще буду приезжать домой на воскресенье, а потом, если примут, только раз в семестр, на каникулы. Когда об этом думаешь... такой шаг, это вроде... вроде как я недавно читала в одном романе... там в конце главы стояло: «В этот день кончилось мое детство».
Не домыв посуду, она вытерла руки фартуком и попросила у отца сигарету:
– Ты ведь не возражаешь?
– К чему, – улыбнулся он, – раз ты считаешь, что детство кончилось. Кстати, в шестнадцать лет так не говорят.
– Мне бы еще спичку.
Она закурила, причем весьма ловко, и привычно повертела сигарету в пальцах, глядя на поднимающийся вверх дым.
– Ты для меня сразу и мать, и отец, и брат тоже. Но люблю я тебя не только поэтому.
На сей раз смутился отец, излияния чувств никогда не были его стихией. Он подошел к тазу с посудой и загремел тарелками.
– Господи, сейчас ты, может, впервые в жизни объясняешься в любви, и кому же, собственному отцу.
– Не всем так повезло с отцами. У некоторых дома одно, а в партии другое, говорят так, а делают эдак. А вот ты, мне кажется, настоящий.
Что Друскату было сказать? Он раздумывал, но отвечать не пришлось, потому что кто-то постучал в дверь – очевидно, этот кто-то не знал, что в крестьянский дом легче всего попасть через кухню.
– Да, иду!
У двери стояли трое. Одного Друскат знал, лицо у него было запоминающееся, и Друскат вспомнил, что он работает в прокуратуре.
– Вы ко мне?
Вопрос был лишний. Он понял, к кому и зачем они пришли. Хотелось забыть, и он давно забыл и все-таки ждал вот этой минуты.
Он неотрывно смотрел на пришедших, и многое промелькнуло у него перед глазами, путано, словно во сне, мысли, бестолково цепляющиеся друг за друга, картины, не подходящие одна к другой, лица, имена: Макс Штефан из Хорбека, который был ему другом – чуть его однажды не укокошил... Крюгер – я тебя убью... Хильда Штефан – тебя я любил целую вечность назад, а Розмари и сейчас люблю... уходи, оставь меня... эсэсовцы в замке... красный флаг, старик Гомолла, лицо совсем близко над моим, улыбается – парень, чего боишься?.. и госпожа графиня, на скотном дворе рассказывают, она-де остра, как бритва... белая камчатная скатерть и блестящее серебро... ах, множество свечей... и труп, привязанный к лошади... деревни надо в конце концов сплошь кооперировать... повсюду в ночи горят села... и жена умерла, и сам я, может, скоро стану трупом. Почему? Дитя мое, сейчас не время рассказывать.
Друскат пропустил мужчин в дом и медленно шагнул следом, с поникшей головой, будто парализованный и оглохший: не слышал их шагов, не чувствовал собственного тела, ему чудилось, словно он смотрит на себя со стороны, словно сесть им предлагает не он, а кто-то чужой. Но садиться они не собирались; тут Друскат поднял голову и внезапно увидел в дверях девочку.
– Это Аня, моя дочь.
Девочка, улыбаясь, подошла, подала каждому из пришедших руку.
– Не хотите ли чего-нибудь выпить? Может, пива? Или чаю?
Нет, пить они не хотели, садиться тоже, но и не говорили ничего. Так не вел себя еще никто из заходивших в этот дом, и отец тоже никогда не был таким. Девочке стало странно.
Может, она мешает?
Друскат кивнул на незнакомцев:
– Товарищи из прокуратуры.
– За тобой?
– Да.
– Но почему?
Один из мужчин слегка наклонил голову к плечу, словно был туг на ухо:
– Разве вы не говорили об этом с дочерью?
– Не думал я, что вы меня заберете... так скоро. Но, – он словно пытался прочесть что-то в их глазах, переводил взгляд с одного на другого, – вы ведь хотите, чтобы я поехал с вами?
– Да.
Друскат повернулся к дочери, и девочка заметила, что по лицу у него течет пот, а рубашка прилипла к телу. Прохлада в этот летний вечер никак не наступала. Девочка увидела, как Друскат приподнял руки, чуть растопырил пальцы, словно желая схватить или нащупать нечто неуловимое, потом руки опустились.
– Я должен идти.
Аня ни разу не видела отца таким беспомощным. Страх вдруг куда-то исчез, она чувствовала – ему необходимо помочь, и быть может, в тот момент для нее в самом деле кончилось детство. Ее охватило необычайно сильное чувство к нему, знакомое лишь женщинам, – чувство материнской любви. Она не произнесла ни слова, только чуть усмехнулась, и Друскату вроде стало легче, он посмотрел на улыбающуюся девочку, подтянулся:
– Пожалуйста, помоги мне собраться.
Она прошла в спальню, открыла шкаф, свернула его выходной костюм, свежую рубашку, потом ловко уложила в чемоданчик все необходимое для короткой поездки.
Он стоял отвернувшись, потому что был раздет, а она смотрела на него без всякого стеснения. Обнаженный, отец опять показался ей таким же беззащитным, как раньше в комнате.
– Ты надолго уезжаешь? – спросила она.
– Не знаю.
Он натянул свежее белье.
– Что ты такое сделал, отец? – спросила Аня без всякого укора.
– Я не могу тебе сейчас объяснить, история запутанная. Мне не хотелось, чтобы ты об этом узнала, а теперь вот жалею, что молчал.
– К кому мне пойти, отец? – допытывалась она. – У тебя же есть друзья, они должны помочь!
Он поправил галстук, девочка помогла ему надеть пиджак, подала чемоданчик. Все готово; он крепко взял ее за руку:
– Не предпринимай ничего, слышишь? Держись как обычно, ни к кому не ходи. Я должен пройти через это один. Может статься, я вернусь через несколько часов, и наверняка вернусь скоро. Не запирай дверь. Пожалуйста, не надо торжественных проводов. Будь здорова.
– Пока.
Она прошла с ним до дверей – там ждали те люди, – поцеловала на прощание в щеку, не нежнее и не крепче, чем обычно, когда он уходил вечером на собрание и она не была уверена, дождется ли его возвращения.
Друскат сел в машину, Аня помахала ему, а потом долго смотрела вслед автомобилю, который вперевалку двинулся по деревенской улице.
К забору подошла старуха Цизениц.
– Нет, ну и жара, ну и жара, – затараторила она. – Не припомню эдакого лета, а ведь я, ей-богу, много повидала на своем веку. Не миновать голода и нам, и скотине. Все идет прахом, а все эти с ихними треклятыми атомными бомбами. Поверь мне, детка, забыли люди бога...
Она болтала, пыхтя и захлебываясь, о том и о сем, короткий путь утомил ее. Но потом все-таки не сумела сдержать любопытство и без обиняков спросила:
– Приезжие-то, видать, не из наших мест?
Дочка Друската неопределенно покачала головой, оставила старуху, вошла в дом и затворила за собой дверь.
3. Обе деревни расположены неподалеку. И тем не менее попасть из одной в другую непросто. Шоферу или трактористу приходится ехать из Альтенштайна на север по кое-как засыпанной щебнем дороге до магистрального шоссе, а там вскоре опять круто сворачивать к югу, огибая Монашью рощу, – только так и доберешься до Хорбека. Тут у озера дорога кончается.
Но кто любит ходить пешком и не боится каверз полевой дороги, может добраться из одной деревни в другую за полчаса. Окаймленная пахучими травами тропинка вьется через луга, минуя посеревшую, развалившуюся городьбу выгонов – нынче в моде электропастух, – потом по ее краям встают ивовые обрубки, над их растрескавшимися вершинами, словно растопыренные старческие руки, торчат ветки – одни давным-давно засохли, другие еще дрожат на ветру зелеными листьями. После дождя дорога становится скользкой и почти непроходимой, до того самого места, где, поднимаясь в гору, внезапно теряется в песке.
Холм порос реденьким чахлым сосняком. Если пройти через него, то скоро выберешься к приземистому дереву с могучей кроной. С незапамятных времен дерево зовется Судной липой.
По сей день попадаются люди, которые в темноте избегают этого места. В подгнивших дуплах дерева хозяйничают совы. Когда эти ночные птицы стонут, человеку становится не по себе. А вот днем здесь любит играть детвора из Альтенштайна и Хорбека.
В прежние времена, говорят, на этом месте совершались казни, но письменных свидетельств на этот счет нет, должно быть, книги сгорели, подобно многим документам прошлого: война не раз опустошала здешние края. Снова и снова война и насилие – и всегда пылали деревни. Их жгли имперские солдаты, потом с Узедома явились шведы под штандартами Густава Адольфа, за ними вновь имперские. Несколько времени здешними землями правили от имени империи и с выгодой для себя наследные славянские герцоги, затем правителем Мекленбурга стал Валленштейн[1]1
Валленштейн, Альбрехт (1583—1634) – полководец германской императорской армии в Тридцатилетней войне (1618– 1648). – Здесь и далее примечания переводчиков.
[Закрыть], но ему не дали развернуться шведы. Так рассказывает история. Кто знает, что стало с простым людом?
Монах-хронист из Неверова лаконично сообщает: после тридцати лет войны от Хорбека и Альтенштайна не уцелело ни единого очага. Недалеко от Судной липы высятся руины каменной стены, их и поныне называют Пустынным храмом.
Липа в ту пору уже стояла, и на самых толстых сучьях наверняка качались трупы повешенных крестьян. Никто уж не помнит, кто здесь «повеселился»: имперские, шведские, католические мародеры, а может, поборники Реформации. В деревне – если можно назвать деревней то немногое, что с трудом удалось восстановить, – появлялись то одни всадники, то другие: «Эй, мужик, где вражеский лагерь?» Что есть человек в междувластии?
Не так давно хорбекские ребятишки рылись в песке и наткнулись на могильник – хорошо сохранившиеся урны с прахом сожженных. Одному из детей особенно повезло: с радостным воплем он извлек из пепла голубую стеклянную бусину. Должно быть, некогда она украшала девичье ушко, много-много веков назад, пока умершую не сожгли.
И как в незапамятные времена, блестящая голубая бусина стала желанным предметом торга, переходила из рук в руки и в ходе обмена на западную жевательную резинку добралась до самого Карбова. Дети простодушно играли костями и черепками, пока до всего этого не докопались учителя и не положили конец безобразию. Некрополь блокировали, потом его обследовали специалисты: собирать все находки не имело смысла. Куда девать тысячи и тысячи обломков бесчисленных погребальных урн?
Негодную землю в конце концов пустили под плуг, а голубой бусиной – той самой, которая некогда, видимо, принадлежала девушке славянского племени, – теперь можно полюбоваться в краеведческом музее в Веране. С недавних пор там выставлен еще и короткий германский меч: тракторист из Борнхофа вырыл его плугом во время вспашки зяби.
Может, холм был вовсе не местом казней – так думает, например, альтенштайнский учитель Кунов, – а капищем древних богов? Судя по валунам, к которым тянутся узловатые корни липы, такой вывод напрашивается почти сам собой.
Что это были за божества и кто их чтил, здесь, у Судной липы, между Альтенштайном и Хорбеком – деревнями, которые уже лет десять, как полностью кооперированы? И все это тоже вехи истории.
Если по пути из Альтенштайна встать спиной к сосняку, увидишь Хорбек: крохотные домишки крестьян-новоселов вдоль дороги к озеру, широкие окна бетонных кубов новой постройки, а над вершинами парка зубцы замка Хорбек, неуклюжего сооружения в стиле «тюдор». По правую руку сквозь прибрежный кустарник поблескивает озеро. Отсюда берет начало Волчья топь и тянется до самого Альтенштайна. С этой стороны холма не видно, но по левую руку полыхают вдали черепичные крыши Карбова. И куда ни глянь – поля, словно мазки широкой кисти, тона приглушенные: желтые, зеленые, коричневые – и легкие пятна голубоватых перелесков, нивы до самой насыпи, где проходит магистральное шоссе, тополевая аллея, точно намеченный легкими штрихами заборчик, отделяющий горизонт от невероятной вышины летнего неба.
Меньше чем за четверть часа от липы можно спуститься в Хорбек.
Шагая утром через поля вниз, в Хорбек, Аня видела, до чего нынешнее лето изменило окрестности: хлеба сохли, кой-какие стебли солнце окрасило желтизной. «Все засыхает, – думала Аня, – один польдер[2]2
Здесь: осушенный и возделанный участок, расположенный ниже уровня воды в озере и отгороженный дамбой.
[Закрыть] посреди топи зеленеет. Стоит поднять воду в озере, и солнце уже ничего не спалит, наоборот, лишь травы станут сочнее. Польдер с виду зеленый, зеленый от травы. Надо показать Штефану, он ведь не хотел верить, а может, не помог отцу просто из упрямства, с ним такое случается. Отец, конечно же, был прав, когда надумал превратить болото в луг. Теперь каждый поймет, а раньше Штефан выступал против, многие были против. Одни заявляли об этом открыто, другие нет. Например, учитель Кунов не так давно в школе, на уроке биологии, рассуждал о работе крестьян на Топи, о пользе осушения – в кои-то веки интересный вопрос! – и вдруг говорит, даже голос у него дрогнул: к сожалению, мол, уничтожены гнездовья несчастных пташек, и пошел... к сожалению, к сожалению... Факты перечислил, и все вроде и не в упрек господину Друскату, но весь класс обернулся и уставился на меня, будто я одна виновата в исчезновении журавлей и уток. Ну, это было слишком, так я Кунову и сказала, прямо с задней парты. Эдак я тоже умею: «Любой прогресс чего-то стоит». У отца переняла, фраза отличная и такая естественная. В классе сперва притихли, а потом кто-то из мальчишек как завопит: «Вот так шутка! Вот так шутка – или что-то в этом роде. Ясное дело, хохот. Верно, думали, я растеряюсь. «Отцу, – говорю, – тоже жаль, что уткам негде выводить птенцов. Что, если мы всем классом нарежем ивовых саженцев? Землеустройство, господин Кунов, разумеется, под вашим руководством, вы ведь в этом разбираетесь. Папа считает, хватит тысячи прутьев. Надо только ткнуть их в землю у запруды, растут они быстро и на вид красивые. Чего смеетесь? По-моему, ивы на редкость красивые! А через пару лет, вот увидите, под каждой ивой появится по утиному гнезду!» Господину Кунову идея пришлась по вкусу, классу тоже. Весной приступим к посадке. Следующей весной, и что тогда? Буду ли я еще здесь? Где будет отец? Где он сейчас? Сегодня утром его постель так и осталась нетронутой.
Пойду к Штефану – они с отцом частенько не ладили, но ведь и дружили тоже. Может, Штефан знает, почему отца арестовали, может, он сам в этом замешан».
4. Штефаны жили на краю Хорбека в нарядном и просторном кирпичном доме. Семья владела им давно. Правда, уже тесть Макса Штефана, старый Крюгер, пришел в крепкое хозяйство; случилось это, кажется, во время первой мировой войны. А жену его, мать Хильды – она давно уж умерла, – тогдашние владельцы удочерили, однако родом она была из Хорбека – вот почему Штефаны искони считались старожилами, так же как и две-три другие семьи. Пока Хорбек был графский, больше никому из крестьян не удалось прочно стать на ноги. Остальные раньше либо служили поденщиками и батраками у хорбекских графов, либо переселились сюда из Богемии и Западной Пруссии после второй мировой войны. Это тоже случилось не вчера, и на могильных плитах Хорбека имена старожилов – Виденбеков, Крюгеров. или Туровов – давно уж соседствуют с фамилиями вроде Краковски, Роговски, Пионтек или Каллувайт.
Теперь – там, в земле – приходится им друг с другом ладить, хотя при жизни не раз, бывало, «воевали» – старожилы и нищие переселенцы...
Было около семи и по-утреннему свежо, на небе ни облачка – день, наверно, снова нальется слепящим зноем. Макс Штефан уже давно был на ногах. Он не умел мириться с обстоятельствами, даже с самыми безнадежными, и спозаранку привел в готовность пожарную команду. С помощью длинных пожарных рукавов, которые Макс выманил у веранского бургомистра, они собирались напоить часть пересохших лугов.
«Что, если в Веране вдруг случится пожар, а в депо ни единого рукава – подумать страшно!» – упираясь, причитал веранский бургомистр. Но Макс так уговаривал его спасти луга и выгоны, что в конце концов бургомистр сдался, соблазнившись ящиком чудесных помидоров: в продаже их в ту пору нигде не было, зато они зрели в хорбекских теплицах.
Макс Штефан был грузный мужчина лет сорока, с моложавым лицом, голубоглазый, словно сказочный герой, но почти совершенно лысый, к тому же носатый. Все в этом человеке было большим и сильным, наружность его говорила сама за себя: Макс любил жить и наслаждаться жизнью.
Он сидел без пиджака, в одной рубашке, и завтракал. На столе перед ним стояла глазунья из трех яиц.
– Ну, Хильдхен, приступим!
Жена налила ему кофе, значительно более крепкого, чем так называемый «мокко», который подавали в «Веранском подворье». Хильда одних лет со Штефаном. В юности она была хорошенькая, а теперь уже несколько увяла, вокруг рта залегли горькие морщинки: приходилось много работать бок о бок с мужем: «Ну-ка, Хильдхен, покажи пример, не то другие женщины прохлаждаться начнут!»
Макс любил ее и с морщинками. Но с тех пор как Штефан появился в усадьбе, ей, Хильде, дочери хозяина, почти не доводилось уже ни высказаться, ни покомандовать. Зачастую он обращался с нею как с ребенком – с женами энергичных мужчин такое порой случается. Женщины, которым равноправие дороже всего, не позавидовали бы положению Хильды. Муж, однако, считал, что восполняет все своей любовью. Тут он, пожалуй, себя переоценивал, как и во многих других вещах. Любовью он занимался часто и с удовольствием, причем не скупился на нежности – вот это жене в самом деле нравилось. И все же она видела от него не только радости, подчас и обиды терпела. Правда, временами она еще могла восхищаться Максом, как, бывало, в девичестве. Он был сорвиголова, смельчак. И хотя не все и не всегда было у них весело, каждый день жизни приносил что-нибудь новое – с ним не соскучишься.
Старый Крюгер – ему за семьдесят, но он еще довольно бодрый – по обыкновению крошил хлеб в огромную чашку, ворчал под нос, что кофе у Хильды – чистая отрава, щедро подливал горячего молока, бурчал, что масло чересчур твердое, громко хаял американскую придурь – всякие там холодильники, уж он-то знает, как вышел на пенсию, пару раз съездил на Запад... Макс, зять, только взглянул на старика, всего-то один быстрый взгляд, – человек-медведь делал это по-женски мягко, – и старик тут же умолк.
Старик положил в крошево масла и, взяв ложку, посыпал сахаром. С зубами плохо, но он упирался и к зубному врачу не шел: чего, мол, деньги попусту выбрасывать. Дупла он затыкал гвоздикой – от этого и боль притупляется, и изо рта приятно пахнет, только вот ел он уже давно без всякого удовольствия и сильно осунулся.
Сначала Хильда сновала по комнате, обслуживая мужчин, потом остановилась у окна, и стояла там уже довольно долго: наконец Макс Штефан, не переставая усиленно жевать, спросил:
– Что такое? Ты не хочешь составить мне компанию?
Жена все смотрела в окно:
– Бог ты мой!
– В чем дело? – спросил Макс.
– Там на улице Друскатова дочка.
Теперь и Штефан встал, кое-как вытер рот и подошел к окну. Действительно, вон она, прямо писаная красавица стала, а мальчонка так и вьется рядом, ему в школу пора... почему Аня не в школе... боится... к нему пришла!
– Только в дом ее не пускайте! – заголосил старик. – Еще, чего доброго, подумают, вы с ним заодно. Этого только не хватало, и семья под подозрение попадет.
Хильда, круто повернувшись, обрезала его:
– Замолчи, отец!
Воспитанная в уважении к старости, она многое терпела от вечно ноющего отца. Для этого ей приходилось держать себя в руках, однако удавалось это не всегда.
Дочь редко повышала голос на старика, но, если такое случалось, тот обыкновенно покорялся. Правда, на сей раз его смирения хватило ненадолго, он ехидно засмеялся и сказал:
– Вечно от него одно беспокойство, от этого малого, вечные раздоры да суета. Чуть было нам все не разнес со своей кооперацией. Макса с должности скинуть собирался. Почему? Так никогда и не позабыл, как его однажды вышвырнули из Хорбека! Ну и народ у них в партии! Я не меньше вашего желаю, чтобы он свернул себе шею!
Макс долго и как бы испытующе разглядывал тестя, потом наконец снова посмотрел во двор. Жена стояла рядом и шептала:
– Ради бога, Макс, ты не знаешь, зачем пришла Аня? Небось, доносчиком тебя считает.
– Меня?
– Слышишь ведь, о чем толкует старик. К тому же девчонка знает о вашей ссоре, это ни от кого не укрылось.
Ссора ссорой, но они и друзьями были достаточно долго. Он, Макс, привык отстаивать свою точку зрения перед кем угодно и любыми аргументами. Ну ладно, случалось и руки распускал, раза два или три позволил себя завести. Ох, и упрямый пес, этот Даниэль! Недавно вот форменным образом предал его, Макса, посадил в лужу, раскритиковал на окружной партконференции, тысяча людей в зале, громовой хохот по его адресу. Этого он Даниэлю так просто не забудет. Оно, конечно, критику он недолюбливает. Извините, но мелкие недостатки у всех есть, а ежели кто с ним спорит, рискует и нарваться – это всем известно. Но доносить? Какая чушь, Хильда. Из-за чего? Из-за той истории? Так ведь о ней никто не знает, даже ты.
Один-единственный человек только и помнит, но не станет же он? Нет, беззубый старикашка, его тесть, не посмеет; небось не забыл, как при нацистах в ортсбауэрнфюрерах[3]3
Имеется в виду главарь местной сельской фашистской организации.
[Закрыть] ходил, местными крестьянами командовал. Форма коричневого цвета – таким он остался в памяти, – кривоногий, в мешковатых бриджах, какой-то весь небрежный, ну и фигура, в штанах словно и задницы нету – вечно перед графиней в три погибели гнулся: слушаюсь! будет сделано!
Ладно, нацист, так сказать, со страху, а вовсе не по убеждению. Ведь кому-то в Хорбеке надо было стать ортсбауэрнфюрером, вот он и стал, да и хозяйство у него было побольше, чем у других. Впрочем, в свое время все наше поколение побывало в нацистиках, я имею в виду тогдашние детские организации. Ты ведь тоже, Хильдхен... миленькая блондиночка в форме Союза немецких девушек, я же помню, ты служила всего-навсего санитаркой, самаритянкой, в конце концов, никуда не денешься – противовоздушная оборона и все такое... я ничего не говорю, но как у тебя только язык повернулся – доносить?
– Не понимаю я тебя, – сказал Штефан. – Что такого знает Аня? Почему она должна считать меня доносчиком, почему, Хильдхен?
– Помнишь, у озера, Макс, в прошлом году? Она тоже там была.
Праздник, Макс, а потом жуткий скандал у нас в доме; вон там ты лежал, на полу, да-да, один раз другой оказался сильнее тебя, один раз одолел Даниэль, ты пытался встать, вон там на полу, оперся на локти, сплюнул на половицы кровь и выдавил: «Я могу тебя уничтожить!»
Действительно, произошло это всего-навсего прошлым летом, в канун жатвы, когда Штефан слегка надул начальство. Все со смеху подыхали, один Друскат не смеялся. Он подъехал, когда они с солдатами решили пропустить по маленькой в честь того дня. Лицо у него...
Интересно, чем этот мрачный человек нравится женщинам? Чем чернявый Даниэль приворожил тогда Хильду, а потом других? Есть, должно быть, в бабах – и в спокойных, и в тех, что поноровистее, – страсть какая-то к душеспасительству, толкающая их к этому тощему мужику... ох, уж эта мне душа! А может, тут что-то другое? Может, ждут особых утех от его худобы? Да нет, быть не может, здоровый мужик куда лучше.
Если поразмыслить, то кокетничают с Друскатом блондинки, они вздыхают и обзаводятся эдаким томлением в груди, но Ромео-то и стареет, и седеет, ему ведь уж сорок один, – и все же осталось в нем что-то мальчишеское.
А у Ирены, на которой Даниэль женился, волосы были черные как ночь, красивые, до самых плеч, а как она отводила волосы со лба – боже мой! Две такие ранимые души, разве они могли быть счастливы?
Его забрали. Мы много лет дружили, водой не разольешь, жили в одной халупе, всегда держались вместе – до той единственной ночи, последней военной. Потом Даниэль вернулся в деревню с Гомоллой, то ли на следующий день, то ли через день, в парне появилось что-то странное, не от мира сего, мне пришлось его защищать, и я не раз защищал, как младшего брата, всегда защищал, пока Друскат вдруг не начал хорохориться, да как!
Прямо не узнать мужика, с тех пор как вернулся из районной партшколы. В глазах эдакий фанатизм, как у того монаха, в старину, в Италии – в Вероне, что ли? Нет, то, верно, была Флоренция. Такой вот взгляд, по моему разумению, был у того монаха, Савонаролы[4]4
Савонарола, Джироламо (1452—1498) – итальянский монах-проповедник, религиозно-политический реформатор во Флоренции.
[Закрыть]. Да, Савонарола... взбунтовался против власть имущих и был очень популярен среди простого люда, пока не велел на рыночной площади во Флоренции сжигать все, что возбуждает чувственность, – и прекрасные картины, и дешевку, и прочее... Все должны были каяться и предаваться скорби, но никогда ничего не получается, если у людей хотят отнять удовольствие от жизни, да... вот почему Савонаролу и сожгли, я читал.
Тогда на озере Даниэль при всех объявил, что я‑де вреден обществу. Прямо изрыгая лозунги: мы-де в Хорбеке живем за чужой счет, тысяча таких, как я, способна-де развалить социализм... ой, парень, ну и повеселились же мы, от удовольствия себя по ляжкам хлопали, просто-напросто обсмеяли его. Ну ладно, без драки тоже не обошлось, я, кажись, то ли бутылку уговорил, то ли две, и Даниэль оказался сильнее – единственный раз, – но кому придет в голову, что я из-за этого на него донес, кому, Хильдхен?
Думаешь, Ане? Из-за скандала здесь, в доме? Из-за того, что я сказал: «Я могу тебя уничтожить»?
Случилось это прошлым летом.
Звонок из райкома: завтра Штефану нужно явиться в Совет округа.
«Завтра? Не могу!»
У него же своя работа есть, он ее четко планирует и, между прочим, привык выполнять свои планы.
«Товарищ, ты обязан. Дело весьма важное. Большая честь для Хорбека, для всего Веранского района. К нам едет делегация – генерал Войска Польского, – хочет ознакомиться с развитием сельского хозяйства. Мы его нацелили на Хорбек».
«Ага».
Это другое дело, хотят осмотреть его образцовую деревню? Что ж, пожалуйста.
«Значит, будешь наверняка? Речь пойдет об организации встречи, о программе и так далее. Понимаешь?»
«Разумеется».
За десять лет с шестидесятого года у них в кооперативе многое переменилось к лучшему, пусть полюбуются: по крайней мере уже лет пять Хорбек самый передовой кооператив в районе. Пусть генерал приезжает, у нас найдется, чем его удивить. Будут журналисты, может, кто-нибудь с радио, фотографы, как водится. Тиснут фото в газету, статью, а крупица того почета, который выпадет округу или району, глядишь, достанется и Хорбеку. И ему, может, малость перепадет. Кстати, на фотографиях он получается недурно, есть на что посмотреть, фигура, что ни говори. А известная личность всегда добьется большего, взять хотя бы вопрос о запчастях.
Все собрались за столом в окружном исполкоме – современное здание у дороги, сплошь стекло, сталь и бетон, над входом подобие козырька из ярких эмалированных пластин, у въезда – фонтаны, клумбы с розами... Растет центр округа.
Итак, собрались в конференц-зале, сам Штефан и еще кое-кто. Программу им уже сообщили. Наконец Гроссман, чистенький и аккуратный молодой человек, начальник бюро секретариата – таково было точное название должности, – обвел взглядом присутствующих:
«Есть еще вопросы, товарищи?»
«Да», – Штефан поднял руку.
У него есть вопрос, точнее, предложение.
«Пожалуйста».
«Так вот, товарищи. Польскому генералу надо кое-что показать, и нам есть что показать. План у вас превосходный. Мы в Хорбеке готовы, нам к официальному визиту особо готовиться незачем, в нашей деревне порядок и на буднях в почете. И все же одно меня огорчает, товарищи. Позвольте мне быть совершенно откровенным...»
«Да, прошу вас!..»
Штефан встал и подошел к карте округа, которая закрывала всю стену комнаты.
«Автомобильный кортеж, – начал он, показывая по карте, – должен, стало быть, проехать из Верана в Хорбек по деревням. И как назло, именно здесь имеется парочка «достопримечательностей»: развалюхи-сараи и все такое, съехавшие набекрень соломенные крыши с поломанными стропилами, неухоженные поля у шоссе – позор! Критиковать я никого не собираюсь, просто констатирую: впечатления мы этим не произведем.
Зато с другой стороны, друзья, мы можем продемонстрировать совершенно исключительное – красоту озера Рюмицзее, изумительный прибрежный пейзаж, и на деревни посмотреть приятно, – издалека. Стало быть, делегация могла бы добраться из Верана в Хорбек пароходом, на борту – небольшой оркестр, приятная музыка, или без музыки, как хотите, это всего лишь предложение». – Он слегка развел руками, как бы говоря: решайте, мол, сами, – и скромненько сел на место.
А начальник бюро наверняка подумал: у этого Штефана всегда есть идеи, надо взять его на заметку, перспективный кадр, прежде-то он, правда, как говорят, не стоял в списке передовиков, но ведь то-то и оно – растет человек!
Предложение встретили с энтузиазмом. Итак, дело решенное. Подвоха никто не предполагал.
За три дня до приезда делегации, после обеда, у Штефана затарахтел телефон: начальник бюро требовал председателя. Макс возбужденно замахал рукой, прошипел жене, чтобы та побыстрее утихомирила телевизор, потом спокойно ответил: