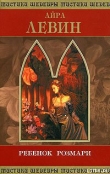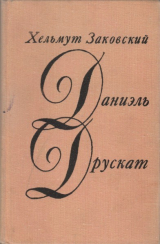
Текст книги "Даниэль Друскат"
Автор книги: Гельмут Заковский
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Строить нелегально значило работать втемную, то есть тайком, иначе говоря, без ведома властей. Альтенштайнцы так и сделали и сумели добиться своего, потому что Друскат с Кеттнером изобрели плавучий насос. Приварили к обычному отсасывающему насосу две оцинкованные бочки из-под компоста – вот и все. Агрегат спустили на воду в самом глубоком окне на болоте. Весть об этом облетела всю деревню, любопытные валили толпами, все разводье облепили. Мужчины выжидательно и скептически дымили, как паровозы, чтоб разогнать комаров, женщины из-за жгучего солнца надвинули на лица платки. Все сгорали от нетерпения: заработает или нет чудна́я штуковина, похожая на неуклюжего водяного паука. И как же народ возликовал, когда насос взревел и труба впрямь начала выплевывать в озеро черновато-мутную болотную жижу. Все оценили гениальность изобретения: опускаясь вместе с уровнем воды в болоте, плавучий насос постепенно высосет влагу из почвы и потом останется лишь прорыть пару канав.
Правда, пришлось подождать, пока уровень воды снизится и болото подсохнет. Два года работали крестьяне, подчас по колено в грязи, отгораживая польдер от озера торфяной насыпью, корчуя густой кустарник. Им помогали женщины и школьники, и наконец – еще через год – просторный, чистый, ржаво-коричневый участок распахали и засеяли кормовыми травами. Всходы зазеленели густо, как нигде в округе. Видно, Друскат, которого кое-кто считал чокнутым, оказался прав. Успех – вот он совсем близко, рукой подать, кормов будет вдоволь и хозяйствовать можно будет и жить не хуже, чем в богатом хорбекском кооперативе.
Но однажды утром тревожно завыла сирена: затопило польдер. Аня вместе со всеми помчалась к Топи. Действительно, там, где еще вчера расстилался сочный альтенштайнский луг, сегодня плескалось озеро, и размытая в нескольких местах запруда едва поднималась над чмокающим потоком, была еле различимой линией среди беспредельной водной глади.
На косогоре над Топью собрались женщины: недвижные, будто в оцепенении, только платья развевались – с озера дул ветер. Женщины не произнесли ни слова. Каждая из них потрудилась на польдере наравне с мужчинами, долгие часы, долгие дни – два года, и каждая, видно, ждала, что тяжелый труд не пройдет впустую, – и напрасно. Аня, сидя вместе с ребятами у подножия косогора, повернула голову: на лицах у женщин читалось странное выражение – не покорность и не одно только ожесточение – такие лица, наверно, бывают у людей, которых постоянно обижали и которые теперь хотят отомстить за несбывшиеся надежды. Кому они собирались мстить?
Анин отец брел в воде по остаткам насыпи, мужчины тяжело шагали следом за ним, должно быть, хотели спасти насос, который сорвался с якоря и пока держался, зацепившись за торчащий из воды ивовый пень, но ветер менял направление и грозил унести насос в озеро.
«Его дурацкая выдумка! – с издевкой сказала одна из женщин. – Ишь, сломалась!»
Другие одобрительно засмеялись и вдруг разом взвизгнули. Аня увидела, как Кеттнер по самые плечи провалился в запруду. Мужчины попробовали вытащить его, но теперь запруда стала расползаться и у них под ногами.
«Чертовы ондатры все подрыли», – закричал Друскат.
Кто-то еще, сложив ладони рупором, заорал:
«Лодка нужна!»
Рыбачья лодка, уже немного рассохшаяся, лежала на краю склона, и дети решили спустить ее на воду. Тогда женщины зашевелились, потащили ребятишек прочь:
«Марш отсюда! Хватит с нас, если один из этих психованных мужиков потонет. Тут уж ничего не спасешь. Гляньте на мужиков, по уши в грязи. На сей раз пускай сами стирают».
Так ругались женщины, хватали за руки упирающихся ребят и тяжело шли с ними назад в деревню. Каждую ждала работа, дома или в кооперативе, чего на эту паршивую Топь время-то зря тратить, и пальцем больше не пошевелят.
Одна Аня осталась, настроение – хоть волком вой. Кеттнер выбрался на сухое место. Счищая с одежды грязь, посмотрел на Аню – глаза печальные.
«Я могу чем-нибудь помочь?» – спросила девочка.
«Принеси поесть».
Когда она возвращалась с корзиной еды на багажнике, навстречу ей попался Цизениц.
«Далеко ли?»
Она слезла с велосипеда. Цизениц тоже направлялся на болото.
«За шнапсом ходил, – пояснил он и похлопал по бутылкам, рассованным по карманам пиджака. – Чем бедному мужику еще утешиться, как не выпивкой?»
Аня с сомнением пожала плечами.
«Твой отец вздумал пойти против природы, – сказал Цизениц. – Но озеро не допустило. Так я и знал, что все это псу под хвост».
Аня искоса наблюдала за стариком. Сдвинув шляпу на затылок, он ковылял рядом с ней по дороге и философствовал. «Верно, успел уже выпить, – подумала она. – Пахнет от него».
«Знаешь, – бубнил Цизениц, – Альтенштайн всегда был бедной деревней, и альтенштайнский помещик всегда был беднее своего родича из Хорбека. Даже польские работники не помогли. Издавна были поля худые и поля тучные и, значит, хозяева бедные и богатые. А нынче опять же бедные и богатые кооперативы. Может, у природы закон такой. Уж я-то знаю, твой отец хочет вроде как перещеголять хорбекского Штефана, только не сдюжить ему. Господь бог или – ежели тебе эдакое слово не по нраву, ты ведь, поди, прошла югендвайе[7]7
Праздник совершеннолетия у школьников ГДР.
[Закрыть], – скажем, пусть не бог, пусть природа, природа-то жребии поделила несправедливо».
Аня и в самом деле годом раньше ходила на подготовительные занятия, а кое-что усвоила в школе, узнала из книг и от отца. И потому сказала чуть свысока, как нередко говорят молодые люди, считая, что во многом разбираются лучше старших:
«Поверь, дедушка Цизениц, социализм устранит несправедливость».
«Так только в газетах пишут, – махнул рукой Цизениц. – Все равно из пучка соломы дом не построить. Вот и получается: одни должны из кожи лезть, а другим живется полегче, смотря по тому, какой выпал жребий, я уж тебе говорил. Одним, стало быть, везет, а другим нет. Так уж оно заведено, да так и останется».
Цизениц продолжал свои диковинные рассуждения до той самой минуты, когда они наконец вышли на косогор. Мужчины тем временем вызволили насос, стащили с себя мокрую одежду и бросили сушиться на траву. День был жаркий, они сидели на лугу в плавках, а кто и в исподнем, невеселые и угрюмые. Цизениц откупорил бутылки, перво-наперво приложился сам и от наслаждения прищелкнул языком.
«Следующий, пожалуйста».
«Подождать надо, пока вода спадет, – сказал Друскат, – Потом залатаем дамбу».
Никто не отозвался. Друскат кивнул Цизеницу. Тот кочевал следом за бутылкой, которая переходила из рук в руки, ото рта ко рту. Цизениц протянул ее Друскату, но тот отмахнулся, пить ему не хотелось.
«Ветер с озера поджимает, и все-таки непонятно, откуда столько воды. Как думаешь, смотритель? – обратился он к старику. – Может, где-нибудь запруду поставили?»
«Может».
Мальке, кооперативный дояр, наверно, больше всех ждал от работ на Топи: и кормов для скота, и больше молока в подойниках, и, конечно, заработки повыше для себя и для жены, может, и премию, тоже сгодится, как-никак пятеро ребятишек, обо всех надо позаботиться...
«Попробовали и ничего не вышло, – строптиво заметил Мальке. – Брось ты, Друскат, оставь нас в покое со своим болотом. В деревне больше никто за эту каторжную работу не возьмется».
Друскат вскочил и зашагал к воде.
«То, чего мы хотели, было разумно. Пора кончать с болотом, с нуждой, хватит мучиться с кормами. Сколько раз то солнце травы спалит, то озеро зальет».
И он опять повторил ту самую фразу, которую Аня от него не раз слышала, но сегодня ей показалось, что все это пустой звук, затасканная присказка: «Природу нужно одолеть».
Цизениц как-то глупо, по-козлиному хихикнул. Девочка смотрела на отца, тот словно в ярости сжал кулаки, и она поняла: сейчас ему приходится сдерживаться, хотя порой он мог и вспылить; вот и теперь Друскат с удовольствием прикрикнул бы на мужиков. Те устало лежали на спине, заложив руки под голову, и вели себя так, будто несчастье, свалившееся на всех, вовсе их не касалось. Один Кеттнер сидел подобрав ноги и хмуро жевал соломинку. Друскат сказал:
«Надо обуздать это проклятое озеро!»
Мужчины поднялись.
Друскат вздернул и снова опустил плечи.
«Может, неразумно было браться в одиночку. Мы, горстка людей из Альтенштайна, не сдюжили, не сумели спасти запруду. Но вместе с хорбекскими, с их машинами, кранами...»
«Деньги, дорогой мой, деньги!» – не без издевки отозвался Кеттнер.
«Да, – сказал Друскат, – и с их деньгами мы смогли бы сделать все как надо и надолго».
Он стоял у подножия косогора, в одних плавках, потом вдруг протянул руку, указывая на разрушенный польдер, – смешным он не кажется, подумалось Ане, – широким жестом обвел всю Топь и воскликнул:
«Прямо под водой земля, там, среди ивняка, везде земля, четыре тысячи моргенов[8]8
Немецкая земельная мера, равная 0,25 га.
[Закрыть] луга, достаточно большого и тучного, чтобы прокормить стада десятка кооперативов».
Мужчины нерешительно встали, один за другим подошли к Друскату, потягиваясь, как бы желая стряхнуть усталость или размять затекшие мышцы. Они ничего не говорили, стояли с Друскатом рядом и, как он, не отрывали глаз от Волчьей топи, от затонувшего польдера, над которым сияло солнце.
Кеттнер, кряхтя, нагнулся, собрал одежду, натянул брюки.
«Так поговори с хорбекскими, Даниэль, – сказал он. – Попробуй еще раз, старина, говорят, этот Штефан тебе друг».
Аня сидела за столом напротив Штефана. Обеими руками она поднесла ко рту чашку, отпила немного, поверх чашки пристально посмотрела на него. «Скрыть что-то хочет, – думала она, – я мало что знаю о старых хорбекских историях, тут он прав, но прошлогодний скандал произошел у меня на глазах».
Случилось это в тот несчастный день, когда затопило польдер.
Под вечер Аня и Друскат на лодке отправились из Альтенштайна в Хорбек. Солнце над озером, помнится, уже клонилось к горизонту, и освещение было, как иногда перед грозой. Трудно описать: пронзительная ярь померкла, смягчился немилосердный блеск, солнце будто умылось, и свет, кристально чистый, струился теперь из вод озера над берегами, над запыленными нивами назад в небо, как бы расцвечивая землю свежими красками – так зелены прибрежные кусты, так красны глядящиеся в воду стволы сосен.
Они гребли к хорбекской бухточке.
Порой Аня видит во сне свою деревню. Идет она будто бы по улице и что-то ищет. Точно знает, что улица находится в Альтенштайне и что она тысячу раз по ней ходила, но никак не может найти то свой дом, то дверь дома и боится. В тот вечер она тоже не могла отделаться от ощущения, что видит сон. С хорбекского берега далеко в Озеро выдавались сходни, на светлой гальке стояли белые лавочки, купальня – точь-в-точь как в Веране. Но причалили они в Хорбеке, Аня узнала две огромные ивы на высоком берегу.
«Что, разве Штефан умеет колдовать?»
«Уму непостижимо», – буркнул отец.
А вот и сам Штефан:
«Привет, привет!» – Он, как настоящий кавалер, помог Ане выбраться из лодки.
Аня изумленно глядела на сутолоку у берега: множество молодых парней плескались в озере и отчаянно ныряли в воду с новой вышки, горел костер – на вертеле жарился молодой бычок. Какой аромат! В народе поговаривали, что хорбекцы выдумали скоростной способ жарения на вертеле и, сдобрив любое мясо или дичину смесью пряностей, красного вина и соли, умели придать жаркому нежный привкус копчености. Их методом заинтересовалась даже Нировская гильдия мясников-кооператоров, да только хорбекцы берегли свой секрет, они, мол, и сами не прочь воспользоваться изобретением, понятное дело, по большому счету – поставляя фирменное блюдо на разные крестьянские рынки, само собой, по наивысшим ценам.
Масса народу сновала по прибрежному лугу – солдаты, девушки, трактористы, – воздух гудел от шума. Голоса, смех... Вот даже грянул духовой оркестр, очевидно армейский: «Розамунда, подари сердечко и скажи мне: да».
Так живут хорбекцы, все подряд праздники отмечают; похоже, праздники выпадают у них частенько, и даже среди недели.
Ане нравился Макс Штефан, потому что был он человек веселый и обращался с нею, как с дамой. Хотя временами он с галантностью перебарщивал – вот как сейчас. Что опять вытворяет, что с нею делает? Нет, правда, она уже не владела собой, вытянула шею и по-птичьи дергала головой, потом не удержалась и глупо захихикала, прикрывшись ладошкой, точно двенадцатилетняя девчонка. Дело в том, что, здороваясь, Макс расшаркался и до того лихо снял перед Аней шляпу, что пучком перьев подмел траву. Рассмешил он ее тем, что грациозные, почти балетные ужимки забавно контрастировали с его мощными телесами.
«Музыка – туш!» – крикнул Макс.
Лязгнули медные, сипло гаркнули трубы; Штефан, так сказать, по всем правилам придворного этикета, отставив локоть, уперев лапищу в бедро и изящно семеня ногами, повел Аню сквозь шпалеры смеющихся, орущих, бьющих в ладоши людей. Отец, спотыкаясь, хмуро шел следом. Может, Штефан вел себя так потому, что ему очень нравилось злить отца. Или он уже подвыпил?
Макс подвел ее к опрокинутому ящику, смиренно предложил сесть, резко свистнул, коротким взмахом руки велел подать тарелки и стаканы, пирушка началась. Кончилась она, правда, преждевременно, и виной тому был не только внезапный грозовой ливень.
«Знаешь, как я это сотворил, как построил у себя под боком центр отдыха?» – хитро прищурившись, спросил Штефан, согнул указательный палец, как ведьма из сказки, и поманил Друската поближе. Обнял его за плечи, шепотом выложил на ухо секрет, под конец ткнул кулаком в грудь, прыснул и расхохотался до слез. Анин отец улыбнулся, однако удивленно поднял брови – так иногда из вежливости улыбаются совершенно несмешным вещам:
«Да-да, знаю, ты парень не промах».
Он, наверно, вспомнил о размытом польдере, его сооружение стоило больших усилий и отказа от многих удовольствий. В Альтенштайне до сих нор не было водопровода, Альтенштайнский замок – в нем жили десять семей – срочно нуждался в ремонте, а общине каждый год срезали средства. Кто знает, о чем он там думал, но сказал он вот что:
«Ничего себе, опять урвал кусочек...»
Штефан не дал ему договорить:
«Стоп! Материал наш!»
Друскат кивнул, словно с уважением:
«Брус первосортный. Таким брусом мы бы смогли подправить стропила Альтенштайнского замка, а то не ровен час рухнет».
Он огляделся, заметил у берега копер, кран, гусеничные трактора, посмотрел на солдат – здоровые парни служат в спецподразделении! – и сказал:
«С таким количеством людей, как тут, – с целым подразделением, так ведь? – мы бы за пару дней полтопи запрудили. Слыхал? Польдер у нас затопило!»
«Вот как!»
«Когда Штефану хочется выказать сочувствие, он всегда корчит невинную физиономию, – думала Аня, – может, не умеет понять других людей и не в состоянии войти в их положение?»
Друскат зажмурился от солнца. Он смотрел вниз на новенькие сходни, видимо, ему бросилось в глаза, что озеро у Хорбека в самом деле стоит ниже обычного.
«Наверно, кто-то поставил запруду, – сказал он, – должно быть, возле Карбова, и вода прорвала дамбу. Она ведь была всего лишь из торфа. Кто запрудил?»
Штефан не сводил с Друската удивленно-растерянного взгляда невероятно голубых глаз. Такое выражение лица бывает у людей, несправедливо обвиненных в страшном преступлении.
«Ты же не думаешь... – Он приложил ладонь к сердцу. – Я?»
Друскат невольно улыбнулся.
Штефан схватил его за руку.
«Старина, – сказал он, точно вот сию минуту на него снизошло озарение, – может, это армия? Может, хотели облегчить солдатам работу. Дело понятное».
И он опять притянул Друската к себе, настойчиво зашептал:
«Воспользуйся случаем, старик, я тебе объясню, что делать: свали ответственность на армию, потребуй возмещения убытков, изобрази их страшнее, чем они есть, пусть военные строят тебе польдер вдвое больше».
Аня диву давалась: отец тоже шепотом, точно один пройдоха у другого, спросил:
«И тебя еще никто не выводил на чистую воду?»
«Ни разу! – засмеялся Штефан и начал поучать Друската: – Кому на пользу, малыш, вот о чем надо спрашивать. Ко мне никто не прицепится, покуда общество в выигрыше».
«Хорбек, – обрезал Друскат. – Ты имеешь в виду Хорбек, горстку людей, группку. Не перестаю удивляться, как это вы именуете свои личные нужды потребностями общества».
«Ну и что? Социализм должен доставлять удовольствие – вот мой девиз. Из самого лучшего в мире дела ничего не выйдет, дружище, если отнять у людей радость жизни и только успокаивать: завтра, мол, люди добрые, завтра заживете лучше! Завтра и помереть можно. Никогда я не любил этот вот лозунг: давай, дескать, нынче затянем потуже ремни, а там, глядишь, когда-нибудь и пожрем от пуза. Нет, мне пузо нужно сегодня, и оно у меня есть... – Он поднялся с ящика, где сидел напротив Ани и Друската, – невзирая на толщину, он был проворен, – выпрямился перед ними во весь рост, широко расставил ноги – колосс! – и хлопнул себя ладонями по животу: – ...вот он – тут!»
В самом деле невозможно не заметить.
«Мы в округе первые. Почему? Потому что всякий знает, у меня повкалывать для социализма стоит, это окупается тут... – еще шлепок по брюху, – и тут... – он, как фокусник, потряс правой рукой, и Ане впрямь показалось, будто из рукава сыплются монеты, – и вообще...»
Штефан раскинул руки, точно благословляя праздник, радостных людей, которые сновали взад и вперед, сбивались в группы, толпились у костра, ели, пили и благодушествовали за Штефанов счет. А духовой оркестр играл: «Розамунда, подари сердечко и скажи мне: да».
«А как окупался труд в Альтенштайне? Люди там не глупее и не ленивее хорбекских, – размышляла Аня, – но живут не так хорошо, как тут, жребии распределены в самом деле несправедливо. Закон природы, как говорил старый Цизениц. Ерунда, конечно, но несправедливость существует, только в чем она?»
Отец, прищурясь, взглянул на Штефана.
«Вам живется лучше, чем крестьянам в сотне других деревень округа. Хорбек превратился в оазис благоденствия».
«Так ведь мы хорошие, то-то и оно, мой милый!»
Всегда весел, всегда остроумен дядя Макс. Тогда его поведение несколько оттолкнуло Аню, он показался ей самодовольным. Как это он себя называл, когда бывал в настроении? Самодержцем!
«Хозяин ты хороший, этим я всегда восхищался», – сказал Друскат.
Штефан поднял вверх указательный палец:
«И начальник хороший, ты хочешь сказать».
Друскат мотнул головой, потом встал, подошел к Штефану. И ростом, и массивностью он уступал Максу, казался рядом с этим грузным мужчиной почти мальчишкой. «Между прочим, отец выглядит куда лучше, прямо Давид рядом с Голиафом, – думала Аня, – отец, наверно, тоже мог бы побороть гиганта с помощью разных хитростей». Но она прекрасно знала, в уловках отец не силен. Друскат пожал плечами.
«Хороший начальник? Не знаю. Ты социалистический кулак, во всяком случае – деляга. У тебя изумительный талант пользоваться нашими слабостями – крошечными пробелами в законе, бюрократической нерасторопностью, нерешительностью иных работников. Ты бесстыдно кладешь на лопатки каждого, кто не может тебе противостоять, точно так же ты поступал, когда был единоличником, считаешь себя большим хитрецом, а на деле оказываешься большим нахалом. Между прочим, говорят, ты достаешь минеральных удобрений, сколько хочешь.
Слова Друската, казалось, ничуть не задели Штефана, он кивал почти одобрительно, будто ему нравилось, что Анин отец злится, а может, думал про себя: «Давай, малыш, давай!» Даже сигаретой Друската угостил. Тот сигарету взял и спросил:
«Это верно, Макс? Ты получаешь вдвое больше удобрений, чем мы?»
Штефан все кивал.
«С ведома властей. И знаешь почему?»
Он чиркнул спичкой, прикрыл огонек ладонями, осторожно передал Друскату. Тот задымил сигаретой, а Штефан продолжал:
«Пример надо подавать, знаешь ли».
Он улыбнулся, прямо чуть ли зубы не оскалил от избытка дружелюбия:
«Слабакам надо показывать, как руководят в хорошо организованном кооперативе, понимаешь?»
«Нет, – подумала Аня, – временами он пошловат».
Отец стоял перед Штефаном, с усилием сдерживаясь, руки в карманах, сигарета в углу рта, глаза прищурены: наверно, дым ел глаза. Он выплюнул окурок.
«Нам показуха не нужна, нам нужны равные шансы для всех. Какой толк от того, что вы играете в новаторов, в самых-самых передовых, что вы чешете впереди, да так далеко, что никому за вами не угнаться. Если другим приходится отставать, большинству, вроде нас в Альтенштайне, то какой толк? Какой?»
Отец говорил слишком громко, уже на лугу стали прислушиваться, кое-кто из мужчин повернулся в их сторону. Штефану это, кажется, не понравилось, а может, испугался, что его люди вообразят, будто он спасовал в споре, но уж этого-то он никогда не допустит.
«Мы отстаем, – кричал Друскат, – потому что хитростью не выбиваем особых условий, как вы, потому что нельзя, чтобы в каждой деревне строилось по двадцать квартир, как в Хорбеке, чтобы в каждой деревне сооружали купальню, в каждой приозерной дыре – свою пристань, потому что на всех пока не хватает, потому что не каждый кооператив может строить огромные скотные дворы, закупать новую технику – это ведь трепотня, старик, называете себя передовиками, а сами не замечаете, что добиваетесь успехов за наш счет».
«Вы только послушайте, – взревел Штефан, причем вдвое громче Аниного отца, – альтенштайнский председатель утверждает, мы-де живем за их счет!»
Ого-го! Ого-го!»
Они подступали все ближе и ближе, вытирая жирные губы тыльной стороной ладоней, – мужики из компании Макса Штефана. Казалось, вот-вот начнут засучивать рукава и ждут только пронзительного свиста своего вожака.
Друскат знал почти всех – до шестидесятого года он был председателем в Хорбеке и понимал, что за Штефана они готовы в огонь и в воду, – поэтому сказал, что тут не место для споров.
«Да ну?» – удивился Шлефан. По его мнению, тут очень даже неплохо. Друскат объяснил, что не хочет портить праздник, у него просто небольшие разногласия с Максом, но этим никого не удивить.
«Нечего идти на понятный, раскрывай карты!» – закричал Штефан.
Друскат пожал плечами:
«Ну ладно. Вы же знаете, мы хотим превратить Волчью топь в пахотную землю. Одним нам не потянуть, а вот сообща с вами можно было бы землицу отвоевать. Есть возможность стать богаче всем вместе, не только в Хорбеке или в Альтенштайне, но и в других соседних деревнях. Говорю вам, это можно сделать, если одолеть распроклятое местничество. Вместе мы сильнее, вместе у нас много машин, много людей, можно осушить болото, сообща засеять поля и собрать урожай, это ведь любому из нас выгодно. Давайте сделаем почин, давайте хоть разок попробуем все вместе – на Топи. Поверьте, кооператив старого образца уходит в прошлое, так же как двенадцать лет назад единоличное хозяйство. Зачем мы, стало быть, приехали? Не затем, чтобы ссориться... – он обнял Аню за плечи, – хотим предложить вам сотрудничество».
«Так он и впрямь снова здорово со своим укрупнением, – рассердился Штефан. – Не выйдет! Хозяина не ликвидируешь, укрупнение упразднили, причем по приказу сверху!»
Что, неужели Друскат намерен ссориться с Госсоветом?
Нет, в этот день разговаривать с хорбекцами было невозможно. Штефан начал, его люди подхватили и закричали наперебой: не нужна им ничья помощь, нечего водить компанию с отстающими – они в округе лучшие, а альтенштайнским пора объявлять о банкротстве... Не удивительно: Друскат еще в Хорбеке не справлялся... В Альтенштайне, в этой дыре, бабы до сих пор ведра на коромысле таскают... Пусть Друскат лучше бросает работу, а они, хорбекцы, заберут Альтенштайн, это темное захолустье, к себе, в свой крупный кооператив...
От ярости на шее у Аниного отца набухла жила, он побагровел и рявкнул, что они все не только пьяны, но и одержимы манией величия. И в чем он обвинил Штефана?
«Ты все делаешь только для выгоды собственной деревни, копишь добро для кучки людей, не считаясь с другими. Тебе живется хорошо, чего же печалиться о судьбе соседей! Старик, дай волю тысяче эгоистов вроде тебя – и они загубят социализм! – и совершенно спокойно прибавил: – Самое время наступить тебе на хвост!»
Громовой хохот. Хорбекцы захлопали себя по ляжкам: вот шутка так шутка!
Наконец Штефан жестом утихомирил собравшихся, потом руки в боки, словно торговка на рынке, подошел к Аниному отцу:
«Позволю себе поставить твой тезис с головы на ноги. Видишь, я в партии всего пару лет, хожу на все собрания, на курсы езжу, как только появляется возможность. И в диалектике малость разбираюсь: социализм – дело настолько великое и настолько огромное, – тут он со вздохом, точно от потрясения, закрыл глаза, потом снова открыл и продолжал: – что даже десять тысяч бездарей вроде тебя не смогут его загубить».
Друскат же ответил ему при всех одним-единственным словом, прежде Аня никогда не слыхала от отца такого:
«Г…!»
Очевидно, хорбекским это пришлось по вкусу, потому что Штефан, смеясь, воскликнул:
«Наконец-то разумное слово! Растешь на глазах, мой мальчик!» – и потребовал шнапса.
Стычка, наверно, обнажила бы еще кое-что невысказанное, но помешал грозовой ливень.
«Через озеро вам нынче не вернуться», – сказал Штефан, и они вместе со всеми укрылись в деревне.
6. Хильда Штефан уже несколько минут сидела на кухне, праздно сложив руки на коленях. Наконец она со вздохом встала и пошла к телефону. Позвонила в садово-огородное отделение кооператива и сказала, что сегодня не выйдет... неважно себя чувствует... да... конечно... завтра придет опять.
Сегодня она не может, как обычно, пойти на работу. Кто его знает, до чего Макс договорится с девочкой, что он замыслил. А Даниэль?
Дни у Хильды подчинялись жесткому распорядку. Иначе нельзя, а то ей ни за что бы не управиться: восемь часов на работе, мужчины по дому почти не помогали, но есть хотели вовремя, скотину тоже накормить надо, в хлеву теперь уже не так густо, и тем не менее забот хватает, даже кошка приноровилась к Хильдиному распорядку и жалобно мяукала, если ровно в шесть вдруг забывали налить в мисочку молока.
Теперь же эта женщина, всегдашняя хлопотунья, не знала, что делать, и ей было не по себе.
Она постояла на кухне, рассматривая свое лицо в небольшом зеркале, висевшем над умывальником: «Может, я и вправду заболела. Стоит поволноваться, как вокруг глаз проступают синяки. Ну и вид у меня! Раньше-то красивая была, точно, не хуже той девчонки в горнице, и лет мне было столько же, когда Даниэль пришел в деревню, – шестнадцать».
Раньше ей часто казалось, что Друскатова дочка немножко чудная... слишком тихая, до странности замкнутая. Но ее сегодняшнее появление – такая самоуверенная девчонка-то, куда там! Наверно, потому, что дело идет об отце, она его обожает, и это не так уж плохо, потому что нынешняя молодежь не то, что прежде, никакого почтения к старшим – малый-то вон как обнаглел.
Ей, Хильде, всегда приходилось оглядываться на родителей. У них была усадьба, вот и решили, как для хозяйства лучше. Это было естественно, и столь же естественно то, что она подчинялась мужу. Ах, Макс, что бы из нас иначе вышло? Если один чересчур шумный, другому нужно быть потише, если один слишком силен и неуемен в своих желаниях, тем уступчивее должен быть другой, и это тоже значит дополнять друг друга в браке. Ей, конечно, ни к чему выкладывать это на собрании ДЖСГ[9]9
Демократический женский союз Германии – организация, объединяющая женщин ГДР.
[Закрыть]. Им хорошо рассуждать. Ни одна из них не выстояла бы против Макса, да и не стала бы бунтовать, заполучив его в постель. Принципы – штука умозрительная, а мужик есть мужик. Чуть прикоснется – и у тебя кое-что мигом вон из головы, и первым делом, конечно, теория.
Но почему же она так переживает за Даниэля? Неужели хранила все эти годы нежное чувство? Порой слышишь от людей: женщины, мол, всю жизнь помнят первого мужчину, с которым было хорошо в постели. Только это, видно, просто болтовня. Так, наверно, говорят те, кому со следующим не повезло.
У них с Максом все в порядке, ей просто можно позавидовать. У нее есть все, что только может пожелать женщина. Макс по-прежнему увлекает ее своей невероятной жаждой жизни – и только временами сомнение берет, нужна ли она ему по-настоящему.
Нет, не любовь страхом сжимает сердце при мысли о Даниэле. Может, это сочувствие, обыкновенное, человеческое, как говорится. Но ведь как часто Хильда, не дрогнув, встречала ужасную весть, – значит, это страх перед том, что девочка окажется права и что кто-то из их семьи виноват в аресте Даниэля.
Но в прошлом году они ведь помирились?
Она не пошла со всеми на озеро: не любила шумных празднеств, быков на вертеле, ярмарочного гомона.
«Не пей много, Макс, – сказала она, – и не слишком задерживайся, завтра у тебя тяжелый день. К приезду генерала тебе надо быть на высоте. Ведь, наверно, и речь держать придется?»
Слова ее были брошены на ветер. Макс всегда делал, что хотел. И она обрадовалась, когда хлынул дождь. Теперь празднику конец, нашлась и на Макса управа.
Однако немного погодя зазвонил телефон.
«Хильдхен, мы перебрались к Прайбиш, в трактир... конечно... Будь добра, приоденься и составь нам компанию, а?»
Она попыталась отвертеться: чугунок, мол, на плите, да мало ли что еще, к тому же самочувствие неважное.
И тут Макс сказал:
«Ни за что не догадаешься, кто здесь с нами... Минуточку, сейчас я его позову».
«Алло!»
«Даниэль! Какими судьбами? Да я не знаю... Будешь рад? Ну ладно, забегу на минутку. Только не очень там расходитесь без меня. Привет!»
Она положила трубку, ссутулилась, потом расправила плечи, сама над собой посмеялась и принялась наряжаться, как наказывал Штефан. Потом, вот как сейчас, постояла перед зеркалом, поворачивая голову, оглядела лицо: тонкие морщинки у рта и у глаз, сорок лет – никуда не денешься, и прическа чересчур простенькая – времени не напасешься по парикмахерским бегать... но уродиной ее не назовешь, а если еще губы подкрасить...
Помадой она пользовалась редко, но сейчас до тех пор искала, пока не нашла.
Трактир стоял на другом конце деревни, неподалеку от озера – домишко ветхий, еще старше своей хозяйки, фрау Анны Прайбиш, по прозванию Нойман. Владелице было под восемьдесят, и хозяйство она вела вместе с младшей сестрой, рождение которой опять-таки датируется прошлым веком. Когда Хильда была юной девушкой, сестры Прайбиш уже были чудаковатыми старухами. Никто из деревенских не видел Анну Прайбиш иначе чем в темном, вроде вдовьего, одеянии – длинная черная юбка, худое, почти мужское лицо, в любую пору дня в черном платке. Все в деревне знали ее историю, хотя случилось все это, говорят, еще перед первой мировой войной. Хильда до сих пор помнила рассказы матери...
Когда-то Прайбиши были в деревне первыми богачами – после графского семейства: им принадлежало пятьдесят или шестьдесят моргенов пахоты, половина Монашьей рощи да постоялый двор. В те времена деревенские трактиры были в моде, и каждое воскресенье наезжали городские, оставляя деньжата у Прайбишей, и на троицын день всегда что-нибудь устраивали – музыка в саду, танцы до поздней ночи.