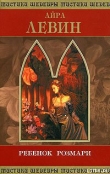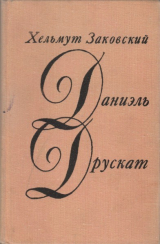
Текст книги "Даниэль Друскат"
Автор книги: Гельмут Заковский
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Помнишь, мы гадали, что выбито над порталом замка Хорбек? «Прилежному споспешествует счастье». Эта фраза правдивее ваших лозунгов. А ты требуешь, чтобы я отдал свое счастье бездельникам? Нет!»
С этими словами он круто повернулся и пошел к коню. Но Даниэль догнал его и положил руку ему на плечо.
«Подожди!»
Секунду Макс не двигался, чувствуя Даниэля за спиной. Ему стало не по себе, в конце концов он покосился на эту руку: будто его коснулось нечто зловещее. Может, даже подумал о руке закона, которая тянулась к нему; наконец он стряхнул руку и обернулся. Они стояли лицом к лицу.
«Неумехами их называешь, – сказал Даниэль, – лодырями, потому что они не такие буйволы, как ты. Ты ведь знаешь всех: женщины с детьми, старики, бывшие поденщики и батраки, я в ответе за них, за них и за усадьбы, а разорили эти усадьбы не мы, другие. Мало-помалу мы продвигаемся вперед, и мне это приносит чуточку удовлетворения, а ты толкуешь о счастье, которое якобы добыл тяжким трудом. Усадьба принадлежала ортсбауэрнфюреру. Ты получил ее благодаря женитьбе».
«Ты бы тоже не отказался», – пошловато осклабился Макс.
«Мне девушка была дороже усадьбы, тебе этого не понять. Разглагольствуешь, что всего добился, уму непостижимо: в тридцать лет считать, что цель достигнута, и только потому, что имеешь кучу денег, машину, верховую лошадь, – обывательское счастье, купленное уступками, на которые общество вынуждено было идти в переходный период. Я хочу большего, хочу, чтобы всем в Хорбеке жилось хорошо, а не только спекулянтам вроде тебя. Для этого мне нужен каждый человек в деревне, и ты тоже. Никто не польстится на твои вонючие деньги, наращивай проценты и делай с ними что хочешь – теперь, по-моему, мы квиты».
Они в упор смотрели друг на друга. Неужели Макс не понимал, что тревожило этого беднягу Даниэля – жена неизлечимо больна, чего доброго, умрет. Неужели Макс не видел или не хотел видеть, что глаза Даниэля молили: перебори себя, скажи «да», подпиши наконец, признайся, в глубине души ты уже давно все понимаешь и отказываешься только из упрямства, ты всегда знал, что мы хотим построить в этой стране социализм и что он не остановится перед твоим забором! Твой дом не замок и уж тем более не крепость!
Может быть, Макс понимал все это, тогда, стоя один на один с Даниэлем. А может быть, он лишь позже сообразил, что тот прав в своих требованиях или по крайней мере обязан так поступать, повсюду ведь трубят о кооперативах, ему нельзя иначе. Наверное, так и было, а еще позднее его охватило чувство вины, спустя много дней, когда он провожал взглядом автомобиль, увозивший из деревни Даниэля с больной женой и ребенком.
В ту минуту, стоя у липы лицом к лицу с Даниэлем, Макс мог думать только о себе, о несправедливости, которую хотели причинить ему, о крушении своих планов. Действительно, тогда он считал сто моргенов усадьбы делом всей жизни.
«Я давно знаю тебя, – сказал Даниэль, – знаю, порой ты оказываешься в тупике, а зайдя в тупик, не любишь поворачивать. Пойдем со мной в комитет! Надо обсудить, какую работу тебе придется выполнять. Лучше всего бери животноводство. Идем!»
Он протянул Максу руку.
Макс руки не заметил, в ту минуту он мог только ненавидеть:
«Хильда тебе не досталась и ее хозяйство тоже, никак до сих пор не оправишься. Полез в политику, слепил этот жалкий кооператив, и ничего не вышло, потому что ты не способен чувствовать и мыслить по-крестьянски, функционер несчастный! Сегодня ты, наверно, впервые в жизни испытываешь эдакое дохленькое счастьице, сегодня, потому что ты можешь отомстить Хильде за отказ, можешь отомстить мне, всем, кто был удачливее тебя. Тьфу, черт!»
Он сплюнул под ноги Даниэлю и, уже подбегая к лошади, крикнул, так что над холмом разнеслось эхо:
«Знать тебя не хочу вместе с твоей паршивой компанией. Тебе не подчинюсь. Лучше все брошу, лучше смотаюсь на Запад».
Он вскочил в седло, сгреб в кулак поводья, рванул уздечку – лошадь поднялась на дыбы, – и, не отскочи Даниэль в последнюю минуту, Макс растоптал бы его. В слепой ярости он тогда чуть не натворил беды, но что значит родиться в сорочке: в конце концов все странным образом обернулось для него к лучшему. Несчастье постигло другого, но это и не удивительно, ведь счастью Макса помогла подлость.
Может, и вправду рассказать обо всем старику Гомолле?
6. Штефан отрицательно покачал головой.
– Нет, я ничего не знал об этих трупах. Но, понимаешь... – Он помедлил и продолжал: – Я дал втянуть себя в паршивую историю...
– Вот как! – Гомолла взглянул на Штефана.
Макс не выдержал его взгляда и наконец, пожав плечами, сказал:
– Если бы мне не предложили председательство, я бы наверняка смылся на Запад. Кстати, – он кивнул вниз в сторону деревни, – самое время идти. Хильда ждет с машиной.
Старик тяжело поднялся с травы, однако не допустил, чтобы Штефан ему помогал. Встав наконец на ноги, он потянулся, выпрямился и, пока Штефан не подал ему трость, держался обеими руками за поясницу.
– До чего же противный крюк, – сердито сказал Гомолла, – четверть часа от липы до деревни, а потом еще десять километров по шоссе – когда-то доберешься до Альтенштайна. Друскат был прав, настаивая на строительстве дороги. Но ведь он знал, как она пойдет. Так или иначе ясно одно: если бы прокурор не появился сегодня, дня через два могилу разворотил бы экскаватор. Как ты думаешь, Друскат это учитывал?
Штефан пожал плечами:
– Не знаю.
А сам подумал: «Вполне возможно. И то, что сейчас расследуют, может коснуться кое-кого из нас, некоторые, правда, еще и не догадываются. Мы с Даниэлем и дружили, и враждовали, пару раз я хотел от него избавиться, да так и не сумел. Мы странным или, вернее, роковым образом скованы одной цепью, он со мной, с Гомоллой, а все мы – с людьми в деревнях. Отдаем мы себе отчет или нет, но волей-неволей все мы связаны друг с другом. И многие имеют отношение к делу Друската.
Когда мы заметили, что с Даниэлем Друскатом что-то не так, когда он вел себя странно или делал что-либо для нас непонятное, то поначалу думали: все станет ясно, стоит только разобраться, когда это было и при каких обстоятельствах.
Но теперь я понимаю, что в такой-то день такого-то года я сам совершил поступок, о котором сегодня вынужден сожалеть. Чудно, сперва я еще надеялся: достаточно будет проверить пресловутые темные пятна в жизни Друската, и все, а теперь, думая о Даниэле, должен перепроверять себя, и не всегда это проходит гладко. Ведь в самом худшем я старику еще не признался».
– Однако, – заметил Гомолла, – признания у тебя удивительные. Прощелыга ты был, даже за границу драпать собирался.
«Нет, пока не могу, – думал Штефан, – я ему скажу, как только спустимся в деревню, прямо при Хильде и скажу». Он снова прибегнул к спасительной наглости и невинно вытаращил глаза:
– Растут люди, Густав.
– Да-да. – Гомолле опять нашлось чему удивляться, потому что они шагали по необозримой пшеничной ниве, моргенов сто, а то и больше, пшеница густая, пышная, высокая, несмотря на то что уже несколько недель стоял жестокий зной и травы в лугах желтели и сохли.
Гомолла остановился, сорвал колосок, растер в пальцах, сдул ость, на ладони остались крупные зерна.
– Хороший будет урожай!
– И неудивительно.
Штефан объяснил, как поле было подготовлено к севу: возделывание промежуточных культур, удобрение и прочее.
– Насколько хватает глаз, все принадлежит нашему кооперативу. И урожай везде будет добрый. Теперь иные косятся: Хорбек-де остров благоденствия. Но никто не спросит, почему это так. Я тебе объясню. Мы работаем, будто в одной огромной усадьбе, член кооператива у нас еще и хозяин, сохранил свою индивидуальность, а может, тут только ее обрел. Бывает, и принуждаем, но принуждаем по-хорошему, ведь каждый должен делать то, в чем он лучше всего разбирается, что ему больше всего по душе. Успех – вот он, у тебя на ладони. Можешь его потрогать, и все равно зовешь меня упрямым германским вождем, а мою политику в деревне считаешь ограниченной.
У Гомоллы не было ни малейшего желания продолжать этот разговор, он по-прежнему держал в руке зерна, хотел бросить, но не мог, задумался. Почему? Осталось что-то с детских лет, мать была набожная: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Нет... «Видно, я слишком наголодался в жизни, – думал Гомолла, – потому-то всякий раз и возмущаюсь, когда дети не задумываясь швыряют на дорогу или в урну бутерброд».
Он высыпал зерна с ладони в рот, разжевал – невкусно, взмахнул палкой и, жуя, пробормотал:
– Вперед!
Штефан задержал его.
– Густав, мне хочется, чтобы ты меня понял. Я не из ограниченности против индустриальных методов в сельском хозяйстве, я по опыту против укрупнения, за которое ратовал Даниэль.
– Теперь уже не может ратовать. – Гомолла кашлянул и решительно выплюнул кашицу. – Ох, и противный вкус.
– Мальчишками, – сказал Штефан, – мы с Даниэлем однажды забрались в склеп графов фон Хорбек. Теперь его замуровали, а раньше можно было поднять крышку и спуститься к гробам.
«Черт, – подумал Штефан, – от чего ушли, к тому и пришли. Я спустился вниз. От затхлых испарений дышать нечем, зажег фонарь, поднял его, в свете коптилки между гробов стоял бледный как смерть поляк. Потом склеп опустел, мальчишка-поляк куда-то сгинул... Наверно, это он похоронен возле скал, надо сказать старику. Но кто же второй?»
– Страшные истории? Очень интересно, – оживился Гомолла. – Что же там было, в склепе?
– Длинный цилиндрический свод, – рассказывал Штефан, – по бокам ниши и гробы, гробы – усопшие из семейства Хорбек. В конце склепа мраморный саркофаг. Мы разобрали надпись: герцог Иоахим Мекленбургский. «Вот так штука, – говорю я Даниэлю, – как же это герцог среди графов очутился?» Очень мне любопытно стало. Расспросил потом учителя, даже пастора и в конце концов выяснилось, что давным-давно, лет эдак двести назад, всем, что ты видишь вокруг, владел герцог, потом герцогство то ли захирело, то ли пошло с молотка, кто его знает, во всяком случае, земли продали, раздробили на множество мелких поместий, с которыми – это уже на моей памяти – разделались Гомолла и его люди.
Я не забыл, как стоял перед тем мраморным саркофагом и читал при свете коптилки: «Здесь покоюсь я, Иоахим, герцог». А я – скотник – стоял возле саркофага и думал: «Не было у тебя достойных преемников, герцог Мекленбургский!» Можешь считать меня сумасшедшим, Густав, но последние десять лет это стало для меня чуть ли не навязчивой идеей... я думал, вдруг нам, мне и моим ребятам, большинство ведь сельскохозяйственные рабочие, вдруг нам удастся возродить герцогство в былом величии и превратить его в крупное социалистическое предприятие, которое посоперничает с любой суперфермой, – вот это дело! Нам это почти удалось, Карбов наш, Хервигсдорф тоже...
– Только Альтенштайна до герцогства и не хватает, – подытожил Гомолла.
– У тебя отпадет охота скалить зубы, – ответил Штефан, – если ты проверишь наш баланс. Погляди вокруг – предприятие плановое, хорошо механизированное и до мелочей продуманное. Везде поля вроде этого. И мы должны позволить нескольким фанатикам и ловкачам вроде Друската все уничтожить? Индустриальные методы производства в сельском хозяйстве, – он произнес это по слогам, – едва выговорил, но я знаю, что это означает: ни одного хозяина в деревне, ни одной курицы во дворе, ни одной утки на пруду, ни единого голубя на крыше. Хорбек, Карбов и Альтенштайн – там только спать будут, а утречком люди валом повалят на улицу, словно рабочие пчелы, и двинут с машинами на поля двадцати деревень, как в Америке, – от одной мысли мороз по коже дерет. А вот как мы тут работали, Густав, целых десять лет, это нам по нраву, да и успех налицо, кто же меня осудит за то, что я свое защищаю любой ценой?
– Никто не осудит тебя за то, что ты отстаиваешь собственное мнение, отстаивай на здоровье, хоть со всей страстью – мне не жалко, но вот «любой ценой», сынок, уже допускает и паршивые методы, свинство. Тут я мог бы тебе напомнить кое-какие случаи из своей практики.
7. «Ишь, – думал Гомолла, – говорун-то куда замахнулся, так сказать, с идеей носится, идея честолюбивая, хоть и безумная, и ведь кое-чего добился, вправду создал маленькое социалистическое герцогство и решил: мечта обрела реальность, он у цели и может пожинать лавры. А тут мы: это, товарищи, дело прошлое, теперь надо по-новому. Лучше будет или нет, не знаю, я не специалист, я пенсионер, зато знаю – очень здорово, когда можно подытожить: развитие идет вперед, товарищи! Только мне кажется, иной раз мы слишком торопимся... черт возьми! Пока мог, я и сам вовсю шуровал, и кое-что переменилось. Например, Штефан. Я его не люблю, однако надо признать: парень он энергичный, чем-то даже на меня смахивает. У мужика есть идеи, он что-то делает, пускай даже неправильно, все равно люди деятельные мне больше по душе, чем те, которых сперва надо угостить хорошим пинком, чтобы они с места сдвинулись.
Нет, не очень я его люблю, но кое-чего он добился, некоторое время был передовиком, и газеты о нем трубили. Мне это не нравилось, я ведь помнил, что в шестидесятом этот Штефан ходил еще в махровых реакционерах, и, будь по-моему, я бы привел молодчика в сельский революционный комитет в наручниках, ибо этот ветрогон, этот проклятый комедиант нас одурачил. Франц Маркштеттер, первый секретарь окружного комитета СЕПГ, с трудом сохранял серьезность, когда я докладывал об этом вопиющем безобразии. По-моему, ничего забавного там не было. Мы сидели тогда в конференц-зале комитета, присутствовали все секретари райкомов, я вопрошающе смотрел на них: в чем дело? Почему они ухмылялись, когда я отчитывался об инциденте? Верно, позавидовали, что я первый доложил о выполнении, потому что некоторые вдруг начали старательно сморкаться, а на деле просто прятались за носовыми платками, другие же беззастенчиво прыскали, точно я невесть как сострил. Я искренне возмутился и воскликнул: «Неужели вы можете над этим смеяться, товарищи?»
Гомолла предъявил Друскату ультиматум: в субботу к двенадцати дня Хорбек должен быть сплошь кооперирован!
Около одиннадцати его машина подъехала к лестнице замка. Он вылез из нее и огляделся: чудесный весенний день, солнечный, яркий, на клумбе у лестницы примулы в цвету – желтые, красные, голубые; говорят, в свое время за ними самолично ухаживала графиня. В сорок пятом Гомолла распорядился сохранить цветник, он так красиво смотрелся на фоне зеленой лужайки, только скульптуру посреди клумбы – не то амурчик, не то еще кто-то – он велел спихнуть с цоколя и заменить простым камнем с надписью: «Земли помещиков в руках крестьян».
Так вот. Примулы, значит, в цвету, небо голубое, солнышко над лужайкой, в деревне веселье: на площади ревел громкоговоритель – «Сегодня нам так весело, сегодня к нам радость пришла», – звуки отражались от фасада замка, и казалось, будто в честь праздника немного вразнобой играют два оркестра-соперника.
Гомолла окинул взглядом площадь перед замком и с удовлетворением припомнил, что в свое время энергично воспротивился сносу феодальной твердыни – куда бы иначе деваться переселенцам, а их было немало, – нет, замок Хорбек надо было сохранить, и роскошную клумбу тоже. Правда, Гомолла считал, что этот замок в стиле «тюдор» по крайней мере с улицы не должен напоминать дворянскую усадьбу, и потому велел выстроить на площади перед замком два глинобитных дома для новоселов, так сказать перед носом у спесивого зубчатого сооружения. Кстати, их заново побелили, обнесли хорошим штакетником, и цветущие примулы в палисадниках соперничали красотой с родичами на клумбе бывшей хозяйки замка.
Все, что в эту субботу Гомолла видел и слышал, все, о чем размышлял, радовало до тех пор, пока он не поднялся по лестнице и не встретил Даниэля, который поджидал у портала. Вот так лицо! Веселое настроение улетучилось. Рапортовать Друскату не пришлось. Гомолла и сам понял по одному только его мрачному виду: эта вонючая дыра Хорбек все еще не полностью кооперирован, и это за час до срока.
Друскат проводил Гомоллу в одну из некогда пышных комнат, на потолке до сих пор сохранилась богатая лепка, изображающая гирлянды плодов; краски, правда, слегка потускнели, но тем ярче горела на столе кумачовая скатерть. На грубо сколоченных лавках сидело несколько крестьян, они хмуро кивнули Гомолле. А деревенский полицейский – его перебросили сюда из альтенштайнского отделения – вытянулся по стойке «смирно» и по-военному козырнул.
Оперативная сводка. Докладывал Даниэль, морща лоб от раздумий над каждой фразой, которую приходилось произносить. Каково положение? Серьезное положение, товарищи!
Гомолла уже набрал воздуху, собираясь чертыхнуться, но Даниэль не дал себя перебить и, пристально глядя на Гомоллу, повысил голос:
«Итак, отказываются всего четыре человека, однако каждый в деревне знает, чем это грозит, и Штефан тоже. Вчера вечером я еще раз разъяснил ему, что его ждет, если он будет упираться».
Друскат распахнул окно, и в комнату ворвался громоподобный рев агитмашины, провозглашавшей на всю деревню:
«Час решения настал. Сельский революционный комитет постановил к двенадцати часам завершить в Хорбеке социалистические преобразования. В последний раз обращаемся к тем, кто медлит: откройте ворота!»
Даниэль захлопнул окно:
«Сколько раз мы проводили индивидуальные беседы – не счесть; часами били отказчиков по ушам музыкой и лозунгами, мы проявили безграничное терпение, и вот оно иссякло. Ровно в двенадцать истекает срок ультиматума, ровно до двенадцати мы ждем, но потом мы – товарищ из полиции и я – обеспечим себе доступ в усадьбу Штефана, придется обратиться за помощью к государственной власти, иного выхода у нас нет».
Он посмотрел на альтейнштайнского полицейского. Тот, в сущности, был человек добродушный, тоже из деревни, в свое время работал дояром, со всеми на «ты», однако теперь, секунду помедлив, он вытащил из кармана пару наручников, поднял их и слегка встряхнул. Они звякнули, точно браслеты на женской руке.
«На крайний случай, – сказал полицейский, – если он начнет распускать руки, то бишь окажет сопротивление государственной власти, а это наказуемо».
«На крайний случай, – повторил Даниэль. – Ты согласен, товарищ Гомолла?»
Гомолла словно в глубоком раздумье выпятил нижнюю губу, казалось, прикидывая, стоит ли соглашаться на крайние меры, и наконец кивнул.
«Согласен, Даниэль. На крайний случай».
Кстати, в совещании участвовал бургомистр Присколяйт, человек добросердечный, в ту пору ему было около сорока лет.
В последний военный год этому Присколяйту миной оторвало правую ногу. Ранение он залечил в госпитале тогдашнего города Кольберга[17]17
Ныне Колобжег в Польской Народной Республике.
[Закрыть] и в начале сорок пятого с большим риском сумел на рыбачьем катере выбраться из забитого беженцами города, который война скоро превратила в развалины.
Его поселили в чердачной каморке одной из батрачьих лачуг Хорбека. Вскоре он женился на дочери хозяев, та служила горничной в замке, впоследствии родители получили по реформе землю – так Присколяйт оказался связан родственными узами со многими членами кооператива, чувствовал себя их представителем и не одобрял, что старожилы вроде Штефана спесиво противятся социалистическим преобразованиям. Он знал: кое-кто из них и мысли не допускал, чтобы работать вместе с бывшими батраками. Точно так же не одобрял Присколяйт и появление звенящих цепей, ему стало не по себе, хотя три раза подчеркнули: на крайний случай. Как бы то ни было, чувств своих он не выдал, вероятно из уважения к Гомолле. В свое время он сменил того в должности, и, конечно, до человека вроде Гомоллы ему было далеко. Гомолла вдруг опять вспомнил об этом, с неудовольствием наблюдая за своим молчаливым преемником, и напрямик спросил, что́ Присколяйт думает насчет крайнего случая.
Присколяйт до тех пор качал и качал головой, пока Гомолла не взорвался:
«Да говори ты наконец!»
Тогда он нерешительно сказал:
«Мне это не нравится».
Крестьяне-комитетчики насторожились и подняли головы.
«Ты что же, думаешь, нам нравится все, к чему нас порой вынуждает противник? – возмутился Гомолла. На счастье, он вспомнил, что́ рассказывали о Штефане. – Этот человек опасен. Разве он не угрожал? – спросил он и обвел взглядом присутствующих, ища поддержки. – Разве он не распахнул окно своего дома и не орал на всю площадь, что спихнет проклятую агитмашину в пруд вместе с экипажем? Это его слова! А на крепкий сук – острый топор!»
Потом он сделал знак Друскату: еще чего доброго, заведут в острейшей ситуации эдакие парламентские дебаты, не было печали.
Даниэль понял.
«Ладно, пошли, – скомандовал он. – До двенадцати всего ничего осталось».
Комитетчики, Друскат и полицейский торопливо спустились по лестнице замка, бургомистр ковылял следом. «Если на минуту забыть о Присколяйтовом увечье, – думал Гомолла, – то ведь до чего характерная штука: государственный аппарат вечно плетется в хвосте. А нерешительность! Ненавижу эти колебания между да и нет. Присколяйт не хочет никого обидеть, у мужика полдеревни родня. Но тут уж ничего не поделаешь, партия не монашеский орден и не может запретить ответственным должностным лицам вступать в брак и тем самым заводить родственников».
Гомолла вспомнил, как в один прекрасный день он хлопнул этого мужика по плечу:
«Будешь у меня писарем!»
Присколяйт и тогда не сказал ни да ни нет, только беспомощно показал на свой протез, вероятно опасаясь, что тот будет помехой в работе – ведь придется много ходить по деревне. Ничего, выход найдется. Гомолла тоже воспользовался языком жестов и сунул Присколяйту под нос свою правую руку: большого пальца нет, потерян в концлагере.
«У меня нет пальца, у тебя – ноги, зато вместе у нас три ноги и три больших пальца. Сдюжим!»
Так они в конце концов и сработались, и – ничего не скажешь – со временем Присколяйт оказался более чем способным помощником, например при разделе помещичьей земли. Скоро они отлично дополняли друг друга, ибо Гомолла умел ладить с людьми, а Присколяйт – с бумагами.
Итак, незадолго до двенадцати мужчины миновали парк и через несколько минут вышли на сельскую площадь.
Может, площадь – это слишком сильно сказано, но тем не менее улица перед церковью расширялась и даже как бы чуть разбухала, прежде чем протиснуться между прудом и кладбищенской стеной и устремиться к озеру. Вдоль дороги к озеру выстроились дома крестьян-новоселов.
Напротив церкви – незамысловатой фахверковой постройки – крепко стояли четыре усадьбы. Принадлежали они старожилам и были выстроены на рубеже веков в одинаковом стиле: двухэтажные кирпичные кубы. Правда, с недавних пор по флангам выросли еще две ярко оштукатуренные постройки, с одной стороны пожарное депо, с другой – магазин, поэтому с полным правом можно было сказать, что над площадью господствовали не только усадьбы единоличников и церковь, не менее прочно утвердились там и магазин, и добровольная пожарная дружина.
Как почти в любом селе, на церковной отраде висела застекленная витрина. Гомолла остановился перед ней, наклонился, поудобнее зацепил за уши дужки очков, наморщив лоб, пробежал глазами объявление, взмахнул руками и позвал остальных: те на церковные объявления внимания не обратили.
До двенадцати осталось всего несколько минут. Агитмашина – она разъезжала где-то поблизости от деревенского пруда – еще раз провозгласила, что час решения настал, потом. вновь послышался визгливый вальс.
«Слушай, – спросил Гомолла у бургомистра, – ты, верно, не заметил, какой лозунг выдвинул господин пастор по случаю социалистической кооперации?»
Теперь и Присколяйт подошел вплотную к витрине и огласил собравшимся слово господне:
«Часто мы мним себя более великими, нежели мы ость. Господь не поддастся обману».
Присколяйт нерешительно взглянул на Гомоллу и пробормотал:
«Ты думаешь... провокация?»
«А что же еще? – воскликнул Гомолла и ехидно прибавил: – Господь не поддастся обману, ладно, рабочий класс – тоже».
Он бы наверняка пустился и в другие принципиальные рассуждения, но Друскат крепко взял его за локоть и потащил прочь от витрины.
«Густав, ведь вот-вот двенадцать».
Потом Даниэль подал знак шоферу агитмашины, и рев музыки мгновенно смолк.
Внезапно наступила мертвая тишина. Перед ними залитая весенним солнцем лежала сельская площадь, и все же у Гомоллы было такое чувство, будто он попал в жуткое место, кишащее привидениями. Остальные, видно, ощутили то же, деревня казалась вымершей: ставни закрыты, ворота повсюду на запоре, ни одна курица не копалась в палисаднике, ни утки в пруду, ни собачьего лая, ни дуновения, ни звука.
До того тихо, что шепот мужчин будто отдавался по всей площади, и под ногами громко хрустел гравий.
Вот-вот двенадцать. Пятеро крестьян из комитета, Гомолла, Присколяйт и Друскат, засунув руки в карманы брюк, в ожидании стояли посреди площади. Им почудилось, что они находятся на рыночной площади совершенно чужого, покинутого города, словно, кроме них, нет в этом городе никаких живых существ. Они посмотрели по сторонам, потом друг на друга, пожали плечами. Неужто все отказчики разбежались? Неужто они опоздали?
Даниэль поднес ко рту сложенные рупором ладони и крикнул:
«Эй, Штефан, открывай!»
Казалось, будто он, крошечный, среди гигантских гор зовет заблудившегося спутника.
Нет ответа – только эхо собственного голоса.
Подошел полицейский и остановился рядом с Друскатом – срок истек, но Даниэль жестом приказал человеку в форме: стой! – и один медленно направился к дому Штефана, всего каких-то тридцать метров, не больше, по дороге через пустынную площадь словно не было конца.
Почти у самых ворот он вздрогнул от неожиданности: внезапно загремели колокола хорбекской церкви. Остальные тоже вздрогнули, круто повернулись и уставились на колокольню. Между тем ничего особенного не произошло: двенадцать дня, кистер[18]18
Служка в лютеранской церкви.
[Закрыть] всегда звонил в этот час, и по субботам тоже.
Но тут – колокол, вероятно, послужил сигналом – ворота Штефановой усадьбы со скрипом распахнулись, и все как по команде обернулись к домам: что там такое? Быть не может! Гомолле почудилось, что ему средь бела дня снится кошмарный сон.
Во дворе у ворот застыла кучка людей: кряжистые мужчины в негнущихся цилиндрах, женщины в черных шалях и развевающихся черных вуалях. Человек тридцать, все в трауре, молча стояли на Штефановом дворе, неподвижно, будто их вот-вот должны сфотографировать, будто фотограф секунду назад поднял руку, крикнул: «Снимаю! Если можно, пожалуйста, не шевелитесь!» – и нажал спуск. Скверная ситуация – ведь не докажешь, что группа представляет собой скопище контрреволюционеров, хотя сам Гомолла в этом нисколько не сомневался. И вот – просто невероятно! – как только умолкли колокола, сразу послышались тоскливо-дрожащие звуки гармони, раздался хорал «Господь наш – прибежище наше», и на площадь торжественно и чинно шагнули Штефан с Хильдой, а за ними парами в сопровождении семей остальные саботажники, все в черном, в руках венки, белые ленты тянутся прямо по дороге.
Даниэль одним прыжком выскочил вперед, оттолкнул гармониста, хорал оборвался резким диссонансом, траурный кортеж остановился – Друскат, раскинув руки, преградил им путь. В эту минуту он напоминал священника, который, воздев руки, пытается положить конец дьявольскому наваждению.
«Это еще что за ерунда? Макс, ты должен подписать!» – крикнул он срывающимся от гнева голосом.
Но Штефан, кроткий как овечка, в ответ на яростную вспышку Друската только слегка дернул щекой и кончиком пальцев спокойно стер с лица брызги кипящего гнева. Он из-под цилиндра бросил на Даниэля почти наивный взгляд и хрипловатым голосом произнес:
«Наша обязанность отдать последний долг покойному, мы идем на похороны».
Даниэль пристально посмотрел на Хильду. Та с трудом выдержала его взгляд; как знать, что она прочла в его глазах – разочарование, горечь или презрение.
«И ты могла так поступить, Хильда», – сказал Даниэль.
Ее лицо вспыхнуло, она опустила веки, словно сгорая от стыда, и пошатнулась. Штефан предложил жене руку, она приняла ее, видно нуждалась в опоре, ее пальцы впились в черный рукав праздничного костюма мужа.
Все это произошло в считанные секунды, и Гомолла долго не прощал себе, что от растерянности ничего не смог придумать. Можно было бы, например, перегородить агитмашиной узкое место улицы между прудом и кладбищем. Но он не сообразил. И вот гармонист вновь извлек из инструмента жалобную мелодию, процессия двинулась, и никто не успел глазом моргнуть, как скорбящие, опустив головы, в отменном порядке миновали ошеломленных кооператоров и вышли из деревни.
В какой последовательности все это произошло, никто позже сказать не мог. Каждый из мужчин, по-видимому, сосредоточил все свое внимание на диковинной траурной процессии, потому-то от них и ускользнуло, что тем временем сельскую площадь заполонили любопытные, мужчины и женщины, старики и молодежь. Люди стояли вплотную друг к другу, перегнувшись через перила кооперативного магазина, дети облепили церковную ограду или болтали ногами, сидя на деревьях. Еще несколько минут назад все вокруг казалось точно вымершим и до жути тихим, так что чудилось, будто слышишь собственное дыхание, а теперь переполненная людьми площадь гремела неумолкающим хохотом.
Гомолла свирепо сорвал с головы шапку и швырнул ее наземь.
Даниэль придумал кое-что получше: он сделал знак водителю агитмашины, тот кивнул, но забыл сменить пластинку, и хорбекцы продолжали покатываться со смеху под звуки популярной лирической песни «Сегодня нам так весело, сегодня к нам радость пришла».
Все это случилось по истечении срока ультиматума, после двенадцати, в весеннюю субботу памятного шестидесятого года – комедия, сочиненная и инсценированная Штефаном.
Правда, она дала Максу и его приятелям всего лишь отсрочку, и все же при всем бесстыдстве и нахальстве этой затеи она, пожалуй, – с годами у Гомоллы возникла почти твердая уверенность – разрядила напряженную ситуацию в деревне. Иначе Францу Маркштеттеру, первому секретарю окружного комитета партии, не пришлось бы прятать усмешку.
Конечно, тогда Гомолле и его спутникам было не до веселья. Но что оставалось делать? Поднять по тревоге полицейские посты окрестных деревень? Уголовную полицию? Гнаться за траурной процессией с кулаками? Нет. Они сделали хорошую мину при плохой игре. Гомолла поднял и отряхнул шапку, по-ухарски нахлобучил ее на голову, толкнул Даниэля кулаком в грудь, и оба захохотали вместе со всеми: ха-ха-ха!
Да-да, они смеялись, хотя и принужденно: ха-ха! – а потом степенно, с достоинством удалились с площади. Гомолла раскланивался во все стороны, даже великодушно терпел шуточки по своему адресу, только крикнул, уходя: