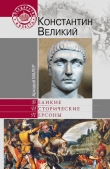Текст книги "Чудо пылающего креста"
Автор книги: Френк Джилл Слотер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 36 страниц)
Глава 36
1
В результате дебатов на Никейском Соборе и, в частности, благодаря тому, что в это время Константин твердо держал в руках бразды правления, появился символ веры, выразивший в относительно немногих словах истину о великих тайнах, касающихся отношения человека к Богу. Кроме того, Собор выступил с анафемой, приведшей к изгнанию Ария и двух непокорных епископов, Евсевия Никомедийского и Феогнида Никейского, и посеял семена будущего раздора.
В Египте патриарх Александр вскоре после окончания Собора ушел со своего поста, и на его место был Поставлен Афанасий, яростный защитник идеи «единосущности» Бога Отца и Сына. Теперь, когда епископ Александрии стал самым главным противником арианской ереси, упорно цепляющейся за идею «подобносущности», казалось, больше не возникнет никакого разногласия.
Однако от Нового Рима Египет был отдален гораздо больше, чем просто от полуострова Малой Азии и восточного побережья Средиземного моря. Вскоре доктрину Ария снова стали проповедовать в Малой Азии и Келесирии, высекая искру, необходимую для разжигания нового пламени религиозных споров. Да и сам Константин дал толчок этому движению, когда под влиянием епископа Кесарийского, личности яркой и обладающей талантом убеждать, позволил Евсевию Никомедийскому и Феогниду Никейскому возвратиться из ссылки, а позже распространил свое императорское милосердие и на Ария, изгнанного в Галатию.
Возвращение двух епископов было безоговорочным – им позволялось снова вернуться к своим обязанностям. Однако Арию воспрещалось ехать в Александрию, где он незамедлительно вступил бы в борьбу с епископом Афанасием, чье положение в Церкви день ото дня становилось все более весомым. И все же, достигнув своей первой цели – возвращения из ссылки Ария, друзья мятежного священника избрали теперь второй своей целью самого епископа Афанасия.
Зная, что Афанасий пользуется репутацией опытного полемиста, они сначала сосредоточили свои усилия на одном из ближайших его соратников, епископе Евстафии Антиохском, и добились его изгнания. Этот акт произвола со стороны крайне предубежденного религиозного суда вызвал гнев многих людей и еще большее размежевание, но вслед за этим неподатливые ариане согнали еще двух епископов с их престолов. Только тогда они решили, что достаточно сильны, чтобы дать бой самому Афанасию.
К тому времени, когда Константин освятил Новый Рим, полемика шла в полном разгаре. И когда император, враждебно настроенный против Афанасия Евсевием Никомедийским и другими, повелел епископу Александрийскому вновь допустить в эту церковь Ария, Афанасий отказался. Этого-то только и добивались сторонники Ария. Но, к их глубокому разочарованию, Константин, крайне раздосадованный внутрицерковной борьбой, удерживавшей восточную Церковь в состоянии непрерывного брожения, не стал наказывать Афанасия. Но поток обвинений против него не прекращался, и спустя три года после освящения Нового Рима епископу Александрийскому было велено предстать перед религиозным судом в Кесарии.
Будучи опытным воином в полемических схватках по вопросам церковной доктрины, Афанасий отказался защищаться на территории противника перед заведомо предубежденным трибуналом. Когда наконец двумя годами позже в Тире состоялось разбирательство его дела, против него оказались выдвинуты старые, в основном абсурдные обвинения. Но, как и на Никейском Соборе, он защищался с таким мастерством, а сфабрикованные улики оказались настолько неосновательны, что суд не осмелился осудить его, боясь навлечь на себя гнев Константина. Вместо этого в Афины отправили комиссию для сбора дополнительных улик, на основании которых можно было бы строить новые обвинения.
Афанасий же тем временем решил смело положиться на милость императора и поехал в Новый Рим. Остановившись посреди дороги, он загородил путь в город Константину, когда тот возвращался назад из короткой поездки. Но когда гвардейцы императора хотели оттеснить его в сторону, Константин приказал им отступиться от него.
– Лицо твое кажется мне знакомым, – сказал он. – Мы раньше встречались?
– Я епископ Афанасий из Александрии.
– Теперь припоминаю. – Лицо Константина прояснилось. – Ты очень красноречиво выступал против Ария.
– Надеюсь, я смогу быть таким же красноречивым, защищая самого себя, доминус, если ты только не откажешь мне в аудиенции.
– Я всегда восхищался храбрым бойцом – даже если он сражался за неправое дело, – подбодрил его Константин.
– Но мое дело правое, доминус, дело Христово.
– Однако тебя обличил суд епископов.
– Обличил? Нет, доминус. Они отложили разбирательство. Им для этого нужно больше улик, и они их ищут в Египте.
– И найдут? Как ты думаешь, епископ Афанасий?
– Если только не состряпают сами, доминус.
Константин заглянул худенькому епископу в глаза и остался доволен: там не было ни страха, ни раболепства.
– Ты, епископ Афанасий, стал настоящим буревестником, и в своем желании оправдаться такие часто вредят своему собственному делу, даже если оно и правое. Найди жилье в Новом Риме за мой счет, а я тем временем пошлю своего представителя Дионисия в Тир, чтобы он узнал правду. Тогда тебе представится возможность встретиться с врагами лично в моем присутствии.
– О большем я не прошу, доминус, – сказал Афанасий и сошел с дороги, чтобы дать проехать императору.
Дионисий в своем отчете подтвердил заявление Афанасия, что так называемый Собор Тира являлся лишь пародией на то, чем должен быть церковный суд, и Константин приказал участвовавшим в нем епископам немедленно явиться в Новый Рим, чтобы вместе с Афанасием предстать перед ним как перед судьей. А между тем комиссия, ездившая в Египет, уже осудила Афанасия по далее сфабрикованным обвинениям, объявила Ария очищенным от всяческой ереси и рекомендовала восстановление его в Александрийской церкви. Когда же они повторили свои обвинения против Афанасия в присутствии Константина, так называемые улики оказались настолько абсурдными, что все это дело вызвало у Константина отвращение.
К тому времени Афанасий стал центром бурной полемики и яростных разногласий, и у Константина не оставалось сомнений: даже если он прав, вряд ли можно помочь делу восстановления мира в Церкви, помогая ему оправдаться и вернув его на престол. И потому он вынес Афанасию приговор: изгнание, но послал его в Треверы, в Галлию, где сын императора Константин II правил в качестве цезаря и префекта. А чтобы быть уверенным в справедливом обращении с Афанасием, он написал юному Константину письмо, где указывал, что Александрийскому епископу следует предоставить свободу во всех отношениях, кроме выезда из страны.
Хотя обвинения против Афанасия не произвели впечатления на императора, изгнание этого человека, так красноречиво выступившего против арианства, послужило только на пользу его дела. Арий вернулся в Александрию, ожидая восторженного приема, но его победа буквально стала пеплом у него на устах, когда александрийские христиане не стали его слушать и остались верны своему пламенному епископу в изгнании. В результате вновь разгорелась борьба между обеими группировками, и Константин снова вызвал Ария в Рим – на этот раз не обвинять, а защищаться.
– Придерживаешься ли ты веры истинной Церкви? – спросил он его.
Священник ответил утвердительно.
– Могу ли я доверять тебе? Ты действительно за истинную веру? – настойчиво повторил он вопрос.
Арий опять подтвердил приверженность свою христианской вере и даже процитировал символ веры, но Константин не чувствовал полного удовлетворения.
– Отрекся ли ты от тех ошибочных убеждений, которых придерживался в Александрии? – спросил он снова. – И готов ли поклясться в этом перед Богом?
Арий дал необходимую клятву, так что Константину ничего не оставалось делать, как только составить приказ, позволяющий ему вернуться в Александрию. Однако ему в напутствие он произнес такие слова:
– Ступай, и если вера твоя будет нетвердой, то пусть Бог тебя покарает за твое вероломство.
Считая себя реабилитированным, Арий готовился отъехать в Александрию, но не успел: сраженный тяжелой болезнью, он умер от сильного кровотечения. Все горожане естественно приняли это за Божье наказание – наказание за грех вероломства, да и сам Константин придерживался того же мнения. Паче того, пугающая смерть мятежного священника, похоже дающая грозное подтверждение того, что Константин при решении этого дела подчинялся Божьему повелению, сильно подействовала на императора.
С приближением праздника Триценналии – тридцатилетней годовщины его пребывания у власти в империи – озабоченность Константина делами религии значительно возросла, что привело его к возобновлению попыток добиться восстановления мира путем строительства новых храмов для вознесения Богу молитв на всей территории Римской империи. В то же время Адриан, теперь уже самый доверенный магистрат Константина, был отправлен к восточной границе, чтобы оценить условия перед военным походом с целью распространения римского правления и, что еще важнее, христианства еще далее на восток, где ранее им пути не было. Загоревшись возможностью – так казалось ему – искупить свою вину, способствуя распространению веры, а этому теперь он отдавал большую часть своего времени, Константин отправился в Рим на празднование Триценналии. Но на обратном пути в Новый Рим он тяжело заболел.
2
Такой боли ему еще никогда не приходилось испытывать. Возникая глубоко с левой стороны грудной клетки, она расходилась волнами, как от камешка, брошенного в пруд, до тех пор, пока казалось, что весь бок как бы зажат в тисках, постепенно затягиваемых чьей-то безжалостной рукой.
Врачи оказались здесь бессильными – лишь прописали большие дозы макового листа, растолченного в меде или вине; это средство от боли применялось на протяжении тысячи лет. Один врач имел безрассудство порекомендовать горячие ванны, но его предложение было встречено такой вспышкой гнева, что несчастному пришлось обратиться в бегство.
Весь этот день и на следующий боль оставалась, лишь притупляясь под воздействием мака, но не исчезая совсем.
Даже после того, как она начала спадать, все равно от малейшего усилия вновь обострялась. У человека, знакомого с деятельной жизнью солдата в разных кампаниях, такая беспомощность вызывала сильное раздражение. И даже когда спустя несколько недель после начала болезни врачи разрешили ему вставать, от небольшой прогулки у него так перехватило дыхание, что он еще один месяц не осмеливался и носа высунуть из комнаты.
Злясь на свою неспособность делать даже самые обыкновенные дела, он, без всяких на то усилий, решил, что свалившаяся на него болезнь ниспослана ему как дальнейшее наказание за гибель Криспа, Фаусты и Дация. Возвратившийся из инспекционной поездки по восточной границе Адриан застал Константина в поистине мрачном расположении духа.
– Печально мне видеть тебя больным, доминус, – покачал головою купец.
– Мне – печальней вдвойне. Эти проклятые лекари и шага мне не дают ступить – тут же слетаются и щебечут, как стая испуганных ласточек.
– Но тебе ведь уже полегчало?
– Боль-то прошла, появляется, лишь когда напрягаюсь. Но от лежания в покое в теле какая-то тяжесть, и она почти не проходит. Ну, что удалось тебе выведать на Востоке, Адриан?
– Немного такого, что заставит тебя чувствовать себя лучше. Персидские цари становятся с каждым днем все наглее. Мы больше не можем торговать через город Нисибину на восточной границе с индусами и желтокожими и покупать у них специи и другие ценные вещи, не платя персам дани, на которую уходит весь прибыток.
– Придется их наказать – как только буду способен вести кампанию, – сказал Константин. – Сперва душевная мука сковала меня по рукам и ногам и заставляла бездельничать. Потом, только я начал надеяться, что сам могу от нее избавиться, как и тело решило меня наказать.
Проницательный грек не мог не почувствовать особую значимость последнего слова, хотя сам Константин этого, похоже, не сознавал. За годы близкого общения с императором Адриан научился понимать – возможно, даже лучше самого Константина, – что происходит в его душе в последние десять лет. И, даже не будучи лекарем, он сомневался, что болезнь его излечима.
– Персы осмелились продвинуться до берегов Понта Эвксинского у Трапезунда, – добавил он.
– Они не подпускают нас к порту?
– Пока еще нет, доминус.
– Тогда их еще можно отрезать быстрым ударом через Южную Армению и оставить на уничтожение армянам?
– Возможно – если ты поведешь войска.
Константин вдруг скривился и поднес руку к своей груди, пытаясь утихомирить резкую боль, вызванную его возбуждением.
– Только не в моем нынешнем состоянии, – признался он. – Когда-то я мечтал раздвинуть границы империи аж до самой Индии, а теперь не могу даже удержать врага от захвата территории, которая тридцать лет была моей.
– Есть у меня и маленькая радостная новость, – сказал ему Адриан.
– Так что же ты ждешь? Знает Бог, эти последние годы мало что приносило мне радость.
– С каждым годом наша торговля через Антиохию все растет.
– Как там новая церковь? Та, что строится как восьмисторонняя конструкция?
– Работа постепенно идет. Ты можешь быть уверен: когда через годик ее закончат, это будет одна из самых прекрасных построек в мире.
– И к тому же первой такого рода, – добавил Константин, – До сих пор большинство церквей строили в виде базилики, но, я думаю, новый стиль даст нам больше прекрасных строений.
– Между прочим, Доминус, новая церковь в Иерусалиме наконец-то закончена. Я видел епископа Евсевия в Кесарии, и он спрашивал меня насчет ее посвящения. Твоя мать хотела это сделать сама, ты знаешь.
– А теперь нет и ее. – Лицо Константина вдруг прояснилось. – Но ведь я могу посвятить ее, Адриан, я никогда еще не был в Иерусалиме. Там Спаситель совершил много чудес, излечивая больных. Возможно, и я смогу излечиться. Тогда я соберу армию в Келесирии и Августе Евфратене, чтобы снова выгнать персов за Тигр.
– А не будет ли дорога туда чересчур для тебя утомительной, доминус?
– Никакого вреда мне не будет, если доберусь до Кесарии на галере. На всем пути смогу отдыхать, да и морской воздух должен пойти мне на пользу. – Константин выпрямился, позабыв о своей боли. – Ты дал мне новую цель, Адриан. Распорядись, чтобы тотчас подготовили галеру. Когда закончится посвящение церкви в Иерусалиме, я даже, может, съезжу и в Зуру.
– В Зуру?
– Там мне впервые явился Господь, в заброшенной церкви, – пояснил Константин. – Если Он в Зуре меня не излечит, тогда буду знать, что утратил я всякое право на Его прощение и обречен на веки веков.
Глава 37
1
Была ранняя весна, когда Константин со своим окружением высадился в Кесарии и оттуда отправился в неторопливое путешествие в Иерусалим. Кесарийский епископ Евсевий, сопровождая императора по его просьбе, ехал рядом с запряженным возком, на котором восседал Константин. Как только они оказались за пределами береговой равнины и стали подниматься на высокую гряду холмов, среди которых лежал Иерусалим, местность быстро становилась все более голой и непривлекательной, однако тут и там возникали виды редкостной красоты, смягчая холодность сплошных каменистых масс.
Ниже на склонах в изобилии рос виноград, и каждый город лежал в окружении собственных древесных зарослей и оливковых рощ на поднимающихся уступами склонах. Местами терновник, покрывавший многие холмы одеялом темной сверкающей зелени, уже зацвел, забрызгав местность беспорядочными алыми узорами, а вблизи казался пугающими яркими каплями крови. То здесь, то там возникало еще какое-нибудь красочное пятно, заявляющее о раннем цветении желтых нарциссов, морского лука, имеющих форму звезды «Цветов Шарона» и горицвета, образующих изначальный белый фон для зарослей сирени.
– Трудно поверить, что вон из того куста с красными цветами сплели когда-то мучительный терновый венок и надели его на голову Спасителю перед тем, как распять, – сказал Евсевий. – Но если бы ты захотел взглянуть на него поближе, доминус, ты бы увидел за зелеными листьями и алыми цветами острые шипы.
– Я еще раньше заметил, что за внешней красотой часто скрывается внутренняя жестокость, – заметил Константин, и Евсевий понял, что он говорит о Фаусте.
– Может, таким образом Бог желает предостеречь нас: мол, не очаровывайтесь красотой настолько, чтобы забывать об ее источнике.
– Бог, сотворивший эти цветы и листья, Евсевий, – это тот же Бог, который создал и опасные колючки. Последнее время мне все кажется, что если я тяну руку, чтобы коснуться одного, то обязательно укалываюсь о другое.
– Вот подожди, доминус, скоро увидишь церковь Анастасия, которую ты построил на месте Святой Гробницы. Там может быть только красота – и никакой боли.
– И все же построена она в Иерусалиме, где Христос претерпел величайшие муки.
– А после было Его Воскресение, доминус – кульминация Его божественной миссии.
– Жаль, что мать не дожила и не может теперь посвятить ее, – грустно сказал Константин.
– Наверняка она умерла счастливой, зная, что скоро церковь будет готова.
– Хотелось бы так думать. В те последние дни перед смертью у нее было не много причин для счастья. Ты ведь знаешь, она мне так и не простила смерти Криспа.
– Но ты не был виноват.
– Я вовсе не прошу у тебя отпущения грехов. Его я получил давным-давно от епископа Никомедийского, но слова его не принесли мира моей душе. И вот теперь я еду в Келесирию и надеюсь на отпущение грехов от самого Бога, хотя как-то не верится, что это возможно в такой голой и непривлекательной стране.
– Ты принимаешь на себя слишком большое бремя вины, доминус, – возразил Евсевий. – Один из величайших царей Израиля увидел, как убили неподалеку отсюда его сына-мятежника. Велика была его печаль, столь же велика, как у тебя, однако Бог его простил, и другой его сын построил первый храм во славу Бога.
– Мне эту историю когда-то давно рассказал Даций, но я позабыл подробности.
– Это был царь Давид, основавший Иерусалим как Священный Город для своего народа. Сына нарекли Авессаломом. Он не мог дождаться, когда отец оставит ему трон, и поднял мятеж. Но во время сражения Авессалом зацепился длинными волосами за дерево, и его убили.
– А Давид, он оплакивал сына-предателя, который хотел его уничтожить?
– Оплакивал, доминус. В одном из самых трогательных мест Святого Писания еврейского народа он вскричал: «О сын мой Авессалом, сын мой, сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!»
– Я тоже знаю боль, от которой можно вот так закричать. – Голос Константина на мгновение пресекся. – Крисп мог бы править империей, я знаю. Мне бы мудрость Диоклетиана, и я бы еще раньше объявил, что он заменит меня, когда истекут мои двадцать лет. Но эгоистическая жажда власти не позволяла мне расстаться с ней, так что только себя я могу считать ответственным за его смерть.
– Ты забываешь, что империя быстро распалась после отречения императора Диоклетиана, – напомнил ему Евсевий. – Если бы сильный человек, верящий в Бога – это ты сам, – не пришел, чтобы ее спасти, Римом, может быть, сейчас правили бы его враги, а христиане повсюду бы жили в рабстве – если бы Церковь вообще окончательно не уничтожили.
– Так ты считаешь, что Бог когда-нибудь простит меня?
– Простит, доминус, я знаю. Бог милостив, и никто никогда не заслуживал его милосердия больше, чем ты.
2
Торжественное открытие прекрасной новой церкви на святейшем для христианского мира месте, откуда из гроба своего Иисус из Назарета восстал из мертвых, явилось трогательной церемонией, производящей глубокое впечатление. Руководил ею епископ Иерусалимский с помощью Евсевия из Кесарии. Но когда она закончилась и стихло низкоголосое пение новообращенных в белых одеяниях, получивших наставления в отношении основ христианской веры, Константин не обрел еще чувства душевного успокоения и освобождения от греха, ради чего он и приехал в Иерусалим.
Охваченный бесконечной усталостью и в подавленном настроении оттого, что ему предстоит очень даже неблизкий путь в Зуру на берега Евфрата, представлявшийся ему теперь единственной его надеждой, он вернулся во дворец епископа Иерусалимского, где остановился на время пребывания в этом городе. Там, утомленный, беспокоимый болью в груди, вернувшейся к нему на дороге в Кесарию, он рано прилег на постель и тотчас погрузился в беспокойный сон, так мало приносящий ему бодрости. Проснувшись ни свет ни заря, он поднялся с постели и, не беспокоя слугу, вышел на балкон, прилегающий к его спальне, надеясь, что на открытом воздухе легче будет дышаться.
Здание располагалось на самой вершине каменистого холма, на котором был построен Иерусалим, и, поглядев на восток, он увидел первые лучи восходящего солнца, обрисовавшие ярким горящим контуром вершины темного горного кряжа за Иорданом. Казалось, миновали века с тех пор, как он с Дацием и пятьюстами всадников, отданных ему под начало императором Диоклетианом в Александрии, пробирались на север вдоль берегов Иордана у подножия этих же самых холмов для встречи с войсками Галерия в Августе Евфратене.
На тех же самых лесистых склонах восточнее реки Иордан, лежащих в глубоком ущелье, где всегда было лето, царь Давид оплакивал мятежного Авессалома более тысячи лет назад, согласно истории, рассказанной ему Евсевием.
Возвратись в помещение, он взял свиток с псалмами Давида, подаренный ему Евсевием, и снова пошел на балкон. И там, при слабом утреннем свете поднеся развернутый свиток к глазам, стал читать, и при этом вслух. Бессознательно голос его приобрел интонации страстного плача, в которые, он был уверен, облек свою просьбу Давид, моля Бога о снисхождении.
Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?
Далеки от спасения моего слова вопля моего.
Боже мой! я вопию днем, – и
Ты не внемлешь мне, ночью, – и нет мне успокоения.
Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет.
Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя!
Поспеши на помощь мне.
Уронив свиток на каменный пол балкона, Константин пал на колени, воздев глаза в смиренной мольбе к небесам, исповедуясь снова в грехах и моля о прощении. Когда его страстный вопль, обращенный к Богу, чьей славе он посвятил империю, исторгался из глубины его существа, мертвая тишина, казалось бы, опустилась на этот балкон, где стоял коленопреклоненный император. И, еще так стеная, услышал он в сердце своем знакомый голос:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».
При этих утешительных словах от человека, который вел его с той далекой ночи в Зуре, когда он один, взяв с собой факел, пошел посмотреть на изображение галилейского Пастыря на разрушающихся стенах заброшенной церкви, Константин почувствовал, как с плеч его спало бремя вины и греха, которое нес он уже столько времени. Он еще немного постоял на коленях, и слезы радости струились по его лицу. Затем, поднявшись на ноги, Константин вернулся в опочивальню и впервые за многие месяцы, прошедшие с того трагического дня в Риме, он лег, погрузившись в сон освежающий, без сновидений.
Теперь душа Константина успокоилась, и он осознал и принял как Божью волю бремя (он понял это сейчас) смертельной его болезни. Боль и сжатие в груди на обратном пути из Иерусалима в Кесарию все возрастали, и император довольно охотно уступил увещеваньям Евсевия, умолявшего его остаться здесь на несколько дней и полечиться у личных врачей епископа перед тем, как сесть на галеру для возвращения в Новый Рим.
Врачом был грек, прекрасно знавший свое дело. Он порекомендовал кровопускание от полнокровия сосудов в лице и теле больного и даже затруднявшего дыхание. Кровопускание подействовало так сильно, что Константин почувствовал себя в состоянии взойти на галеру, чтобы немедленно отправиться в плавание. Правда, врач предупредил его, что у него только временное улучшение, и, задолго до появления на горизонте шпилей новой восточной столицы и боль, и разбухание сосудов вернулись к нему с умноженной яростью.
Его отнесли в великолепные новые термы, построенные им в Новом Риме, но и это не принесло страдающему императору облегчения. Теперь уже уверенный, что смерть возложила на него свою длань, он велел отвезти себя на галере через пролив в Дрепанум и доставить в дом своей матери, ставший со дня ее смерти местом поклонения христиан. Но несмотря на то что в церкви мученика Лукиана в Дрепануме за выздоровление тяжело больного императора непрестанно возносились молитвы, ему становилось все хуже и хуже, и тогда он призвал к себе епископа Евсевия из Никомедии.
– В Иерусалиме, пока я молился, со мной говорил Христос и взял на себя бремя моих грехов, – сообщил Константин церковнику. – Мне теперь остается только принять крещение – чтобы я с радостью мог уйти на свидание с Ним.
– Я сейчас же приготовлюсь, доминус.
– Нет, не здесь. Я желаю получить последнее отпущение грехов в церкви Святого Лукиана. Она стоит на земле, дорогой мне с прошлых времен.
По улицам носилки с Константином несли шестеро гвардейцев, многие годы самые приближенные к нему из его дворцовой охраны. Они внесли его в прекрасную новую церковь, построенную на месте того самого дома, где он впервые услышал проповедь Феогнида Никейского и где они с Минервиной вслух обменялись брачными обещаниями. Когда носилки поставили перед алтарем, он снял с себя свой пурпурный плащ императора. В белом одеянии новообращенного, смиренно прося посвятить его в таинства веры, он стал на колени, чтобы публично признаться в своих грехах, и крещен был епископом Евсевием в церковной купели.
– Теперь я истинно знаю, что я блажен! – вскричал Константин, поднимаясь с колен. – Теперь я уверен, что сопричастен Божественному свету!
Дорога в церковь и крещение истощили силы умирающего императора. По его просьбе носилки отнесли к колеснице, и она, проделав короткий путь, доставила Константина во дворец на окраине Никомедии. В тот день люди из всех слоев населения сплошным потоком прошли через комнату императора, прощаясь со своим правителем. К вечеру боль его стала невыносимой, и он позволил лекарю-греку, приехавшему с ним из Кесарии, приготовить ему сильное средство из опиума.
Вскоре он крепко заснул, но приблизительно через час пробудился и задал вопрос, не приехал ли кто-нибудь из его сыновей. Ему отвечали, что с часу на час должен подъехать Констанций II, и он снова заснул, не одолеваемый больше кошмарными снами, мучившими его уже долгие годы, пока в Иерусалиме тем утром, в бледном свете зари, не обрел наконец душевный покой.
Когда Константин спал, ему почудилось, что в окружавшей его темноте возникает знакомое лицо – лицо пастуха из Зуры, но вместо деревянного посоха он держит в руках лабарум, как в тот вечер у Красных Скал. И когда Христос простер свою руку так, словно звал Константина, умирающий вдруг ощутил, что опухшее тело его стало совсем невесомым. Радостно встал он тогда с постели и взял эту руку, направляющую его, когда они вместе преодолевали тьму, к далекому свету, за которым (и это Константин понял теперь, испытав прилив радости) уже не будет ни вины, ни печали, чтобы камнем лежать на душе, свободной от всякого горя и всяческой боли.
– Он улыбается! – воскликнул стоявший у ложа лекарь. – Мак подействовал, снял его боль.
Но ни врач, ни епископ, стоявшие возле постели, не могли, очевидно, знать, отчего в самом деле прошла его боль, что дало Константину неведомую доселе радость, неведомую даже как императору Рима. А он тем временем слушал спокойный и ласковый голос, тот голос, что когда-то давно говорил в своем обещании, священном для всех, кто верил и будет верить в него:
«Пусть не печалится сердце ваше: вы верите в Бога, верьте тогда и в меня. В доме Отца моего много есть места: если бы не было так, я бы сказал вам. Я ухожу, чтобы приготовить место для вас. И если уйду и приготовлю место для вас, то снова вернусь и приму вас в себя; чтобы там, где есть я, могли б пребывать и вы».