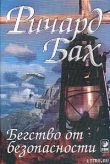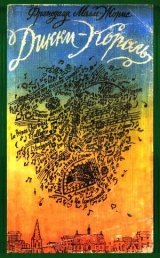
Текст книги "Дикки-Король"
Автор книги: Франсуаза Малле-Жорис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Алекс наполовину приподнялся на своих подушках. «Черт подери…» Все зашло слишком далеко, он ничего не соображал, ни отец Поль, ни его улыбающиеся «дети» не подготовили его к этой речи, казавшейся ему бессмысленной. «Он пьян, наркотиков набрался или что?» Боб и Жанно, не шелохнувшись, сидели за своими синтезаторами. Отец Поль словно приклеенный не трогался с места. Франсуа терялся в догадках: он ведь не давал Дикки питья с наркотиками. Фитц, подобно фанатам, трепетал от восторга; девушка в первом ряду, закатив глаза, ритмично раскачивалась взад-вперед.
– …Мне стыдно, что я не знаю иных слов, стыдно зарабатывать так много денег, стыдно приносить удовольствие, стыдно, что мне аплодируют, что меня любят, я искал причины этого и не нашел! Не ищите никаких причин! Я выходил на сцену в шапито на тысячи мест, и я стыдился себя и других, они вынуждали меня стыдиться. А кто они такие? Это люди, у которых есть деньги, власть, культура, это люди, которые при их помощи ничего не могут поделать, а мы с вами сотворим из всего этого радость! РАДОСТЬ!
Все выли от восторга. Жаннетта в трансе каталась по полу. Девушки, обняв друг друга, рыдали. Фредди обхватил голову руками. Какая-то блондинка навзничь рухнула в объятия Алекса. Повсюду фанаты плакали, дрожали, «дети счастья», разбившись на группки по пять-шесть человек, издавали какие-то ритмичные стенания. Вдруг мадам Розье, старая мадам Розье, с поседевшими буклями – она была в траурном, черно-белом платье, – эта худенькая, такая благопристойная, так по-матерински ко всем относящаяся семидесятилетняя старушка вскочила и закричала невероятно визгливым голосом:
– Радость! Дикки, дай нам радость! Дай нам счастье!
Фитц и Франсуа, побледнели как мел.
– Ты думаешь, она тоже? – тихо спросил Фитц.
И Франсуа, который утратил все свое высокомерие, ответил:
– Нет, нет… Дело совсем в другом.
Мари-Лу, которая села в такси на вокзале в Каоре, втащив за собой в машину молодого секретаря из Ассоциации жертв сект, подъехала к решетчатым воротам замка де Сен-Нон. Она велела таксисту ждать.
– Мы могли бы дождаться инспекторов… – трусливо пробормотал молодой человек.
– Сперва надо все узнать самим. А если Дикки здесь уже нет? Вы что, боитесь?
Джо вышел им навстречу, стараясь не пропустить в замок.
– Я председательница фан-клуба в Клермоне, – властно объявила Мари-Лу. – Мой поезд опоздал, но я специально приехала на вечер. Дайте нам пройти, да побыстрее, иначе мы все пропустим.
Остолбенев, Джо ее пропустил. Она решительным шагом вступила во двор.
– Одно это доказывает, что Дикки здесь, – с довольным видом сказала она.
Джо бросился к своему портативному передатчику.
– Тома? Здесь одна баба, она утверждает, будто председательница какого-то клуба… ну, это связано с Дикки… и хочет пройти.
– Откуда я знаю, председательница она или нет?
– Вызови мсье Боду.
– Я не могу уйти со двора из-за старика. Знал бы ты, что они там вытворяют…
Но неожиданно появился граф в пижаме – лицо его свела судорога, глаза выпучены, – который спустился по лестнице за спиной Тома.
– Я этого не вынесу… Не вынесу…
Тома оказался между двух огней. Мсье Хольманн приказал избегать скандалов. «Мы никого не ждем», – сказали отец Поль мсье Боду. «Не выпускать графа», – велел мсье Хольманн. «Не впускать никого», – просили те двое.
Мари-Лу подошла к парадной лестнице. Граф, словно призрак, следовал за Тома.
– Куда это вы направляетесь? – спросил Тома. Он держал графа за руку, твердо решив пришибить его, если тот попытается ускользнуть. Он был готов пришибить даже Мари-Лу.
Мари-Лу с первого взгляда распознала, что перед ней уголовник. Даже несмотря на синий костюм и галстук Тома. Она остановилась.
– Я иду на вечер Дикки Руа, – вежливо начала Мари-Лу.
– У вас есть приглашение? – вдруг осенило Тома.
Мари-Лу притворилась, будто ищет его в сумочке.
– Разумеется, есть… Милый, оно случайно не у тебя? По-моему, я отдала его тебе в поезде…
Было потешно смотреть, как обалдел молодой секретарь из АЖС.
– О, черт! Просто ума не приложу, куда мы его подевали. Но ведь я председательница фан-клуба в Клермоне и…
– Проваливайте! – перебил ее Тома. – Вы такая же председательница, как я… Приглашения у вас нет. Вы журналистка или кто-нибудь в этом роде. Сматывайтесь побыстрее.
– Журналистка! – простонал совсем сбитый с толку граф. Перед глазами у него уже мелькали заголовки: «Оргия в замке де Сен-Нон».
Из замка доносилось завывание синтезаторов. Дикки пел.
– Мсье! – обратилась Мари-Лу к графу. – Если вы разрешите вызвать мсье Боду, который наверняка здесь, он вам подтвердит…
– Ни фига! – заключил Тома. – Вас не приглашали, и вы не пройдете. Мсье – владелец замка, и он ответит вам то же самое…
Граф лишь промычал нечто невразумительное, так как температура и волнение помутили его рассудок. Казалось, он переживает кошмар наяву.
– Ах это он хозяин! Ну что ж, я не прочь сказать хозяину словечко! Ах значит, это вы придумали эту гнусную поденщину, вы пичкаете наркотиками этих несчастных молодых людей, превращаете их в скотов, чтобы они работали на ваши мерзкие лавчонки! Так сказать, за ради господа нашего! Придумано неплохо. Но это гнусность, мсье! И, будьте уверены, мы сумеем положить ей конец! Здесь со мной секретарь из Ассоциации жертв сект! Он вас по судам затаскает! Разоблачит в прессе! Даром вам это не обойдется! Мы вернемся сюда с полицией! Мы…
– Может, мне тебе пасть заткнуть? – вежливо осведомился Тома. – Или сделаешь милость, сама заткнешься?
Он чувствовал, как в его лапе лихорадочно дрожит худенькая ручка графа. Старик тщетно пытался что-нибудь сказать, но на губах у него выступала лишь беловатая пена. «Да она мне его уморит!» – с искренним возмущением подумал Тома.
– Даю две минуты, – сказал он, отряхивая пиджак.
Мари-Лу поняла.
– Я еще вернусь, – пригрозила она. – И не одна!
– Валяй, – невозмутимо ответил Тома. – Спасибо за предупреждение.
Однако Тома эта угроза ничуть не беспокоила. У Отца был в руках комиссар Линарес, а у мсье Хольманна – префект. Пусть эта цаца жалуется сколько влезет! Кстати, он пальцем ее не тронул. На несколько секунд Тома отвлекся, глядя, как она уходит, ковыляя по неровной брусчатке на своих высоких каблуках и таща за собой молодого человека, который что-то возражал… Он едва успел обернуться, а граф уже домчался до северного крыла, нырнул в подъезд и захлопнул за собой дверь. Тома слышал, как он запер массивную дверь на железный засов. Бедный старик! И действительно, все свалилось на него в один день! Собак его отравили, сам он под замком, и вот сейчас его облила грязью какая-то шлюха… Граф, конечно, к такому не привык. Ладно, раз граф сам заперся… Тома взошел на парадную лестницу. Не теряя из виду дверь, он тоже хотел хоть краешком глаза взглянуть на праздник.
Дикки раскинул руки и запел. Без предупреждения, не дав сыграть положенного вступления, не бросив взгляда в сторону Жана-Лу и стайки «детей счастья», покорно ожидавшей его знака. Он начал петь а капелла, и только на третьем такте пианист Жанно подхватил мелодию. Ударник Боб вступил еще через три секунды. Хор дождался припева. Дикки пел не так, как обычно; на средних регистрах появилась странная хрипловатость; на высоких – металлическая грубоватость, придававшая простым словам песни непредвиденную резкость. «Аннелизе… они пригвоздили тебя… к церковным витражам… Аннелизе…» Как получилось, что устаревший шлягер вдруг приобрел эти интонации обвинения, почти угрозы? «Разве было слово „пригвоздить“ в куплете? – спрашивал себя озадаченный и потрясенный Алекс. – Разве там было „я хочу разрушить тюрьму жизни и бежать из этого общества?“ Что-то я раньше не замечал этого…»
Дикки пел. Ритм был вдвое быстрее, чем на последней репетиции. А голос звучал с удесятеренной силой, совсем необычно. Увлеченные этим порывом, «Дети счастья» гулко и почти угрожающе подпевали «Аннелизе… Аннелизе…», наполняя анфиладу из трех комнат каким-то мрачным ликованием.
– Он часто так поет? – шепотом спросил Алекса отец Поль.
– Да ни разу так не пел, ни разу!
– Это ужасно!
– Но зато может очень здорово пойти.
Дикки выпил глоток воды. Жан-Лу из глубины библиотеки жестами показывал Алексу, что ничего не смог поделать и был вынужден следовать ритму, навязанному Дикки. Боба и Жанно не было видно за аппаратурой и инструментами. Им ничего не объяснили, и они решили, что эти изменения исходят от Жана-Лу и представляют собой тот новый имидж Дикки, о котором смутно поговаривали.
– Мог бы и предупредить! – ворчал Жанно. – Это уже не концерт, а черт знает что.
– Ты знаешь эту зануду Жана-Лу.
– Ну а какова, по-твоему, публика?
– Приличная. Несколько необычная, но приличная. Кресла поломают. Нужен хороший ударник. Но я не думал, что Дикки… Черт!
И опять Дикки вступил без предупреждения. «Не превратилось бы это в привычку!» – довольно громко пробурчал Жанно. На сей раз это была почти такая же старая, как «Аннелизе», песня «Мечтал о мире я таком», исполнявшаяся в сотнях концертов. Нежная и меланхоличная мелодия, в которой авторы по-старомодному, в полутонах, подобных нечеткому рисунку на обветшалой ткани, выразили свою мечту о всеобщем мире и абстрактной любви. Дикки спел ее с предельной отдачей.
«Дети счастья» подпевали. Первый куплет еще не был закончен, а уже то в одном, то в другом месте начали раздаваться крики. Неумелое подвывание, пронзительно-истерические возгласы, шум, с которым музыканты уже не могли справиться.
– Что такое с ним? – забеспокоился Жанно.
Однако в момент повтора второго куплета, в свою очередь, встревожившийся Боб склонился к нему.
– Ты соображаешь, что играешь, Жанно?
И действительно, увлекшись новым темпом, Жанно добавлял уже что-то от себя, неистово нажимал на басы, усиливал агрессивно резкие звуки, подчиняясь порыву импровизации, которого нельзя было ожидать от этого смирного музыкального ремесленника. Второй куплет подхватили все присутствующие, как военную песню.
Жанно усилил звук.
– Что ты делаешь? – прокричал Боб.
– Разве так не лучше, а?
Бобу казалось, что он сходит с ума. Что-то витало в воздухе, против чего и он уже не мог устоять. В конце концов, столько лет он играл без удовольствия и удовлетворения.
– Что он делает? Опять начинает?
Песня должна была закончиться, но Дикки снова и снова запевал куплет, не в силах справиться с собственным неистовством, а «дети счастья» с удвоенной силой каждый раз вступали за ним. Крики становились все громче, поклонники, разместившиеся в залах, неистово наседали, протискивались поближе к инструментам, к Дикки…

«Эта женщина посмела оскорбить меня в собственном доме! Она ведь журналистка! Завтра все газеты напишут об этом, а я буду выглядеть сообщником. Пирам! Мой бедный Пирам! Собаки – это все, что мне оставалось. И они убиты этими безумцами, этими истериками. Они подожгут замок, непременно подожгут…»
Он уже ничего не понимал, в голове царила какая-то путаница… Фортепьяно нарочно поставили на террасу, чтобы оно треснуло на солнце… Нужно пойти туда… Нужно показать им, что в моем доме не все можно себе позволять. Преподать им урок… Сим-во-ли-ческий урок!
Он стал подниматься на самый верх. Но забыл, что по его распоряжению дверь, соединяющая чердаки северного крыла с замком, замурована. Пришлось спуститься. В висках у него стучало, руки дрожали, но он собрался с силами. Человек во дворе, помешавший ему выйти, был не в мундире, но все равно это враг. А с ним нужно хитрить. Тогда выпутаешься из любой ситуации. А если и не выпутаешься, все-таки станет известно, будут говорить, что он сопротивлялся, протестовал… В глубине подвала есть дверь… В глубине… Он бесшумно расчистил себе путь среди трельяжей с побитым мрамором и огромными пустыми позолоченными рамами зеркал; он все делал бесшумно, ничего не опрокинул. У маленькой двери – тяжелый комод, очень тяжелый. Но он сумеет сдвинуть его. Сумеет.
Фитц, дрожавший с ног до головы, наткнулся в холле на Франсуа.
– Что ты подмешал в эти кувшины? Скажи, что ты туда положил, или я убью тебя!
– Совсем ничего! Клянусь тебе! – бормотал Франсуа. – Какую-то штуку, которую нашел в подвале. Мне кажется, что это кокаин. Но я бросил чуть-чуть!
Дикки пел.
В подвале граф – вены у него вздулись, сердце готово было разорваться – сантиметр за сантиметром передвигал комод.
В начале вечера закрыли застекленные двери. Стекла разбились. Двери снова открыли. Неистовствуя, Боб и Жанно выкладывались максимально.
Через открытые двери на террасу устремились фигуры людей. Ночь была очень светлой. Трудно различимые тела заполнили террасу, танцевали, пели, падали. Жаннетта побежала к бассейну, окунулась, прибежала назад, размахивая руками, с которых стекала вода пополам с тиной.
– Вода – для нас! Парк – для нас! Второе крещение! Ра-а-й!
– Второе крещение! Свобода! Рай! Дик-к-ки!
– Пора, – шепнул Алексу отец Поль. – Сейчас они начнут убивать друг друга. Надо незаметно увести Дикки, иначе бог знает…
Они подошли к музыкантам.
– Не останавливайтесь, ребята. Играйте, пока вам не скажут кончать, но играйте, уменьшая звук. Получите премию, – прошептал отрезвленный Алекс.
– Зачем это нужно, – прорычал Боб. – Хоть раз повеселимся!
Дикки стоял поодаль.
– Пойдем, – сказал отец Поль. – Поглядим на это зрелище из твоей комнаты. Иди.
Они поднялись по лестнице. Дикки, как измученный ребенок, опирался на плечо Алекса.
– Я так доволен, знаешь? – говорил он своим снова мягким голосом. – Ты же видишь, я вполне могу выступать и один. Тебе ведь это не показалось смешным? А? Я сделал их счастливыми, не веришь? Теперь мне наплевать на всех остальных. Отец Поль тоже очень мил, он объяснил мне, что хочет счастья любыми путями… Ты увидишь, мы избавимся от опеки фирмы, организуем все вдвоем, будем петь бесплатно, для удовольствия, вместе с «детьми», для таких вот людей, которые хотят слушать меня… Правда? Ты согласен?
– Ну конечно, Дикки, конечно, – отвечал Алекс, неизвестно почему со слезами на глазах, а может быть, именно потому, что Дикки выглядел таким счастливым, каким его он никогда не видел.
Они вошли в комнату.
Вышли на балкон. Грохочущая музыка гулко раздавалась во дворе. Поклонники Дикки и «дети счастья» бегали, танцевали, купались в бассейне или, распластавшись по земле, в полубессознательном состоянии пели снова.
– Как это красиво… – тихо сказал Дикки.
Отец Поль сделал Алексу знак.
– Не сделать ли ему успокаивающий укол? – прошептал он, отводя его в сторону. – У меня есть все, что нужно. Затем мы его уложим, постепенно будем глушить музыку и постараемся успокоить остальных…
– Да, пожалуй… Какой вечер! Я никогда не видел ничего подобного. Как по-вашему?
Они вышли, прошли в конец коридора, вошли в ванную.
– Я думаю, что частично это объясняется… – начал отец Поль.
На балконе за спиной Дикки появился граф.
– Это вы шеф этой банды, мсье? Вы руководитель?
Дикки обернулся, посмотрел на старого, очень прямо державшегося человека, которого раньше не видел. Улыбнулся ему. Он испытывал нежность ко всему и всем, даже к этому подергивающемуся от тика, покрытому фиолетовыми пятнами лицу, перекошенному от возмущения, что было вызвано непонятными для Дикки причинами.
– Руководитель, кажется, да… Прекрасно, не правда ли? Нужно, чтобы это происходило каждый день, каждый вечер… И никогда не кончалось…
И, повернувшись снова к своим поклонникам, которые бродили вокруг бассейна, к музыке, доносящейся до него снизу, к саду и деревьям, он стал напевать:
«Ра-а-ай…»
– В таком случае, – сказал граф резким голосом, – вы поймете, что это мой долг…
И он в ослеплении бросился вперед. Дикки упал у подъезда в тот момент, когда в парк въезжала полицейская машина, где сидела Мари-Лу с молодым человеком.

Это была невероятно бестолковая и мрачная церемония. Все смешалось. Полиция и тысячи заплаканных поклонников Дикки. Тонны цветов и сотни пакетиков с героином, обнаруженных в подвалах замка. Арест отца Поля и прибытие на самолете певцов из секты Деревянного Креста, которые должны были исполнять заупокойную мессу. Роза попыталась покончить с собой, не сумела и была зачислена прессой в категорию «отчаявшихся поклонников». Невозможно было найти достаточно большой церкви, способной вместить увеличивающийся с каждым часом наплыв людей. Телевидение было повсюду. «Матадор» – он-то и направил в замок полицию – пытался замять распространившийся слух: Дикки якобы бросился с балкона замка под действием большой дозы наркотиков. Боб торговался по поводу сделанной им записи (сделанной машинально, на грошовом магнитофоне) последнего концерта Дикки Руа. Алекс был в отчаянии, но все же занимался специальным диском, который потребовали фирмы грамзаписи сразу же после того, как стало известно о несчастном случае, то есть всего через каких-нибудь шесть часов после смерти Дикки. Рыдающие поклонники давали интервью. Блейк заявила, что откладывает свое бракосочетание на неопределенный срок. Она слишком любила Дикки, чтобы в ближайшее время начать новую жизнь. Многие газеты писали о трагической случайности. Он слишком сильно наклонился, вот и все. Другие выдвигали версию самоубийства: в глубине души он любил Колетту. О Дейве не упоминалось, друг мог быть лишь причиной депрессии, но не самоубийства. «Флэш-78» поместил недвусмысленный заголовок «Он присоединился к своей мистической супруге» и опубликовал мутную фотографию Колетты рядом с фото Дикки. Еженедельники, в общем, были менее сентиментальны, но «Спектатер» на основе проведенного социологического исследования феномена Дикки и почти точного рассказа о последнем выступлении певца подводил итоги цитатой Достоевского: «Можно ли убить себя от восторга?», а на обложке поместил очень красивый портрет Дикки. И эту подходящую цитату на самом видном месте. Эта трактовка была в целом принята поклонниками Дикки, почти все они приобрели номер «Спектатера», несмотря на то, что это издание не было в числе излюбленных ими. «От восторга», – благоговейно повторяли сотни людей, никогда и не слышавших о Достоевском. Совершенно стихийно возник новый «Клуб Дикки Руа», имеющий очень мало общего с прежним, клуб, где считалось, что, выбросившись с балкона замка «в бесконечность», Дикки хотел доказать своим приверженцам, что смерти не существует и что он, мертвый, будет присутствовать среди них словно живой. «Оккюльт» выпустил целый номер, в котором излагались взгляды Дикки, объявленного посвященным спиритом. «Католик де демен» высказывался сдержаннее и выражал сомнения, не исключая, однако… «Он не хотел этого», – повторяла Эльза, заявившая журналистам из «Солей», что в последний вечер Дикки хотел выразить свои революционные убеждения и необходимость активного действия. Сразу же образовалась еще одна, правда немногочисленная, группа, отстаивающая идею политического убийства…
Похороны были необычайно пышные.
Клод Валь в своей новой машине «порше» проехал за сутки тысячу километров.
Полина обливалась слезами, которые она наспех вытирала пыльным платком, и слезы снова, не переставая, текли по щекам, оставляя на них грязноватые потеки.
– Это… – всхлипывала она, – это самые прекрасные похороны, какие я видела в жизни…
Парк и замок, казалось, опустошило стихийное бедствие. Растоптанные цветы, горы пустых коробок, двери в обоих крыльях выбиты, осколки стекла, разорванные отсыревшие газеты, которые порхали по ветру и приклеивались к деревьям, к столбам… Беспрестанное хождение полиции, служащих похоронного агентства и тысяч фанатов, собравшихся на вынос тела, желавших совершить паломничество на место гибели Дикки, создали такой хаос, что, казалось, наступил конец света и очистительная гроза разрядила тягостную атмосферу.
«Как будто Фанни умерла», – подумал Клод. И сказал:
– Я приехал за тобой.
– Зря, – ответила Полина.
Она вытерла лицо, высморкалась.
– Но ведь меня же прислали не твои родители, – неуклюже оправдываясь, возразил он. – Я услышал сообщение по радио в машине. Мне не хотелось оставлять тебя одну, я и примчался.
Это было правдой. Вместе с Микки он опробовал «порше» на автотрассе. И вдруг сообщение: трагическая смерть певца Дикки Руа. Торжественные похороны. Тысячи людей. Социальный феномен.
«Быть не может!» – такова привычная реакция людей. Потрясение и потом… какое-то облегчение? Чувство реванша, ощущение жестокого абсурда? Но слова «мне не хотелось оставлять тебя одну» были правдой. И вот перед ним это помятое заплаканное личико.
– Это очень мило… – всхлипывая, повторяла она. – Правда, мило… Приехать в такую даль… Это твоя новая «телега»? Папа опять надул тебя, а, Клод?
Полина смеялась сквозь слезы. Она не была по-настоящему красива. Она действительно была трогательной до слез. А может, и красивой. Клод знал, что он приехал искать не девочку Полину, а вновь подружиться с ней.
– Мне так приятно, что ты здесь… Что ты видел это…
Что? Да, видел похороны, детские хоры, цветы с удушающим ароматом, девиц, бросающихся на могилу Дикки, словно в жертвенный костер… Что ж осталось от Дикки Руа? И о чем теперь вспоминал Клод? О грустном и красивом молодом человеке, об этой искорке в пыльных лучах прожекторов, о словах, что обычно не произносят вслух. «Рай… любовь… одиночество…» А что у меня осталось от жизни с Фанни?
«Дети счастья» как потерянные бродили повсюду, то связывая, то развязывая какие-то бесформенные тюки. Кое-кого из них заставили остаться в замке для проведения расследования. Другие уже разъехались кто куда: Никола в монастырь, Фитц в Ларзак, Грейс и Джон, «почувствовав ко всему отвращение», вернулись в Англию… Фанаты, которым разрешили до похорон разбить лагерь в парке, опять складывали свои пожитки, палатки, спальные мешки, запихивали одежду в рюкзаки и чемоданы. На опушке сосновой рощи, перед замком, стояли машины. И повсюду под пасмурным небом печальное, мерзкое запустение.
– Теперь здесь больше ничего не увидишь, – не без робости заметила она. Он напрягся, как будто любое ее слово имело решающее значение.
И прибавил:
– Не оставаться же тебе здесь?
– Я не смогла бы, даже если захотела, – рассудительно ответила Полина.
Большой застегнутый рюкзак лежал у ее ног. Но она присела на каменный парапет пруда, и он рядом с ней. Последнее «прощай» замку? Приступ слабости? Или же Полина готовилась к разговору, который предвидела? Клод почувствовал, что надо начать разговор или уезжать. Он вложил все свои силы в этот спор с ней, словно она была женщина, словно он любил ее. Впрочем, Клод ее любил.
– Я виделся с Фанни, – начал он.
Полина внимательно посмотрела на него. Она хорошо почувствовала, что сказал он об этом не зря.
– У адвоката. Она произвела на меня странное впечатление. Она была… Я ожидал, что она станет другой. Более счастливой или несчастной. Оказывается, нет.
– Ты хочешь сказать, что ей на все плевать?
– Не в том смысле, когда говорят, что на все наплевать… Нет, она была какой-то отрешенной, неуверенной, какой-то, понимаешь ли… равнодушной. Да, ко всему равнодушной. И я спросил себя, нет ли доли моей вины в том, что она такой стала. Что она постепенно должна была стать такой, даже живя со мной, я бы этого так и не заметил. Она сказала, что дело тут в биологическом ритме. И еще, что я ее утомлял, вот и все.
Полина, опустив глаза, ковыряла носками кед землю. Клод заставил себя продолжать рассказ.
– Я ее утомлял, потому что мы интересовались многим. Нет, подожди. Потому что мы интересовались всем по-разному. Помнишь, как мы с тобой поссорились?
– Мы не ссорились, – возразила Полина, по-прежнему не поднимая глаз. – Это ты разозлился…
– Согласен, я виноват, – признался он, снова испытывая раздражение. – Я стараюсь тебе кое-что объяснить!
– Объясняй.
– Тогда я этого не понял, но в конце концов меня разозлило, что ты сказала, будто, если вкладывать нечто в слова… Помнишь?
– Да.
– Ну так пойми, это было неправильно, потому что у меня не было никакого повода злиться на тебя, а ведь, в сущности, у Фанни была манера вечно пытаться все объяснить, оправдать… Верить, что во всем есть какой-то резон, какая-то логика, не знаю, тайна, что ли, и злиться на меня за то, что ничего этого нет.
Полина молчала.
– И понимаешь, конечно, жилось бы гораздо легче, если б существовало… такое объяснение. Если бы мы могли жить ради чего-то. Было бы куда проще. Множество людей сами создают себе… Полина, ты меня слушаешь?
– Конечно. Очень любезно с твоей стороны, что ты дал себе этот труд… Но почему бы тебе раньше не объяснить все это Фанни?
– Возможно, – с раздражением ответил он. – Но я ведь с тобой говорю. Потому что все это поразило меня, когда я увидел вас, всю вашу шайку, увидел, как фанаты следуют, словно завороженные бараны, за этим…
Слезы снова выступили на глазах Полины.
– Ты не будешь… ты же не будешь опять плохо говорить о Дикки в такой момент?
– Да нет! Ни об этом несчастном Дикки, ни о твоих подругах… Скажу только, что он олицетворял… ложный смысл жизни, некую иллюзию, которая мешала вам видеть жизнь такой, какова она есть… В сущности, весьма естественно, что все это кончилось в секте. «Дети счастья» тоже хотели отгородиться от жизни…
Как объяснить Полине, что до него вдруг дошло: ведь именно Фанни упрямо, скрыто обвиняла его в том, что он отнял у нее эти ширмы, отнял ее гошизм мелкобуржуазки, девичью религиозность, мораль воспитанницы из пансиона… И ничего не дал взамен, кроме суровых истин, любви, денег, каждодневной борьбы за существование с ее прекрасными неудачами, кроме грубой жизни; отвечал на ее неизменный вопрос «к чему это?» искренним «ни к чему», и ответ этот составлял саму суть его мысли, его гордости, его доблести.
– Я хотел бы объяснить тебе…
Она вдруг сжалась, как испуганный зверек.
– Но почему ты всегда считаешь, что можешь что-то мне объяснить?
– О чем ты?
– Когда ты приехал и устроил весь этот кавардак в шапито, когда ты напивался, когда наглотался снотворных, разве я читала тебе мораль? Пыталась что-нибудь объяснить?
Клода поразила ее резкость.
– Но… дело не в этом!
– Почему же? Потому что ты меня старше? И опытнее? А к чему он тебя привел, твой опыт? К тому, что ты не сумел навсегда удержать свою красотку, не так, скажешь?
– Ты злючка, – угрюмо ответил он.
Она сразу же успокоилась.
– Нам обоим тяжело, – продолжала она. – Но это не причина… Что ты конкретно имеешь в виду под своими громкими словами, этими ширмами? Что мы выдумали все это, что Дикки не был исключительным человеком? Весь мир о нем говорит, как он может не быть исключительным человеком?.. Ну, ладно. Положим ты прав. Для тебя Дикки никто. А вот мне он дал так много! В чем-то прав ты, в чем-то я. Мы можем рассуждать об этом. Ты часто говорил с Фанни? А она с тобой?
– Конечно, нечасто, – покорно признался он. – Да и что это могло решить?
Устами этого младенца глаголет истина. Сейчас Клод ждал от Полины какого-то слова, которое освободило бы его, простило. Она повернула голову в его сторону и поцеловала в щеку.
– Я в это не верю, – с настоящей нежностью сказала она. – Не горюй. Ты поступил, как считал нужным. Я уверена, что ты был с ней честен.
Это слово странным образом его удивило.
– Почему ты так сказала?
– Потому что вспомнила матч «Андерлехт» – «Милан». Ты же знаешь…
Какая давняя история! Любительский матч – он играл в нем вместе со стариком Аттилио, – в котором был момент, когда он мог ударить по воротам, бросившись в проход, но центр полузащиты Пфиферрари получил травму, и Клод подождал свистка арбитра…
И неожиданно эта давняя история снова всплыла, она, обрастая новыми подробностями, без сомнения, много раз рассказывалась в семье Фараджи… И это сквозило в безупречно честном взгляде Полины… И вдруг он вспомнил этот взгляд. Взгляд маленькой девочки, которую он водил в зоопарк, слушать музыку у открытой эстрады, девочки, чья – уже такая твердая – ладошка лежала в его руке.
Все-таки Клод был героем в глазах этой девочки. И оставался им вплоть до того дня, когда его охватил приступ ярости. Он был ее героем, подобно Дикки Руа. Но Дикки погиб.
– Ах, вспомнил… Это было так трудно. Но клянусь тебе, что я приехал ради… ведь я думал, так будет лучше для тебя…
– Вернуться домой с вами? (она снова обратилась к нему на «вы», как будто между ними опять восстановились родственные отношения, но тут же спохватилась)… с тобой? Мне спешить некуда. Я и так вернусь слишком рано…
– Но… – неуверенно возразил он, – а твое будущее?
– Я говорю по-фламандски, по-английски, по-французски, по-итальянски. Печатаю на машинке и даже изучаю стенографию. Ведь ты возьмешь меня в свою контору, если я тебя попрошу, правда? Вот и хорошо. Представь себе. Я поступаю на работу в банк, начинаю с малого, привередничать не приходится. Потом начинаю думать о прибавке, о повышении по службе, ты меня двигаешь, жду год, два, добиваюсь всего этого, покупаю в кредит квартирку, плачу по счетам, выхожу замуж или живу одна, но все равно после квартирки на очереди сразу же «тачка», новая прибавка, новое повышение, участие в деятельности профсоюза, дети или нет, заботы или нет… Я не отрицаю все это, не презираю! Но какая разница, будет у тебя роскошный дом или студио, «порше» или малолитражка… А я раньше хочу посмотреть.
– Что посмотреть?
– В том все и дело, что сама не знаю. Перед смертью Дикки сказал нам о многом, я не уверена, что все правильно поняла… Но его слова все-таки вызвали у меня желание посмотреть мир. Заронили мысль, что надо многое увидеть, узнать.
– Я всегда говорил то же самое! Разумеется, в твоем возрасте…
– Что ж, ехать в клуб «Средиземноморье»?
Вокруг них царил апокалипсис. Все что-то упаковывали, мотались взад-вперед, уходили с убитыми горем лицами. Тюки из подвала, которые так грубо распотрошила полиция, увезли, но кучки соломы и промасленной бумаги, смоченные росой, валялись почти повсюду. Какое-нибудь «дитя счастья», так и не снявшее белую, но теперь помятую, грязную одежду, сидело на пне или же с пустым взглядом, отрешенно восседало на пороге замка.
– Да посмотри же на них! – с неожиданным возмущением воскликнул Клод. – Посмотри, во что они превратились – в отребье, в нелюдей, – и все оттого, что разоблачили этого мошенника, а их эксплуататор сидит в тюрьме! И половина твоих фанатов не лучше!
– Это те, кто не выдержал испытания, – ответила Полина.
– Послушай, – возбужденно продолжал он. – Я рассказывал тебе о Фанни. Я уверен, слышишь, уверен, что в глубине души у нее, как и у них… сплошная пустота. Ведь она не допускала мысли, что человеку мало полной, счастливой жизни. Поэтому я и приехал. Мне страшно за тебя. Я…
– Ну и сравнил. Мне смешно, ведь Фанни… Откровенно говоря, она всегда не слишком-то мне правилась, твоя Фанни. Может, теперь, когда ты мне все объяснил, она нравится мне чуточку больше. Ты объяснил мне хотя бы это. Но все остальное нет. Я с тобой не согласна. По крайней мере, в отношении себя. То, что устраивает тебя, может быть, не устраивает меня. Во всяком случае, сейчас. Я не говорю, что я права, возможно, я еще ничего не решила, но это мое право, разве нет? Как у них было свое…