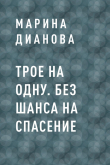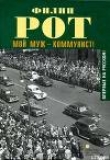Текст книги "Другая жизнь"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
– Это случится не сегодня, – проговорил Буки, – и не завтра. Но, боюсь, этого не миновать. Если бы не Гитлер, нас было бы сейчас десять миллионов. Мы бы дали потомство в шесть миллионов. Но Гитлер добился успеха. Я молюсь только об одном: я хочу, чтобы евреи уехали из Америки до появления нового Гитлера.
Я повернулся к Генри, который, погрузившись в молчание, как и липмановские дети, продолжал поглощать пищу.
– Именно это ты чувствовал в Америке? Ты знал, что надвигается катастрофа?
– Ну, вообще-то нет, – смущенно пробормотал он. – Не совсем. Но что я понимал? Что я мог видеть?
– Ты родился не в бомбоубежище, – нетерпеливо возразил я. – Ты жил не в подземной норе.
– А разве нет? – залившись краской, воскликнул Генри. – Не надо с такой уверенностью говорить об этом, – добавил он и сразу замолчал, не произнеся больше ни слова.
Я понял, что Генри оставил меня на растерзание своим приятелям. Я подумал: неужели он выбрал для себя эту роль? Роль хорошего еврея, предоставив мне играть роль плохого еврея? Если так, то он подобрал себе подходящую компанию.
Я сказал Буки:
– Ты описываешь ситуацию в Америке так, будто мы живем на вулкане. Мне кажется, вы настолько остро нуждаетесь в приросте населения, что совершенно неправильно представляете себе массовую эмиграцию из Нового Света. Когда ты последний раз был в Штатах?
– Дафна выросла в Нью-Рошель[78]78
Небольшой город в штате Нью-Йорк, США.
[Закрыть], – сказал он, кивнув головой в сторону жены.
– А когда вы поднимали глаза в Нью-Рошель, вы видели жерло вулкана?
В отличие от Генри она не стала мешкать с ответом. Она просто ждала своей очереди, устремив на меня взгляд с той самой минуты, как я, тихо сидя за столом, слушал их пение в Шаббат. Только в ней я чувствовал агрессию по отношению к себе. Все остальные занимались просвещением дурака, она же с открытым забралом бросилась на врага подобно сопляку Джерри, который накинулся на меня в ульпане сегодня утром.
– Разрешите задать вам вопрос, – проговорила Дафна, отвечая мне. – Вы друг Нормана Мейлера?[79]79
Норман Кингсли Мейлер (1923–2007) – американский прозаик, поэт, драматург, кинорежиссер. Дважды лауреат Пулицеровской премии и Национальной премии Америки.
[Закрыть]
– Мы оба пишем книги.
– Разрешите задать вам вопрос о вашем коллеге Мейлере. Почему его так интересуют убийцы и бандиты, жестокость и насилие? Когда я училась в Барнарде[80]80
Барнард-колледж Колумбийского университета – частное учебное заведение для женщин. Основан в 1889 г. Располагается на Манхэттене, Нью-Йорк.
[Закрыть], преподаватель английского велел нам прочитать его книги – книги еврея, который только и думает что об убийствах, грабежах и прочих преступлениях. Иногда, размышляя о чистоте и невинности моих учеников и сравнивая наши занятия с идиотической бредятиной, которую я слышала там, я задаю себе вопрос: если этого еврея так увлекает насилие, почему он не едет в Израиль? Почему он не едет сюда, мистер Цукерман? Почему, если он хочет понять природу убийства, он не приедет к нам и не станет таким, как мой муж?
Мой муж убивал людей в четырех войнах, но не потому, что он ловит кайф от убийства. Он не одержим идеей убийства. Он думает, что убийство – это ужас. Никакой идеи в этом нет. Он убивал, чтобы защитить крохотную страну, чтобы оберечь измученную в сражениях нацию; он убивал, чтобы его дети, когда вырастут, могли жить в мире и спокойствии. Он не обладает талантом писателя, у него нет дара к сочинению историй про неслыханные по жестокости преступления и приключения несуществующих убийц, он – обыкновенный человек, у которого есть реальный опыт убийства реальных людей на Синае, и на Голанских высотах, и на иорданской границе. Он воевал не ради славы писателя, создающего бестселлеры, он воевал, чтобы не допустить уничтожение еврейского народа!
– Так что вы хотели спросить у меня? – задал я вопрос.
– Я хочу знать: почему книги этого еврея из диаспоры, полные нездоровых идей, восхваляются в журнале «Тайм», а наш отказ жить в окружении врагов, которые стремятся уничтожить нас на собственной земле, тот же журнал «Тайм» называет чудовищной еврейской агрессией? Вот что я хотела у вас спросить.
– Я здесь не представляю ни «Тайм», ни какой-либо иной журнал. Я приехал навестить Генри.
– Но вы же не неизвестно кто, – язвительно возразила она. – Вы – знаменитый писатель, прозаик, романист; более того, вы писатель, который пишет о евреях.
– Сидя за этим столом, в этом поселении, трудно поверить, что писатель может писать о чем-нибудь еще, – парировал я. – Послушайте, сочинять про насилие и низменные инстинкты, вырывающиеся у криминальных элементов на свободу, – это вовсе не то же самое, что быть сторонником идей насилия. Не вижу никакого лицемерия или малодушия в том, что писатель не выходит на улицу и не делает то, о чем пишет, не воплощает в реальность кровавые сцены, изображенные в мельчайших и жутких деталях. Лицемерие и малодушие состоит в том, что вы отворачиваетесь от того, что знаете.
– Итак, – вмешался Липман, – ты хочешь сказать, что мы не такие лапочки, как твои американские писаки еврейского происхождения?
– Я говорил совсем не это.
– Но это же правда, – улыбнулся он.
– Я говорил, что нельзя рассматривать литературу так, как это делает Дафна, под весьма специфическим углом зрения. Я говорю, что писателю совсем не обязательно связываться с преступным миром, чтобы разрабатывать эти темы в своем творчестве. Я не спорю, кто хороший, а кто – нет. У писателей доброта бывает убийственна, не так, как у других людей. Я только возражаю против грубого искажения сути дела.
– Грубое искажение? Нет, это чистая правда. Мы не похожи на интеллектуальных лапочек и паинек-гуманистов с менталитетом галута. Мы не изысканные, мы не рафинированные интеллигенты, и нам наплевать на вежливые улыбочки. Все, что говорила Дафна, – это то, что у нас нет возможности витать в облаках и предаваться фантазиям, как это делаете вы, американские писатели-евреи, сочиняя истории о насилии и преступлениях. Еврей, который сидит за рулем школьного автобуса и едет мимо арабов, швыряющих камни в его ветровое стекло, не фантазирует, сочиняя истории про насилие, он вживую сталкивается с насилием, и он борется с этим насилием. Мы не мечтаем о применении силы – мы и есть сила. Мы не боимся взять в руки власть, чтобы выжить, и не боимся жестко применять ее, мы не боимся стать хозяевами. Мы не хотим уничтожить арабов – мы просто не хотим, чтобы они уничтожили нас, и мы не позволим им сделать это. В отличие от милых дяденек и тетенек, живущих в Тель-Авиве, у меня нет арабофобии. Я могу жить с ними бок о бок, и я это делаю. Я даже умею говорить с ними на их языке. Но если араб бросит ручную гранату в дом, где спят мои дети, я не стану отвечать ему фантазиями о насилии, которое изображают в романах и показывают в кино на потребу публике. Я – не зритель, сидящий в уютном кинозале, я не актер, снимающийся в голливудском боевике, я – не писака из породы американских евреев, который делает шаг назад и с расстояния оценивает реальность, исходя из собственных целей. Нет! Я тот, кто отвечает насилием на насилие, если видит перед собой реального врага, и мне не нужна поддержка журнала «Тайм». Журналисты, видите ли, устали писать о том, как евреи превращают пустыню в цветущий сад, – им это надоело как горькая редька. Им надоело освещать в прессе, как на евреев совершают неожиданное нападение, а они выходят победителями из всех войн. Теперь они хотят описывать жадного, распоясавшегося еврея, который жаждет переступить границы своей территории. Араб – Благородный Дикарь против Еврея-Выродка, Еврея-Колониалиста, Еврея-Капиталиста. Теперь журналист приходит в восторг, если араб-террорист приглашает его в свой лагерь беженцев и, изящно демонстрируя свою арабскую гостеприимность, изящно наливает ему чашечку кофе на виду у всех борцов за свободу, сгрудившихся вокруг; и вот этот репортер думает про себя, что он рисковый парень, который, пренебрегая опасностью, пьет кофе с революционером, сверкающим черными глазами; и араб тоже изящно пьет кофе, говоря ему, что его храбрые герои, ведущие партизанскую войну, очень скоро сбросят всех гребаных сионистов в море. Вот от этого захватывает дух: это не то, что хлебать борщ рядом с носатым жидом.
– Плохие евреи создают самые лучшие материалы для публикаций, – вмешалась Дафна. – Но мне незачем говорить это Натану Цукерману и Норману Мейлеру. Плохие евреи продают свои газеты так же, как вы продаете свои книги.
«Она просто душка», – подумал я, проигнорировав ее слова. Предоставив Мейлеру право защищать Мейлера, я решил, что уже достаточно высказался в свою защиту, пройдясь по всем пунктам обвинения, предъявленного мне.
– Скажи мне, – продолжал Липман, – может ли еврей сделать хоть что-нибудь, чтобы от этого не воняло еврейством до небес? Есть гоим, для которых мы – вонючки, потому что они смотрят на нас сверху вниз, и есть гоим, для которых мы – вонючки, потому что они смотрят на нас снизу вверх. И затем есть еще гоим, которые смотрят на нас и снизу вверх и сверху вниз одновременно, – вот те по-настоящему ненавидят нас. И конца-краю этому не видно. Сначала всех бесила клановость евреев, потом – нелепость и абсурдность феномена еврейской ассимиляции, теперь всех бесит независимость еврейского государства – этот факт им кажется неприемлемым и несправедливым. Сначала для всех была отвратительна еврейская пассивность: еврей-слабак, еврей-приспособленец, еврей, который покорно, как овца, идет на собственное заклание. А теперь он не просто омерзителен – он настоящий злодей, потому что стал воинственным и умеет показать свою силу. Сначала для крепких телом и духом арийцев была омерзительна болезненность евреев: нескладные евреи с хрупким телосложением, ссужающие деньги и торгующие книгами; теперь омерзение вызывают возмужавшие еврейские мужчины, которые умеют использовать свою силу и не боятся взять в руки власть. Сначала вызывали осуждение те, кого называли безродными космополитами, – чужие для всех, странноватые и не вызывающие доверия. Теперь не такими, как все, стали евреи, которые имеют наглость полагать, что сами могут выбирать свою судьбу и жить у себя на родине, как и все другие народы на свете. Послушай, арабы могут остаться и жить здесь, и я могу остаться и жить здесь, и мы с ними можем жить в мире и гармонии. Они могут выбрать себе любой образ жизни, заниматься тем, чем хотят, кроме одного: они не должны требовать для себя государственный статус. Если они хотят именно этого, если они не могут дышать без этого, пусть едут в любое арабское государство и там получают государственный статус. На свете существует пятнадцать арабских государств, и они могут выбрать любое из них – до каждого не больше часа езды на автомобиле. Земли, занимаемые арабами, обширны, территория огромна, а Израиль на карте мира выглядит как маленькое пятнышко. В штате Иллинойс, к примеру, поместится семь Израилей, но Израиль – единственное место на всем белом свете, где евреи могут получить государственный статус. Вот поэтому мы никому не отдадим нашу землю.
На этом ужин закончился.
Генри вел меня по двум длинным улицам жилого квартала к месту моего предполагаемого ночлега – к дому пары поселенцев, уехавших к родственникам в Иерусалим отмечать Шаббат. Внизу, в арабском поселении, все еще горели фонари, а вдали, у вершины холма, как немигающий кровавый глаз, который в древние времена был бы истолкован как предвестник гнева Господня, светился сигнальный огонь радара на площадке с ракетными установками. Одна из ракет, приведенная в полную боевую готовность, стояла, гордо задрав нос, – ее было видно издалека, когда мы проезжали мимо по направлению к Хеврону.
– Следующая война, – произнес Генри, указывая на военную базу на вершине холма, – займет не более пяти минут.
Израильские ракеты, которые мы видели по пути, были направлены на центр Дамаска, чтобы держать в страхе сирийцев и не дать им шанса первыми запустить ракету, нацеленную на Хайфу. Мы увидели световое пятно ярко-красного прожектора, служившего приметой времени, но вокруг разливалась чернильная мгла, и крохотный Агор, залитый светом фонарей, казался мне космической колонией, где развивается новая цивилизация еврейских храбрецов, а Тель-Авив со всеми его умницами и душками был от меня далеко-далеко, как потускневшая звезда.
Мне нечего было сказать Генри: после липмановского «семинара» мне показалось, что язык не является больше областью моих знаний. На дискуссиях я собаку съел, но там, у Липманов, я будто онемел: каждое слово вызывало споры, сопротивление было огромным и непреодолимым. Какую бы позицию я ни занимал, ее тотчас же оспаривали, и все, чего бы мы ни коснулись, обсуждая проблему, тотчас же вызывало доводы «за» и «против», и все было как бы подчеркнуто, выделено курсивом, и каждая реплика была окрашена гневом и возмущением.
Мое словесное избиение не закончилось и после обеда. В дополнение к предыдущему раунду, в течение двух часов, пока я сидел, обложенный со всех сторон немецкими литературными шедеврами, а Ронит, довольная своей победой, потчевала меня чаем с тортом, Липман подвергал меня новой порке. Я пытался понять, за что он хочет высечь меня: не были ли его негодующие тирады хотя бы отчасти спровоцированы моим двойственным положением среди евреев, моим постыдным и сомнительным, с их точки зрения, отношением к евреям, на что Дафна намекала с присущим ей негодованием, или же Липман нарочно слегка переигрывал на поставленном им спектакле, чтобы я понял, почему так запутался мой брат в своей прошлой жизни; делал ли он это на тот случай, если мне придет в голову умыкнуть своего брата и вернуть назад, в диаспору, принадлежащего им образцового стоматолога, который являлся типичным примером успешной ассимиляции, но на которого у него, Липмана, и Бога в придачу теперь имеются другие планы. Время от времени в голове у меня мелькала мысль: «Хрен ты моржовый, Цукерман, почему ты не скажешь этим гребаным сукиным детям все, что думаешь? Они же говорят все, о чем думают!»
Но, общаясь с Липманом, я предпочитал держать язык за зубами, если, конечно, наш диалог можно было назвать общением. После обеда я тихо сидел в гостиной, изображая из себя благородного молчальника, но на самом деле правда была иной: меня побили с большим перевесом.
Генри тоже нечего было сказать. Сначала я подумал, что он молчит из-за Липмана, которого поддерживали Буки и Дафна: безо всякого намерения смягчить удар они дали мне ясно понять, что мой брат оправдан. Затем в голову пришла другая мысль: неужели мое присутствие в Агоре заставило моего брата в первый раз после того, как он попал под влияние Липмана и его убеждений, пересмотреть идеологию своего наставника-шантажиста и взглянуть на него под иным утлом зрения, чуждым духу Агора? Вот почему он подобно несмышленышу бормотал что-то невнятное мне в ответ, когда я спросил, жил ли он в Америке как на вулкане. Может, тогда он задавал себе тот же вопрос, что и Мохаммед Али[81]81
Мохаммед Али (Кассиус Клей; р. 1942) – легендарный американский боксер. Чемпион Олимпийских игр 1960 г. в полутяжелом весе. Многократный чемпион мира среди профессионалов в тяжелом весе.
[Закрыть], человек недюжинной силы и храбрости, который, по собственному признанию, во время тринадцатого раунда в третьем бою с Фрезером[82]82
Джо Фрезер (р. 1944) – знаменитый американский боксер, многократный чемпион мира, первый тяжеловес, которому удалось нокаутировать Мохаммеда Али.
[Закрыть] ломал голову над вопросом: «А что я тут делаю?»
Пока мы брели по немощеной улице поселения, одинокие, как Нил Армстронг и Базз Олдрин[83]83
Нил Олден Армстронг (р. 1930) – американский астронавт, первым в мире ступивший на Луну (21 июля 1969 г.); Базз Олдрин (Эдвин Юджин Олдрин; р. 1930) – американский астронавт, вторым после Нила Армстронга высадившийся на Луне.
[Закрыть], втыкающие игрушечный американский флаг в пыльную поверхность Луны, меня осенило, что Генри хочет домой и хочет, чтобы я забрал его, с той самой минуты, как я позвонил ему из Иерусалима; что он заблудился на жизненном пути, но не может унизить себя, признавшись в этом человеку, чья похвала была для него так же важна, как благословение, которое он мечтал получить от отца. Вместо этого он вынужден был подбадривать себя, мужественно думая что-то вроде: «Пусть будет как будет. Да, я заплутал, так что с того? Жизнь – это приключение, во время которого всегда можно потеряться. Пора снова отыскать свою дорогу!»
Нельзя сказать, что я много размышлял об этом, считая данную проблему тяжким грузом, ложившимся на плечи каждого человека; жизнь писателя – нелегкое испытание, и часто не понимаешь, где ты находишься и куда попал, даже если ты не заблудился. Генри, быть может, сам хотел заблудиться на жизненном пути, вслепую нащупывая дорогу во время своего медленного выздоровления; когда он, разрывая мне душу, говорил о чем-то недостижимом, о какой-то возможности выбора, о бесцельных поисках чего-то сводившего его с ума, это было мучительно для него, но в то же время ему было совершенно ясно: как только он найдет ответ терзавшей его загадке, он сможет излечиться от снедающей его депрессии. Если дело обстоит именно так, это значит, что не те корни он нашел в себе, сидя на залитом солнцем подоконнике хедера в Меа-Шеарим, не ту нерушимую связь с традициями европейских евреев уловил в нестройном хоре учеников религиозной школы, что звонко распевали, твердя урок; для него это была подсказка, как лишить себя корней, как свернуть с тропинки, на которой было написано его имя с того дня, как он появился на свет, и хитроумным способом совершить побег под личиной правоверного еврея. Израиль вместо Джерси, сионизм вместо Венди, причем с декларациями, что отныне и никогда впредь он не будет больше принадлежать старому миру, в котором он задыхается так, будто на шею ему накинули петлю.
Что, если Кэрол права и у Генри действительно поехала крыша? Нет, он не более безумен, чем Бен-Джозеф, автор «Пяти книг Джимми», и к тому же не менее значителен, чем мой почитатель. Если рассмотреть его поступок со всех сторон, тогда не исключается возможность, что «он просто сбежал», как выразилась Кэрол. Быть может, он так и не оправился от стресса, впав в глубокую депрессию от известия, что вся его будущая жизнь сводится к перспективе быть импотентом и сидеть на таблетках? А может, Генри бежал от своей восстановленной потенции, боясь, что будет впоследствии наказан и к нему придет новая беда, если он будет искать спасения в таком антиобщественном явлении, как возвращенная ему эрекция? Он сейчас в бегах, подумал я, он совершил побег от безумия секса, от невыносимого хаоса в своей половой жизни, где нереализованная мужская сила выплескивалась через край; он бежал, потому что унизил себя ложью и предательством; утаивая свой секрет, он спасался от мертвящей анархии, которая вкрадывается в душу любого, кто хотя бы в скромных масштабах отдает себя на откуп неконтролируемым желаниям. Здесь, на груди Авраама, далеко от жены и детей, он может снова стать образцовым мужем или хотя бы образцовым сыном.
По правде говоря, несмотря на мои неимоверные усилия, я даже к концу дня не смог решить, как оценивать отношения моего брата с Агором и тамошними обитателями, идеология которых заключалась в том, чтобы рассматривать каждого еврея не только как потенциального израильтянина, но и как неминуемую жертву нависшей над всеми евреями чудовищной, спровоцированной антисемитами катастрофы, если они будут жить вдали от своей исторической родины. На мгновение я перестал искать другие мотивы, отбросив все, что казалось мне невероятным для объяснения его преображения, кроме одного: Генри решил выступить в другой роли. Вместо этого передо мной развернулись воспоминания о том, как в последний раз мы остались с ним наедине: мы находились в месте, таком же темном, как Агор, и было уже около одиннадцати вечера. Я вспоминал, что было в начале сороковых, еще до того, как отец купил домик на одну семью недалеко от парка; мы тогда были еще совсем маленькими и спали в общей спальне в дальнем углу квартиры на Лайонз-авеню, лежали в полной темноте, находясь друг от друга не дальше, чем теперь, когда мы спускаемся вместе по улочке этого поселения, и единственным световым пятном во всей комнате был круг от радио Эмерсона[84]84
Радио Эмерсона — продукция компании «Эмерсон радио корпорейшн», учрежденной в 1915 г. инженером Виктором Хьюго Эмерсоном.
[Закрыть], стоявшего на тумбочке между нашими кроватями. Я вспоминал, как Генри, едва только раздавался леденящий сердце скрип дверей в начале очередной радиопередачи «Тайники души»[85]85
Популярная в США серия радиопостановок (1941–1952). Начиналась и заканчивалась наводящим ужас скрипом дверей.
[Закрыть], выпрыгивал из своей кровати и просился ко мне под одеяло. И тогда я, делая вид, что презираю его ребяческую трусость, приподнимал краешек одеяла и пускал его к себе. Разве можно быть ближе друг к другу, быть больше связанными друг с другом, чем два брата в раннем детстве?
«Липман, – должен был сказать я, пожимая ему руку у порога его дома и желая ему спокойной ночи, – даже если все, что вы наговорили мне, правда на все сто процентов, факт остается фактом: в коллективной памяти нашей семьи нет воспоминаний о златом тельце и неопалимой купине – наша память возвращается к радиопьесе „Кабачок Даффи“[86]86
Комедия положений, передаваемая по американскому радио в 1940–1950 гг., в которой были заняты ведущие актеры театра и кино. Даффи – хозяин кабачка, не произносящий на протяжении всего действия ни слова. Автором сценария и одним из актеров был Эд Гарднер.
[Закрыть] и к программе „Кто смешнее всех?“[87]87
Цикл комедийных радиопередач. Первый выпуск состоялся в 1940 г.
[Закрыть]. Может быть, все евреи начинаются с Иудеи, но только не Генри – он не ваш и никогда не будет вашим. Его корни – это программы теле– и радиопередач студий WJZ и WOR[88]88
WJZ — одна из первых станций телерадиовещания, начавшая работу в 1948 г.; WOR – американская радиостанция, передающая программы новостей.
[Закрыть], или двойной сеанс в кинотеатре „Рузвельт“ по субботам, или два матча подряд, сыгранные на стадионе „Рупперт“[89]89
Стадион «Рупперт» находится в Ньюарке, штат Нью-Йорк, США. Назван по имени владельца, «пивного короля» Джейкоба Рупперта. Первая игра состоялась здесь 21 апреля 1910 г.
[Закрыть] командой „Ньюаркские медведи“. Не такое эпическое полотно, как у вас, но что уж имеется. Почему вы не отпускаете моего брата?»
А если он действительно не хочет никуда уезжать? И хочу ли я, чтобы он захотел уехать отсюда? Неужели во мне проснулась дурацкая сентиментальность либерала? Не стал ли я одним из этих лапочек и паинек самого дурного толка, желая иметь брата-рационалиста, который эмигрировал в Израиль по правильным причинам и встречается с правильными людьми? Уеду ли я домой после нашей встречи с ясным пониманием того, что у Генри в голове роятся правильные мысли и он делает правильные вещи? Нет, это все чистая сентиментальщина, даже непрофессионализм. Если смотреть на ситуацию с писательской точки зрения, преображение Генри можно считать самой провокационной инкарнацией на свете, а может, и самой убедительной.
Одним словом, я досконально проработал все версии. Но нельзя сбрасывать со счетов и мои побуждения. Там я выступал не только в роли его брата.
– Ты ни разу не спросил о детях, – сказал я, когда мы приблизились к последнему дому на улице.
Генри, ощетинившись, моментально отреагировал на мой вопрос:
– А что с ними такое?
– Ну, мне кажется, что по отношению к ним ты ведешь себя неправильно. Ты проявляешь надменность, а это свойство более отвечает моей репутации, нежели твоей.
– Послушай, не надо взваливать на меня еще и это. Ты не тот, кто имеет право говорить со мной о моих детях. Они приезжают ко мне на Пасху, все уже решено. Они увидят здешние места и непременно полюбят их. Вот тогда и поговорим.
– Ты думаешь, они останутся здесь навсегда?
– Я же сказал тебе: не дави на меня, не хватай меня за задницу. Ты три раза был женат, и, насколько мне известно, все твои несостоявшиеся дети смыты в унитаз из сливного бачка.
– Может, так, а может, нет. Но человеку не обязательно быть отцом, чтобы задать нужный вопрос. Когда твои дети перестали существовать для тебя?
От этого Генри разозлился еще больше:
– А кто тебе это сказал?
– В Хевроне ты говорил мне о своей прошлой жизни. Говорил, что жизнь превратилась в бессмыслицу, что ты по уши в дерьме. И тут я вспомнил про трех твоих детей. Как можно сбросить их со счетов и говорить, что жизнь бессмысленна? Я не хочу внушить тебе чувство вины – я только пытаюсь понять, продумал ли ты все до конца.
– Ну конечно да! Я вспоминаю их тысячу раз на дню. Вот они приедут ко мне на Пасху, посмотрят, что я тут делаю, и, кто знает, может, решат остаться здесь навсегда.
– Рути звонила мне до моего отъезда из Лондона, – вставил я.
– Неужели?
– Она знала, что я собираюсь к тебе. Она хотела, чтобы я тебе кое-что сказал.
– Я говорю с ней по телефону каждое воскресенье.
– Когда она разговаривает с тобой по телефону, рядом стоит ее мать и она не может сказать тебе все, что бы ей хотелось. Рут умная девочка, Генри. В свои тринадцать она уже взрослая, а не ребенок. Она сказала мне: «Он поехал туда, чтобы узнать для себя что-то важное. Он хочет что-то найти для себя. Он еще не старый и может многому научиться, и я думаю, что он прав».
Сначала Генри ничего не ответил, и я увидел, что он плачет. Наконец он произнес:
– Так она и сказала?
– И еще она сказала, что чувствует себя потерянной без отца.
– О-хо-хо, – вздохнул Генри. – Я тоже чувствую себя потерянным без них.
– Еще бы! Я просто хотел передать тебе ее слова.
– Что ж, спасибо, – поблагодарил меня он. – Спасибо.
Генри толкнул незапертую дверь и включил свет – мы оказались в маленьком квадратном домике, построенном из пепельно-серых бетонных блоков, в точности походившем на жилище Липмана, только интерьер был выдержан в еще более строгом религиозно-национальном стиле. В убранстве гостиной доминировали не книги, а пара экспрессионистских полотен чудовищных размеров, на которых были изображены два почтенных библейских старца – то ли пророки, то ли патриархи, – личности которых я не смог установить. Одну стену закрывала какая-то штора, а вдоль другой шли ряды стеллажей, заставленных глиняными горшочками и обломками камней. Древние осколки были гордостью коллекции хозяина, археолога из Еврейского университета, а драпировка с восточными мотивами была создана его женой, которая работала на небольшой фабрике в соседнем поселении, где наносили рисунки на ткань. Живописные работы, на которых буйным цветом полыхала положенная грубыми мазками ярко-оранжевая и кроваво-красная краска всевозможных оттенков, принадлежали кисти известного художника из поселения, чью акварель, изображающую верблюжий рынок, приобрел Генри, желая послать ее детям в подарок. Чтобы сделать приятное своему брату, я несколько минут потоптался перед работами, демонстрируя свое восхищение. Его восхищение этими произведениями было скорее всего подлинным, но наша беседа о достоинствах композиции, представляющей собой замкнутый крут, удивила меня своей искусственностью. Генри всеми силами пытался меня убедить, что я глубоко неправ, если думаю, что эйфория авантюризма начала в нем потихоньку сходить на нет.
Крохотный коридорчик разделял гостиную и спальню, которая была намного меньше той, что мы делили в детстве с моим братом. В помещение были втиснуты две кровати, но это был не гарнитур со всякими прибамбасами вроде нашего, с резными спинками из клена, изукрашенными бороздками и желобками, которые мы считали крепостными стенами форта, осаждаемого отрядом апачей, – местные лежбища скорее напоминали походные койки, стоящие бок о бок друг с другом. Генри щелкнул выключателем – показать мне, где уборная, а затем начал прощаться, сказав, что мы увидимся завтра утром. Он будет ночевать в общей спальне вместе со своими сокурсниками, там, на вершине холма, где находится его школа.
– Почему бы тебе не отдохнуть от радостей коммунальной жизни? Оставайся на ночь здесь.
– Я пойду, – ответил он.
В гостиной я сказал брату:
– Генри, присядь.
– Только на минутку…
Но когда Генри с размаху плюхнулся на диван, над которым висели картины, он вдруг стал похож на заблудившегося ребенка, не старше его собственных детей, на ребенка, ждущего на скамейке в полицейском участке, пока кто-нибудь, кого он любит и ждет, не придет забрать его. В то же время он казался мне столетним стариком, испытывающим страдания вдвое мучительней, чем намалеванный мудрец над его головой, потому что все его надежды о духовном преображении и обновлении своего еврейского «я» потерпели крах, будто по ним проехали колеса тяжеловоза.
Я всегда любил и буду любить своего брата, поэтому, взглянув на столь печальное зрелище, я захотел броситься к нему, уверяя, что он не совершал глупой ошибки, что это я натворил глупостей, это я влез не в свое дело, заставив его страдать и вызвав в нем сомнения. Ему совершенно не нужно в его теперешнем состоянии, чтобы его подавляла более сильная личность. Это его жизнь. Почему же не отступить в сторонку, предоставив ему возможность что-то извлечь из своих колебаний? Он бросил все, потому что больше не мог терпеть. Он понял, что нужно сделать это прямо сейчас. Сейчас или никогда! И он приехал сюда. Вот и все. Пусть он называет это своим моральным долгом, если ему так больше нравится. Он хочет, чтобы перед ним стояли возвышенные цели, – так пусть будет, как он того желает. В русской литературе полным-полно таких героев – душ, жадных до приключений, со странными, непомерными желаниями, – на страницах книг они встречаются гораздо чаще, чем в жизни. Вот и хорошо, пусть им, как князем Мышкиным, двинут благородные порывы. А если это только охота за дикими гусями? Что ж, тогда его положение незавидно, но это уже не имеет ко мне ни малейшего отношения…
А что, если он отчаянно хочет выбраться из Агора и вернуться обратно к детям и даже к жене? Что, если его безудержная агрессия нашла выход в Агоре, и теперь Генри снова посадил ее на цепь, вернувшись к старым добродетелям и старым привычкам? Может, до Генри наконец дошло, что только одна Рути имеет в его жизни большее значение, чем все то, что он может когда-нибудь найти в Израиле? А может, он принял на себя безнадежные обязательства и теперь не в состоянии их выполнить? Даже уверенный в себе Генри, даже сующий в карман пистолет, даже впитавший в себя лучшее, что есть в Липмане, он мне казался загнанным в угол, засосанным в трясину, подавленным, чего не было с ним в Нью-Джерси.
Мой визит в Израиль начался с того, что я предупредил себя: не стоит сыпать ему соль на раны. Не надо бередить ему душу, он человек уязвимый.
Но если он – сплошная рана, что мне делать с ним? Я не смог вовремя заткнуться, не смог держать язык за зубами, и теперь было уже слишком поздно. Эти мальчики – братья, думал я, хотя они совершенно разные. Но каждый всегда считался с принципами другого и мерил свои поступки, основываясь на принципах брата, так долго, что теперь кажется абсолютно немыслимым, если оба перестанут учитывать мнение друг друга. Эти мужчины – те же самые мальчики, которые всегда были братьями, эти мальчики – братья, которые стали мужчинами, эти братья – мужчины, которые были мальчиками, следовательно, их противоречия непримиримы: вызов брошен – вызов принят, и он заключается лишь в их бытии.
– Значит, это твое окружение, – проговорил я, садясь напротив Генри.
Он отвечал мне, напустив на себя важный вид, будто заранее оборонялся от всего, что я могу сказать.
– Да, это некоторые из тех, с кем я общаюсь. Да.
– Наверно, противники Липмана считают его злейшим врагом.
– Это так.
– А что тебя притягивает к нему? – спросил я, не надеясь на ответ. – Этот человек – воплощение мужской силы. – (Может, его привлекало в Липмане именно это?)
– А что в нем тебе не нравится? – парировал он. – Что в нем не так?
– Я не говорил, что в нем что-то не так. Дело не в том, что я думаю о Липмане, я лишь интересуюсь, почему он держит тебя в руках.
– Почему я восхищаюсь им? Потому что он прав.
– В чем он прав?
– Он прав в том, что защищает Израиль, и в том, к каким мерам прибегает для достижения этой цели.