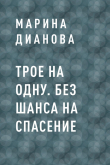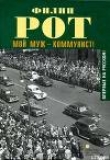Текст книги "Другая жизнь"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Тут энергичный офицер взял в руки черный бархатный футляр, лежавший на спинке кресла передо мной.
– Ты видишь это, Джим? Я получил эту вещь в награду, когда закончил обучение в школе борьбы с терроризмом. Прекрасное старинное еврейское оружие, памятник древней культуры, которое мне подарили за то, что я был лучшим учеником в классе. – Уважение, с которым он открыл футляр, не допускало никаких язвительных замечаний. Внутри футляра лежал нож – кинжал с изящной ручкой из янтаря длиной около пяти дюймов и острым стальным лезвием, изгибавшимся на конце, как большой палец руки. – Старинная вещь из Галиции, Джим, живое напоминание о гетто, которое пережило жестокие века. Похоже на нас с тобой, Джим, и на тебя, Натан. Эту штуку использовали в те времена, чтобы сделать настоящих евреев из только что народившихся младенцев мужского пола. Это был приз лучшему выпускнику в качестве признания его твердой руки и железных нервов. Теперь наши лучшие резники – мохелы – стали хорошо подготовленными убийцами. Что ж, быть может, для нас так даже лучше. А что, если мы ненадолго одолжим эту штуку твоему папочке? Посмотрим, будет ли он в силах повторить библейский сюжет и принести в жертву своего сына.
Джимми, повизгивая, смотрел, как энергичный охранник рубил кинжалом воздух над его головой.
– Золотой клинок против психов! – произнес он. – Лучший детектор лжи, изобретенный человеком!
– Я все беру назад!
– Что ты берешь назад?
– Все!
– Вот и хорошо, – спокойно подытожил энергичный охранник. Засунув античное оружие в бархатный футляр, он аккуратно положил его на спинку сиденья – на тот случай, если придется снова показать кинжал Джимми.
– Я очень простой парень, Джим. Практически никакого образования у меня нет. Работал на бензоколонке в Кливленде, пока не сделал алию. Я никогда не принадлежал к элите, тусующейся в загородных клубах. Я протирал стекла автомобилей, мыл машины и менял покрышки. Брал шину за краешек и поддевал, чтобы она поддалась, ну и тому подобное. Грязная обезьяна, человек с бензоколонки. Я очень крутой парень, и если, быть может, мне не хватает интеллекта, зато очень хорошо развито подсознание. Оно у меня очень сильное и неподавляемое. Ты когда-нибудь слышал о сильном, неподавляемом подсознании? Мне даже не нужно, как Бегину, выставлять вперед обвиняющий указательный палец, чтобы оправдать свои действия. Я просто действую. Я говорю себе: «Это то, что я хочу сделать, и я имею на это полное право». И я делаю это. Ты не первый террорист, чей хуй я отрежу в качестве сувенира за то, что он вместо правды вывалил на меня ушат дерьма.
– Нет! – завыл Джимми.
Охранник опять вытащил обращение Джимми из кармана своих штанов и, заново просмотрев его, прочел несколько фраз:
– Закрыть музей холокоста, потому что его существование огорчает гоим? Ты действительно веришь в такую чушь, Джим, или это еще один из твоих приколов? Неужели ты в самом деле думаешь, что они не любят евреев потому, что еврей – это судия? Неужели это все, что их волнует? Это не трудный вопрос. Джим, ответь мне на него, пожалуйста. Трудный вопрос – это как может человек, садящийся на борт самолета в Тель-Авиве, пронести с собой все это железо. Мы еще успеем подвесить тебя за уши, чтобы получить ответ на этот вопрос, но сейчас я не об этом тебя спрашиваю. Пока мы не будем крутить тебе яйца, это попозже, мы еще поработаем с твоими глазными яблоками, с деснами и коленями, мы еще отыщем все укромные болевые точки на твоем теле, чтобы получить ответ на этот вопрос, но пока я тебя спрашиваю исключительно из личного интереса и для расширения кругозора грязной обезьяны из Кливленда с сильным, неподавляемым подсознанием: неужели ты действительно веришь во все, что тут понаписано? Говори, не смущайся: к грубому нажиму я смогу прибегнуть в туалете, когда мы там запремся вдвоем и я достану до всех укромных местечек твоего тела. А пока меня гложет чистое любопытство. В самой утонченной форме. Я сам скажу тебе, что я про это думаю, Джим, – я думаю, что это еще одно заблуждение, еще один самообман: вы, евреи, думаете, что можете выступать для них в роли судии. Разве я не прав, Натан, что вы, образованные евреи, склонны к серьезным заблуждениям?
– Думаю, что это так, – ответил я.
Он добродушно улыбнулся:
– Я тоже, Нат. Ну конечно же, вы можете случайно встретить мазохиста-нееврея, у которого в голове бродят мыслишки о моральном превосходстве евреев, но в основном, Джим, я должен тебе сказать, они думают совершенно иначе. Большая часть неевреев, услышав про холокост, плюет на это с высокой колокольни. Нам не нужно закрывать «Йад ва-Шем», чтобы помочь им забыть, – они и так уже забыли про холокост. Честно говоря, я не думаю, чтобы кто-нибудь, кроме евреев, был так сильно озабочен всем этим делом, как ты, – вот и Натан тебе скажет то же самое. По-честному, вот что я думаю: они в большинстве своем вообще не считают, что евреи для них – высший судия; наоборот, они считают, что евреи отхватили себе слишком большой кусок пирога, – мы слишком часто мельтешим перед глазами, нас не остановить, и мы, черт нас всех побери, сожрали слишком большой кусок пирога. Только попади в лапы к евреям, – которые все в преступном сговоре против всего мира, – и тебе каюк. Вот что они думают. Но тайный сговор евреев – это не сговор верховных судей, это заговор Бегиных! Он высокомерен, он неприятен, он бескомпромиссен – он говорит так, что ты и рта раскрыть не сможешь. Он – Сатана. Сатана затыкает вам рты. Сатана никогда не даст делать добро, каждый здесь Билли Бадд![101]101
Билли Бадд — герой одноименного романа американского писателя Германа Мелвилла (1819–1891), повешенный за убийство офицера, которое он не совершал. Символ невинной жертвы.
[Закрыть] А еще есть этот мужик, Бегин, который всегда будет затыкать вам рты и никому не позволит сказать ни слова! Потому что у него имеется ответ на все! В мире не найдется ни одного человека, который бы лучше воплощал в себе всю сущность двуличия, чем этот Менахем Бегин! Он главный специалист в этой области! Он говорит гоим, какие они плохие, и поэтому он сам может измениться и стать плохим! Вы думаете, они ненавидят еврейское суперэго? Нет, они ненавидят еврейское самосознание. Какое право эти евреи имеют на то, чтобы обладать самосознанием? Холокост должен был заставить их навсегда забыть о самосознании! Вот здесь-то у них и начинаются проблемы в первую очередь. Ты думаешь, они считают нас выше себя из-за холокоста? Мне неприятно говорить тебе об этом, Джим, но в лучшем случае они полагают, что немцы, пожалуй, слегка перехватили через край. Они думают: «Не может быть, чтобы они были такие плохие, даже если они все были евреями!» Если кто-нибудь скажет тебе: «Я ожидал большего от евреев», не верь ему. Он ожидал самого худшего. Вот что все они обычно говорят: «Мы хорошо знаем, что вы – свора голодных псов, и если дать вам палец, вы, сукины дети, всю руку откусите. Вы проглотите полмира, не говоря уж о бедной несчастной Палестине. Мы знаем про вас все, и теперь пришла пора поставить вас на место. А как? Каждый раз, когда вы сделаете хоть один шаг, мы будем говорить вам: „Но мы ожидали большего от евреев, мы предполагали, что евреи будут вести себя лучше“. Они предполагали, что евреи будут вести себя лучше? А что такое случилось? Поскольку я всего лишь толстолобая грязная обезьяна, я мог бы подумать, что это им надо срочно улучшить свое поведение. Почему это мы – единственный народ на свете, который целиком входит в эксклюзивный клуб моральных уродов с плохим поведением? Но видишь ли, истина в том, что никто нас не считал хорошими даже до холокоста. Разве не так думал Т. С. Элиот?[102]102
Томас Стернс Элиот (1888–1965) – американский поэт, драматург и литературный критик. Лауреат Нобелевской премии 1948 г.
[Закрыть] Я даже не буду упоминать Гитлера. Это все зародилось не в его крохотном умишке. Как зовут этого героя из стихотворения Т. С. Элиота, этого маленького еврея с сигарой? Скажите нам, Натан, – если вы написали целую книгу, если вы „хорошо известны“ и „напуганы до мозга костей“, вы должны быть в состоянии ответить на этот вопрос. Как зовут того маленького еврея с сигарой из замечательного стихотворения Т. С. Элиота?»
– Блайстайн, – ответил я.
– Блайстайн! Какое замечательное произведение создал Т. С. Элиот! Блайстайн! Великолепно! Ты думаешь, Т. С. Элиот возлагал большие надежды на евреев, Джим? Нет! Никаких надежд он на них не возлагал, если только не самые худшие. Все это тогда просто витало в воздухе: образ еврея с дорогущей сигарой во рту, идущего по головам и причмокивающего толстыми еврейскими губами от удовольствия. Что же они ненавидят? Не еврейское суперэго, дурень ты эдакий, нет! «Не делай этого, это нехорошо!» Нет, они ненавидят еврейское самосознание, говоря: «Я хочу это, и я возьму это», или же они говорят: «Я держу во рту толстую сигару, и, как вы, плевать я хотел на моральные нормы!» Да, но ты не можешь плевать на мораль! Ты – еврей, а еврей, как предполагается, должен быть лучше других. Ты знаешь, что я им говорю на заявление о том, что евреи должны вести себя лучше всех остальных? Я говорю: «Поздновато спохватились, ребята! Вы засовывали еврейских детей в газовые печи, вы разбивали им головы о камни, вы сбрасывали их, как мусор, в траншеи, и после всего этого вы думаете, что евреи должны вести себя хорошо? Как ты думаешь, Джим, сколько еще эти евреи собираются выть, вспоминая свой маленький холокост? А сколько еще все неевреи будут носиться с этим гребаным распятием? Спроси об этом у Т. С. Элиота. Речь не идет об одном-единственном несчастном святом, преданном смерти две тысячи лет тому назад, – я говорю об уничтожении шести миллионов евреев, которые только недавно были среди нас! Блайстайн с сигарой!» Послушайте, Натан, – сказал он, с добродушным юмором оглядывая меня, – если б только сегодня на борту этого самолета с нами был Т. С. Элиот! Я бы ему рассказал все про сигары. И вы бы помогли мне, Натан. Неужели вы, такая крупная фигура в литературе, не помогли бы мне вразумить великого поэта, прояснив ему кое-что насчет еврейских сигар?
– Если бы это было необходимо, – отозвался я.
– Следи за текущими событиями, Джим, – сказал моему соседу энергичный охранник, удовлетворенный словесными построениями в беседе со мной, и снова переключился на короткую образовательную программу, предназначенную в рамках полета для заблуждающегося автора листовки «Хватит вспоминать!»: – Вплоть до тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года евреи не причиняли им беспокойства, пока сидели у себя на своей маленькой исторической родине. До того времени только странные арабы хотели стереть с лица земли это крохотное государство Израиль, к которому все так великодушно относились. Да, евреям исключительно по доброте душевной дали крохотную территорию, которую едва можно найти на карте, – маленький клочок земли, чтобы оправдать собственное чувство вины, и с тех пор каждый хотел уничтожить это государство. Все тогда думали, что каждый еврей, живущий там, – это бедный беспомощный шнук, простофиля, которого нужно поддержать, и пока бытовало такое мнение, все было в порядке. Такой образ еврея, как маленького забитого шнука, всех устраивал: сельскохозяйственный рабочий в коротких штанах со своим трактором, кого он мог обмануть, кого мог испугать? Но вдруг эти двуличные и лживые евреи, эти хитрожопые тихони побеждают трех своих злейших врагов, нанеся им сильнейший удар и наголову разбив их дерьмовые армии за шесть гребаных дней! Они захватывают то и это, идя напролом, и в какой шок они повергают мировую общественность! Какого черта они придуривались все последние восемнадцать лет? Разве мы не беспокоились о них? Разве не проявляли благородство и великодушие? О боже, они снова нас всех провели! А ведь они убеждали нас, что они слабы. И мы предоставили им это гребаное государство! И вдруг оказалось, что они сильны, как все силы ада! Они разгромили все вокруг! А пока суть да дело, этот шнук, этот простофиля – еврейский генерал, вернувшись домой, заважничал. Этот еврейский шнук с генеральскими погонами повторял: «Ну, теперь все гоим вынуждены будут признать нас, потому что они увидели, что мы не слабее их!» ТОЛЬКО ПРАВДА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ СОВСЕМ В ДРУГОМ, как ни крути, вашу мать. Теперь весь мир мог сказать: «Ну конечно, это все тот же старый еврей!» Еврей, обладающий мощью и силой? Еврей, который может вас обвести вокруг пальца? Еврей, который отхватил самый большой кусок пирога? Он стал организованным, он использует свое преимущество, он высокомерен, и он никого и ничего не уважает. Он появляется где хочет в этом проклятом богом мире, у него связи повсюду. И вот именно этого не может простить еврею весь мир, это для всех было, есть и будет невыносимым: Блайстайн! Обладающий силой и властью еврей с еврейским самосознанием, курящий длинную толстую сигару! Настоящее воплощение еврейской мощи!
Но противник еврейского суперэго в тот момент, казалось, пребывал в полной отключке: несмотря на сделанный ему укол, мой сосед истекал кровью, находясь на грани жизни и смерти. В итоге, когда мы подлетели к Израилю и самолет начал круто спускаться вниз, я, возвращавшийся на Землю обетованную голым, в чем мать родила, и прикованным наручниками к креслу небесной птицы – самолета компании «Эль-Аль», оказался единственным слушателем лекции о вселенском проклятии еврейского подсознания и справедливого, плохо скрываемого страха гоим перед запоздалым, но грозным еврейским возмездием.
ГЛОСТЕРШИР
Через год после того как меня посадили на таблетки, я все еще был жив и даже чувствовал себя в неплохой физической форме, и меня больше не мучили карикатурные видения мужских членов в состоянии эрекции или в процессе эякуляции, но вскоре я начал остро ощущать свою потерю, хотя и приучал себя к мысли, что это еще не самое худшее из того, чего я мог бы лишиться, учитывая мой возраст и сексуальный опыт; и когда я уже почти смирился, поняв, что единственный мудрый выход из положения – продолжать жить дальше без того, что у меня всегда было, – появилась искусительница, чтобы подвергнуть глубокому сомнению мое жалкое «приспособленчество» к новым условиям. Если у Генри была Венди, что же осталось мне? Поскольку мне не нужно было, как ему, выносить тяготы семейной жизни или же испытывать страдания из-за позднего вступления в сексуальную жизнь, вампирша-искусительница не могла довести меня до полного разрушения личности. Меня охватывало незнакомое чувство – совсем не то, ради которого я решился бы рискнуть своей жизнью, – это был соблазн, который никогда ранее не поглощал меня с такой силой, желание, таинственно разжигаемое самой нанесенной раной. Если примерный семьянин, нежно любящий свою жену, может умереть за тайно горящее в нем эротическое пламя, я переверну вверх ногами моральные устои: я погибну ради семейной жизни, за право быть отцом.
Я преодолел свои худшие страхи и смятение и снова стал в состоянии поддерживать обычную беседу, развлекая мужчин и женщин разговорами и не думая при этом с горечью, что теперь никуда не гожусь и не смогу никому принести сексуальное удовлетворение, но однажды в соседнюю с моей двухэтажную квартиру в доме из коричневого песчаника въехала женщина, которая и погубила меня. Ей было двадцать семь – она была младше меня на семнадцать лет. У нее были муж и ребенок. Примерно через год после рождения ребенка муж стал постепенно отдаляться от своей хорошенькой жены, и, вместо того чтобы проводить долгие часы в постели, они тратили время на бесконечные препирательства.
– Первые месяцы после рождения ребенка он вел себя просто ужасно. Был так холоден! Бывало, заглянет в комнату и спросит: «А где малышка?» Я для него просто не существовала. Мне было странно, что я больше не привлекаю его, но факт оставался фактом. Я чувствовала себя очень одиноко. А мой муж, когда снисходил до беседы со мной, говорил, что это «нормальные человеческие отношения».
– Когда я встретил тебя, ты висела на ветке, как перезревший плод, мне оставалось только сорвать его.
– Нет, – отвечала она, – я уже упала с дерева и, подгнивая, валялась среди корней.
Она говорит гипнотическим, завораживающим голосом, голосом, который соблазняет меня, тем голосом, чьи нотки ласкают меня, – и этот голос принадлежит телу, которым я не могу обладать. Высокая, очаровательная, физически недоступная Мария, с вьющимися темными волосами, небольшим овальным лицом, удлиненными темными глазами и этими нежными нотками в голосе – сплошь мягкие модуляции тембра с подъемами и падениями, характерными для английской интонации, – застенчивая Мария, которая кажется мне прекрасной, но относится к себе как к «неполноценной мисс», Мария, которую с каждой новой встречей я люблю все больше, пока конец еще не предопределен и я еще не готов повторить судьбу своего брата. А может, я попаду в обитель ужасающей ирреальности? Кто знает.
– Твоя красота ослепительна.
– Да нет, – отвечает она.
– Она меня ослепила.
– Да не может этого быть.
– Нет, правда.
– Ты же знаешь, у меня больше нет поклонников.
– Как так? – спрашиваю я.
– Ты, должно быть, думаешь, что все женщины прекрасны?
– Ты прекрасна.
– Да нет же, ты просто переутомился.
Еще немного такой перепалки – и я говорю ей, что люблю ее.
– Сейчас же перестань говорить мне такие вещи, – произносит она.
– Почему?
– Меня это пугает. И к тому же ты, вероятно, говоришь неправду.
– Ты что, думаешь, я нарочно тебя обманываю?
– Ты не меня обманываешь. Мне кажется, ты одинок и несчастен. Ты не влюблен в меня. Ты просто в отчаянии и ждешь чуда.
– А ты? – спрашиваю я.
– Не надо задавать мне такие вопросы.
– А почему ты никогда не называешь меня по имени? – интересуюсь я.
– Потому что я часто разговариваю во сне, – отвечает она.
– А что ты тогда делаешь здесь, со мной? – спрашиваю я Марию. – Может быть, тебя бесит обязанность приходить сюда?
– Обязанность? Я никому ничего не обязана. Я делаю что хочу.
– Но ты же никак не ожидала, что, после того как я доставил тебе удовольствие, наши отношения будут развиваться подобным образом? Сейчас мы должны были бы заключить друг друга в жаркие объятия.
– Никто ничего никому не должен. Я полагаю, что события могут развиваться по-разному. Так обычно и происходит. У меня никогда не бывает предчувствия, что мне наконец-то выпал долгожданный жребий.
– В твои двадцать семь у тебя все в порядке с предчувствиями, а у меня в мои сорок четыре не все в порядке. Я хочу тебя.
Я едва успел скинуть рубашку, как она, обнаженная, уже легла на постель в соблазнительной позе. Когда нянька забирала ребенка в детской коляске на прогулку, а Мария спускалась ко мне на лифте, я иногда просил ее разыгрывать передо мной подобную сцену. Я говорил своей соблазнительнице, что у нее прекрасная грудь, и она всегда отвечала: «Ты просто льстишь мне. До рождения ребенка я была еще ничего, но теперь, увы, нет».
Она неизменно спрашивала меня, действительно ли я хочу заниматься этим, и с такой же неизменностью я не знал, что отвечать ей. Несомненно, доведение ее до оргазма, в то время как я не снимал штанов, никоим образом не могло облегчить мои муки и утолить желание, – в какие-то дни это было лучше, чем ничего, но в другие – еще хуже. Факт заключался в том, что мы, улизнув от всех жителей дома из коричневого кирпича, как парочка любовников, попирающая все морально-нравственные нормы, большую часть времени проводили в моем кабинете, где просто сидели, предаваясь беседе, после того как я разжигал огонь в камине. Мы всегда разговаривали друг с другом. Сколько сотен часов, проведенных в беседах, понадобилось, чтобы приучить нас к мысли о том, что кое-что отсутствует в наших отношениях? Я духовно обнажался при звуке ее голоса, будто это было ее тело, и пил по капле каждый звук, приносящий мне чувственное удовлетворение. Нет такого изысканнейшего удовольствия, которое нельзя было бы извлечь из слов. Моя чувственность теперь превратилась в фикцию, и – о мщение! – язык и только язык должен был воплотить освобождение от всего. Голос Марии, ее движущиеся губы – ее единственное эротическое орудие.
Однобокость нашего романа приносит невыразимые страдания.
Я говорю ей, напоминая себе Генри:
– Для меня это оказалось самым трудным за всю мою жизнь, – и она отвечает, как бессердечный кардиолог:
– Значит, в жизни ты не встречал никаких трудностей.
– Все, что я хотел сказать, – объясняю я ей, – что из-за этого я испытываю глубочайший стыд, черт побери.
Днем в субботу она заходит ко мне вместе с ребенком. Нянька, юная англичанка, уехала на выходные с экскурсией в столицу, а ее муж, советник английского посла по политическим вопросам в ООН, отбыл в свое представительство для завершения отчета.
– Он у нас большой молодец, – говорит она. – Он любит, когда рядом с ним толпится куча народу и когда много шума вокруг.
Она вышла за него, едва успев закончить Оксфорд.
– Почему так рано? – спрашиваю я.
– Я же сказала тебе, что он – большой молодец. А я, как ты мог заметить, поскольку у тебя хорошо развита наблюдательность, – я очень податлива.
– Ты хочешь сказать «покорна»?
– Давай выразимся иначе: я легко приспосабливаюсь. Слово «покорность» вызывает протест у современных женщин. Лучше скажем, что у меня живой, необыкновенный дар к повиновению недели на две.
Умная, хорошенькая, очаровательная, молодая, несчастная в браке – и к тому же обладающая даром повиновения. Просто идеально. Она никогда не скажет слово «нет», которое спасет мне жизнь. А теперь она привела с собой ребенка – и мышеловка захлопнулась.
Феба одета в короткое шерстяное вязаное платьице, из-под которого вылезает подгузник; большие темные глаза, тонкое овальное личико и вьющиеся темные волосы делают ее очень похожей на Марию. Первые несколько минут она, склонившись над кофейным столиком, с удовольствием разрисовывает цветными карандашами картинку в своей книжке-раскраске. Я даю ей связку ключей – поиграть. «Ключики», – говорит она, звякая ключами перед матерью. Она подходит ближе, садится ко мне на колени и специально для меня называет всех животных в своей раскраске. Мы даем ей печеньице, чтобы она занялась делом и дала взрослым поговорить, но она теряет его, блуждая в одиночестве по квартире. Каждый раз, когда ей хочется дотронуться до какого-либо предмета, она сначала вопросительно смотрит на меня: можно ли?
– У нее очень строгая нянька, – объясняет Мария, – и с этим я ничего не могу поделать.
– Нянька у тебя строгая, – говорю я, – муж – большой молодец, сама ты очень податлива, в смысле «хорошо приспосабливаешься» к обстоятельствам.
– Но ребенок, как ты видишь, совершенно счастлив. Ты знаешь рассказ Толстого, – продолжает она, – который, как мне кажется, называется «Любовь в браке»? Когда проходят благословенные первые пять лет замужней жизни, молодая женщина начинает влюбляться в других мужчин, которые ей кажутся более яркими, чем ее муж, и чуть не разрушает все, что у нее есть. Она спохватывается, пока еще не поздно, и постигает мудрость своего брака с ним, воспитывая ребенка.
Я иду в кабинет, а Феба бежит за мной, выкрикивая: «Ключики!» Я взбираюсь на стремянку, чтобы отыскать сборник рассказов Толстого, пока маленькая девочка направляется в мою спальню. Спустившись с лестницы, я вижу, что она уже забралась на мою кровать и лежит растянувшись на покрывале. Я снимаю девочку с моего лежбища и тащу вместе с книжкой в переднюю часть квартиры.
То, что Мария запомнила как «Любовь в браке», в действительности называется «Семейное счастье». Усевшись рядышком на диване, мы вместе с Марией читаем последний, заключительный отрывок, пока Феба, ползая на коленках, разрисовывает мелками плашки паркета, одновременно писая в свой подгузник. Заметив, что лицо у Марии пылает, я сначала думаю, что она слишком часто наклоняется и снова распрямляется, проверяя, куда делся ее ребенок, но потом соображаю, что удачно передал ей свои собственные, возбуждающие меня мысли.
– Может, тебе и нравится, чтобы кризис длился вечно, – говорит она. – А мне – нет.
Я отвечаю ей тихо, будто Феба может нас подслушать, понять, что тут происходит, и испугаться за свое будущее.
– Ты все неправильно понимаешь. Я хочу положить конец этому кризису.
– Если бы ты не встретил меня, возможно, смог бы позабыть об этом и жить спокойной жизнью.
– Но я же встретил тебя.
Рассказ Толстого заканчивается вот так:
– Однако пора чай пить! – сказал он, и мы вместе с ним пошли в гостиную. В дверях мне опять встретилась кормилица с Ваней. Я взяла на руки ребенка, закрыла его оголившиеся красные ножонки, прижала его к себе и, чуть прикасаясь губами, поцеловала его. Он как во сне зашевелил ручонкою с растопыренными сморщенными пальцами и открыл мутные глазенки, как будто отыскивая или вспоминая что-то; вдруг эти глазенки остановились на мне, искра мысли блеснула в них, пухлые оттопыренные губки стали собираться и открылись в улыбку. «Мой, мой, мой!» – подумала я, с счастливым напряжением во всех членах прижимая его к груди и с трудом удерживаясь от того, чтобы не сделать ему больно. И я стала целовать его холодные ножонки, животик и руки и чуть обросшую волосами головку. Муж подошел ко мне, я быстро закрыла лицо ребенка и опять открыла его.
– Иван Сергеич! – проговорил муж, пальцем трогая его под подбородочек. Но я опять быстро закрыла Ивана Сергеича. Никто, кроме меня, не должен был долго смотреть на него. Я взглянула на мужа, глаза его смеялись, глядя в мои, и мне в первый раз после долгого времени легко и радостно было смотреть в них.
С этого дня кончился мой роман с мужем; старое чувство стало дорогим, невозвратимым воспоминанием, а новое чувство любви к детям и к отцу моих детей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни, которую я еще не прожила в настоящую минуту…
Когда наступает время купать ребенка, Мария обходит квартиру, собирая игрушки и раскраски. Вернувшись в гостиную, она становится рядом с моим стулом и кладет мне руку на плечо. И это все. Феба, кажется, не замечает, как я украдкой целую пальцы на руке ее матери. Я говорю:
– Ты можешь искупать ее здесь.
Она улыбается.
– Умные люди, – говорит она, – никогда не заходят слишком далеко в своих играх.
– А чем это таким особенным обладают умные люди? – спрашиваю я. – В подобных ситуациях это ничему не может помочь.
Уже в дверях на прощание каждая из них посылает мне воздушный поцелуй: сначала ребенок, потом, следуя примеру дочери, ее мать. Потом они заходят в лифт и едут наверх: мой deus ex machina возвращается назад. Вернувшись в свою квартиру, я остро ощущаю запах, исходящий от табуреточки, где сидел ребенок, и вижу отпечатки маленьких пальчиков на стеклянной столешнице кофейного столика. На меня все это воздействует необыкновенным образом: я сам себе кажусь удивительно наивным. Я теперь хочу того, чего никогда не имел как мужчина, и первым в этом ряду оказывается семейное счастье. Почему же сейчас? Какого чуда я ожидаю от отцовства? А может, я представляю себе отцовство как некую фантазию? Как я могу в свои сорок четыре года верить в подобные вещи?
Ночью, в постели, меня начинают терзать тяжелые мысли. Вслух я говорю: «Я знаю все про это! Оставьте меня в покое!»
Под подушкой я нахожу надкусанное Фебой печеньице и съедаю его в три часа ночи.
На следующий день Мария сама закидывает меня вопросами, взяв на себя роль истца. Если я буду заводиться, получая удовольствие от постоянного сопротивления, которое она оказывает мне, не позволяя ее сломить, то это только потому, что ее искренность и прямота – еще один аргумент в мою пользу – и ее ясный, не поддающийся обману ум все больше очаровывают меня. Если бы только я мог считать эту женщину менее привлекательной, я бы не довел себя до ручки.
– Нельзя рисковать своей жизнью ради фантазий, – говорит она мне. – Я не могу бросить своего мужа. Я не могу лишить ребенка отца и не могу лишить его дочери. Всему этому есть только одно объяснение, но, боюсь, ты не вполне понимаешь, что происходит, и это объяснение – наша дочь. Я пытаюсь не думать о ее интересах, но ничего не моту с собой поделать: мысли о ней постоянно лезут мне в голову. Я бы ни за что не поверила тебе, если бы не знала тебя: ты – один из многих американцев, которые считают, что достаточно внести какие-то перемены в жизнь – и катастрофы удастся избежать. И все пойдет как по маслу. Судя по моему опыту все действительно может быть в полном порядке, но вот проходит какое-то время, и конец оказывается печальным. Посмотри на свои собственные браки: каждый был для тебя тихой заводью, но ни один не продержался дольше шести-семи лет. Ничего не изменится, если ты женишься на мне, если, конечно, я захочу этого. Что ты знаешь о браке? Тебе не понравится, когда я буду ходить беременная. У меня так уже было в прошлый раз. Беременные женщины – это табу.
– Чепуха.
– Я это говорю тебе по своему опыту. И не только по своему. Страсть угасает так или иначе. Общеизвестно, что никакая страсть невозможна, если семейная жизнь превращается в тихую заводь. Ты не хочешь иметь детей. Трижды ты имел возможность завести ребенка. Трем прекрасным женщинам ты сказал «нет». Понимаешь ли, ты не очень-то хорошая партия.
– А кто для тебя хорошая партия? Твой муж этажом выше?
– Ты в своем уме? Что-то я сомневаюсь. Конечно же, можно обезуметь, если всю жизнь посвятить творчеству.
– Так и есть. Но больше я не желаю тратить свою жизнь на создание романов. Много лет тому назад самым важным для меня было сочинительство. А все остальное подчинялось главной задаче. Когда я был моложе, то считал унизительным для писателя думать о чем-то еще, кроме творчества. Теперь, когда я стал приверженцем обычной жизни, я бы даже не был против, если бы кто-нибудь слегка замарал мою репутацию. Я понимаю, что исписался, вычеркнув себя из настоящей жизни.
– А теперь ты хочешь вписаться в нее снова? Я не верю ни единому твоему слову. У тебя дерзкий и непокорный ум. Тебе нравится считать, что оказанное тебе сопротивление только прибавляет очков в твою пользу. Любая оппозиция определяет твое решение. Ты бы скорее всего никогда не написал столько книг про евреев, если бы евреи настойчиво не просили тебя не делать этого. Ты хочешь завести ребенка только потому, что не можешь иметь детей.
– Уверяю тебя, что я хочу ребенка по таким же естественным причинам, как и любой другой. Никакого извращения в этом нет.
– А почему ты выбрал меня для своего эксперимента?
– Потому что я тебя люблю.
– Опять это ужасное слово. Ты «любил» дую из своих жен до того, как женился на них. Разве теперь хоть что-то изменилось? И конечно же, для «любви» тебе не нужна именно я. Я необыкновенно консервативна. Ты льстишь мне, но, видишь ли, рядом с тобой сейчас вполне могла бы быть какая-нибудь другая женщина.