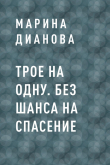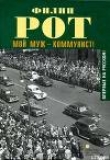Текст книги "Другая жизнь"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
Рут с опрокинутым лицом подошла к дяде и взяла его под руку.
– Ну как ты? – спросил он племянницу. – Нормально?
– Знаешь, о чем я все время думаю? Когда мои одноклассники будут говорить о своих родителях, я смогу сказать только «моя мама».
– Ты тоже сможешь сказать «мои родители», говоря о них во множественном числе. Тебе тринадцать лет, и ты всю свою жизнь прожила вместе с ними, и с отцом, и с матерью. И все, что связывало тебя с Генри, навеки останется с тобой. Он всегда будет твоим отцом.
– Дважды в год папа возил нас за покупками в Нью-Йорк, только нас, без мамы. Он любил устраивать нам праздник. Только он и мы, его дети. Сначала мы отправлялись за покупками, а потом ехали в отель «Плаза» и обедали в Пальмовом зале, где музыканты играли на скрипке.
Правда, играли они так себе. Мы каждый год ездили туда, один раз осенью, и один – весной. А теперь маме все придется делать одной – и за себя, и за папу. На нее ляжет двойная нагрузка.
– Ты думаешь, она справится?
– Еще бы! Конечно справится! Может быть, она снова выйдет замуж. Ей нравится жить при муже. Надеюсь, она это обязательно сделает. Но только если мама найдет человека, который будет относиться к нам так же хорошо, как она.
Продукты для поминок доставил местный поставщик, и он же помог накрыть на стол, установленный на патио под навесом, пока в синагоге шло прощание; в комнатах то там, то здесь были разбросаны складные стульчики, взятые напрокат в похоронном бюро. Несколько девочек из волейбольной команды Рут, отпросившиеся с тренировки в школе, чтобы помочь Цукерманам, убирали со стола грязные пластиковые тарелки и наполняли сервировочные блюда новыми порциями еды, принесенной из кухни. А Цукерман тем временем отправился искать Венди.
Именно Венди, испугавшись, что Генри теряет рассудок, предложила выбрать Натана в наперсники. Кэрол же, полагая, что Натан больше не имеет никакого влияния на брата, настоятельно требовала, чтобы Генри обратился к психотерапевту. И вот каждое субботнее утро по целому часу – до этой ужасной поездки в Нью-Йорк – он занимался лечением: приезжал к врачу и со всей откровенностью и прямотой рассказывал о своей безумной страсти к Венди, притворяясь, что говорит о Кэрол, и описывал ее как самую раскованную, самую изобретательную сексуальную партнершу на свете, о которой можно только мечтать. В результате этих долгих, многозначительных бесед о браке, донельзя увлекших психотерапевта, Генри впал в еще большую депрессию, потому что все, о чем он говорил, было жестокой пародией на самого себя. Кэрол была уверена, что до ее звонка, когда она сообщила Натану о смерти брата, тот даже не подозревал о болезни Генри. Скрупулезно исполняя желание брата, Цукерман прикидывался немым в разговоре с Кэрол по телефону, – это была акция, граничащая с абсурдом, поскольку она только усугубила шок и сделала ясным тот факт, что Генри оказался абсолютно несостоятельным в принятии хоть какого-нибудь рационального решения с того самого момента, как на его долю выпало тяжкое испытание. Еще на кладбище, когда дети Генри, окружившие могилу, пытались выдавить из себя несколько слов, Цукерман нашел наконец причину, почему он удерживал своего брата от операции: Генри сам хотел, чтобы его остановили. Наверно, Генри цеплялся за последнюю соломинку, придя к брату в надежде, что Натан сядет рядом с ним и выслушает его доводы с серьезным лицом – доводы, оправдывающие желание лечь на столь опасную операцию, доводы, порожденные сладострастием, превратившимся в маниакальную идею, – ситуация, которую старший брат представил как фарс в романе «Карновски». Генри ожидал, что Натан будет смеяться над ним. Ну конечно! Он ведь приехал из Джерси, чтобы признаться писателю, потешающемуся над всем миром, в нелепости своей дилеммы, а вместо этого услышал вялые слова утешения от брата, который был уже не в состоянии ни дать ему разумный совет, ни хотя бы нанести оскорбление. Он пришел в квартиру к Натану с одним желанием, чтобы брат сказал ему, насколько ничтожны его помыслы о губах Венди по сравнению с заведенным порядком жизни зрелого мужчины, а вместо этого писатель, выворачивающий наизнанку сексуальные отношения, сидел и тупо слушал его. Импотенция, думал Цукерман, привела его к тому, что он не видел для себя будущего. Пока он обладал мужской силой, он мог бросить вызов любому, он мог рисковать, ничего не опасаясь, и не только в спорте, но и в семье, где отношения были надежными и крепкими; пока он обладал потенцией, жизнь его не давала трещину – он прекрасно лавировал между рутиной обыденности и табу. Но без потенции он считал себя приговоренным к жизни в коконе, где все вопросы решены раз и навсегда.
Ничто не могло объяснить это лучше, чем история о том, как Генри, по его собственному признанию, стал любовником Венди. Совершенно очевидно, что с первого момента, как она пришла к нему в кабинет на собеседование и он закрыл за ней дверь, каждая реплика, которыми они обменивались, побуждала его к продолжению отношений.
– Привет, – сказал он, пожимая ей руку. – Я слышал столько хорошего о вас от доктора Векслера! И теперь, когда я вижу вас, мне кажется, что вы еще лучше, чем мне рассказывали. Вы просто сбиваете меня с толку своей красотой.
– Ну-ну, – усмехнулась она, – может, тогда я вам подойду.
Генри было приятно, что она сразу же почувствовала себя легко и свободно в его присутствии; он также был рад, что сразу же почувствовал легкость и свободу рядом с ней. Ему не всегда это удавалось. Несмотря на полное взаимопонимание со своими пациентами, он иногда вел себя по-смешному закованно с незнакомыми людьми, – к примеру, когда он проводил с кем-нибудь собеседование по поводу приема на работу, мужчина то был или женщина, ему часто казалось, что именно он, а не кто другой пришел наниматься на работу и отвечать на вопросы нужно ему самому. Но в женщине, заглянувшей к нему в кабинет, было что-то говорящее об уязвимости ее натуры, и ее маленькие соблазнительные груди всколыхнули в нем желание, придав ему смелости, хотя, если быть точным, никакое проявление смелости по отношению к женщине в то время ему было совсем не нужно. И дома, и на службе дела у него шли неплохо, и приключение с едва знакомой женщиной было явно лишним в его нынешней жизни. И все ж, – может, потому, что в тот момент он чувствовал себя на коне, – он не смог обуздать свою природу: имея твердую уверенность в своей мужской притягательности, он сразу же понял, что она попалась к нему в сети. В те дни он походил на кинозвезду, изображающую некоего героя – неважно какого, но грандиозного по масштабу. Так зачем подавлять в себе желания? Прошло то время, когда он чувствовал себя жалким идиотом.
– Присаживайтесь, – сказал он. – Расскажите мне о себе и ответьте на вопрос, чем бы вы хотели заниматься.
– Чем бы я хотела заниматься? – Должно быть, кто-то посоветовал ей повторять вопрос доктора, если ей потребуется время для обдумывания правильного ответа, наверняка приготовленного заранее. – Я многое хочу делать. Зубоврачебной практикой я начала заниматься под руководством доктора Векслера. Он такой замечательный! Настоящий джентльмен!
– Да, он славный парень, – согласился Генри, почти невольно размышляя о дьявольском избытке самоуверенности и мужской силы, и пока эта сила не иссякла, он еще может показать ей, что по-настоящему значит быть замечательным.
– У него в кабинете я много чему научилась.
Он мягко подбодрил ее:
– Расскажите мне все, что вы знаете.
– Что я знаю? Я знаю, что стоматолог прежде всего должен выбрать метод лечения. Конечно, пломбировка зубов – это бизнес, и вы должны позиционировать себя на рынке услуг, но все же вы вторгаетесь в чрезвычайно интимную область. Вы имеете дело с полостью рта и должны понимать, как чувствуют себя люди, пришедшие на прием к врачу, и что они думают о своей улыбке.
Полость рта входила в сферу его интересов, точно так же как и ее, – но несмотря на то, что они разговаривали на профессиональные темы, беседа шла при закрытых дверях; стоял конец рабочего дня, и юная стройная блондинка, пришедшая наниматься к нему на работу, показалась ему необыкновенно соблазнительной. Он вспомнил голос Марии, говорящей ему, как прекрасен его фаллос: «Я засовываю руку к тебе в штаны и удивляюсь, какой он большой, круглый и крепкий». «Ты так здорово им владеешь, – восхищалась нередко она, – особенно хорошо это было в последний раз. Лучше тебя нет никого на свете, Генри».
Если бы Венди встала со своего места и, подойдя к столу, засунула руку ему в штаны, она сразу бы поняла, о чем говорила Мария.
– Рот, – повторила Венди, – это самый интимный орган из всех, с которыми имеют дело врачи.
– Вы одна из немногих, кто это понимает, – отозвался Генри. – Вы это знаете?
Когда Генри заметил, что от комплимента девица зарделась, он перевел беседу в более опасное и двусмысленное русло, прекрасно осознавая, что ни один человек, случайно подслушавший их разговор, не сможет обвинить их в том, что они разговаривали на темы, не относящиеся к сфере стоматологии. Хотя, впрочем, их некому было подслушивать.
– Скажите, – спросил он, – а что вы думали об этом год назад? Воспринимали свой рот как нечто данное вам природой?
– Наверно, да, если сравнить мои старые представления с тем, что я думаю про это сейчас. Конечно, я всегда заботилась о своих зубах, о том, чтобы у меня была красивая улыбка…
– Значит, вы заботились о свой внешности, – с одобрением вставил Генри.
Улыбаясь, – a у нее была хорошая улыбка, свидетельствующая о ее невинности и детской непосредственности, – она радостно подхватила брошенный ей мяч:
– Ну конечно, я забочусь о своей внешности, но раньше я не предполагала, что лечение зубов связано с очень тонкой областью человеческой психики.
Говорила ли она это, чтобы немного охладить его пыл, или же вежливо просила отступить, обороняя свой рот? Может быть, она была совсем не так невинна, как показалось ему на первый взгляд? Но это еще больше возбуждало его.
– Расскажите мне побольше о том, что вы думаете о своей работе, – попросил Генри.
– Ну так вот. Как я уже говорила, то, что ты думаешь о своей улыбке, есть прямое отражение того, что ты думаешь о себе и о том, каким ты предстаешь перед людьми. Я думаю, личность человека формируется не только благодаря хорошим зубам, но и благодаря всему остальному, что с ними связано. В кабинете стоматолога вы имеете дело именно с пациентом, а не только с его ртом, хотя вам может показаться, что вы занимаетесь исключительно его зубами. Что можно сделать, чтобы пациент остался довольным, когда ты занимаешься его ртом? Когда вы говорите о косметике в стоматологии, вот тут-то и начинается настоящая психология. У нас с доктором Векслером иногда возникали проблемы с отдельными пациентами, которые приходили к нам делать зубные коронки, но при этом хотели, чтобы мы сделали их белыми-белыми, а белый совершенно не сочетался с их собственными зубами, то есть с цветом эмали. И нам приходилось убеждать их, чтобы они поняли, каким должен быть естественный цвет зубов. Мы им говорили примерно следующее: «Вы хотите иметь идеальную улыбку. Но не можем же мы взять неизвестно откуда эту идеальную улыбку и приклеить ее к вашим губам?»
– И сделать вам новый рот, – подхватил Генри, помогая ей закончить мысль, – который бы идеально подходил вам, и всем бы казалось, что он был вашим с самого начала.
– Именно так, – согласилась Венди.
– Я хочу, чтобы вы работали у меня.
– Как здорово!
– Думаю, мы с вами поладим, – заключил Генри и, пока его слова не были поняты в ином смысле, быстро перешел к другой теме, развернув перед своей юной ассистенткой целый ряд новых идей, будто выказывая крайне серьезное отношение к лечению; он старался обуздать себя, прежде чем она уловит в его словах намек на нечто непристойное. Он перестраховался. – Большинство людей, как вы уже знаете, даже не думают, что рот – это часть тела. Или что зубы – тоже часть тела. Они сознательно игнорируют этот факт. Рот – это провал, рот – это ничто, просто дыра. Большинство людей, в отличие от вас, никогда не смогут объяснить, что для них значит их рот. Если они боятся зубного врача, это означает, что в прошлом они испытали ужас от посещения стоматолога, но прежде всего они испытывают страх из-за высокой значимости этого органа. Всякий, кто прикасается к нему, либо захватчик, либо помощник. Очень трудно заставить пациента думать, что ты, вторгшийся в святая святых, не завоеватель, а человек, желающий ему только добра, готовый протянуть руку помощи, – для меня это сродни сексуальному опыту. Для большинства рот – это тайна, секретное место, убежище. Такое же, как гениталии. Вы, должно быть, помните, что эмбриологически рот связан с гениталиями.
– Я это проходила.
– Правда? Отлично. Тогда вы обязаны знать следующее: люди хотят, чтобы вы нежно обращались с их ртом. Нежность в нашем деле – самое важное требование. По отношению к пациенту любого типа. И как ни удивительно, мужчины в этом плане более уязвимы, чем женщины. Особенно когда им приходится удалять зуб. Потому что потеря зуба для мужчины – тяжкое испытание. Зуб для мужчины – это мини-пенис.
– Я даже не представляла себе этого… – пробормотала она, но, казалось, ее ни капли не смутило это сравнение.
– Пошли дальше. А что вы думаете о сексуальности беззубого мужчины? Сохранится ли у него былая самоуверенность? Что он думает об этом, с вашей точки зрения? У меня был один такой пациент, очень большая шишка. У него не осталось ни одного своего зуба, но зато была очень юная подружка. Он не хотел, чтобы она знала про его вставные челюсти, потому что это значило бы, что она – молодая девушка, а он рядом с ней – глубокий старик. Она была примерно вашего возраста. Сколько вам? Двадцать один?
– Двадцать два.
– Ну а ей был двадцать один год. Итак, я поставил ему имплантаты вместо вставных челюстей, и он был счастлив, и она была счастлива.
– Доктор Векслер всегда говорит, что наибольшее удовлетворение приносит успех от выполнения безумно трудной задачи, которая заранее была обречена на провал.
Трахал ли ее доктор Векслер? Генри на протяжении всей своей практики не позволял себе ничего, кроме легкого флирта, – он не переходил границ дозволенного ни с одной из своих ассистенток, какого бы возраста они ни были: такое поведение было бы не только непрофессионально, но и отвлекало бы его от дела, что могло бы окончиться для него как лечащего врача полным крахом. Он понимал, что ему не следовало нанимать ее на работу: он был слишком импульсивен, а теперь еще более усугубил свое положение беседой о мини-пенисах, от которой его охватило неистовое желание и восстал, отвердевая, член. Удача не оставляла его все последние дни, и поскольку все складывалось отлично, он уже не мог остановиться. Он осмелел. Ну что с ним может случиться? Стопроцентно уверенный в себе, Генри даже подумать не мог о провале.
– Вы не должны забывать о том, что рот – это орган, через который к нам приходит наш первый опыт… – Он шел напролом, пристально глядя на нее.
Тем не менее прошло около полутора месяцев, прежде чем он поборол свои сомнения, касающиеся не только перехода за границу дозволенного, о чем он думал еще во время собеседования, но и ее увольнения, несмотря на то что она великолепно справлялась со своими обязанностями. Все, что он рассказывал Кэрол о своей новой ассистентке, было правдой, даже если для него это звучало как самое прозрачное объяснение причин, по которым Венди оставалась у него. «Она внимательная и чуткая, она очень мила и нравится пациентам, она умеет разговаривать с ними и тем самым оказывает мне огромную помощь: благодаря ее заботам я могу сразу приступить к работе, как только вхожу в кабинет. Эта девочка, – говорил он Кэрол, – экономит мне два-три часа каждый день».
Затем, однажды вечером, после работы, когда Венди убирала инструменты с его подноса, а Генри, как и положено, мыл руки, он повернулся к ней и, не зная, как найти выход из сложившейся ситуации, принялся хохотать.
– Послушайте, – сказал он, – давайте сыграем в игру. Притворимся, будто вы – моя ассистентка, а я – зубной врач.
– Но я и есть ваша ассистентка! – возразила Венди.
– Знаю, – ответил он. – И знаю, что я – зубной врач. Но давайте все-таки сыграем в игру «врач и его ассистентка».
– Так мы и сделали, – рассказывал Генри Натану.
– Ты, конечно, играл роль зубного врача, – предположил Натан.
– А как ты думаешь? – откликнулся Генри. – Она притворилась, что ее зовут Венди, а я притворился, что меня зовут доктор Цукерман, и мы оба разыграли сцену, будто мы оба находимся в стоматологическом кабинете. А затем мы притворились, будто мы трахаемся, и мы действительно начали трахаться.
– Весьма интересно, – заметил Цукерман.
– Знаешь, это было дико и нелепо, но от этого мы сделались как безумные, – ничего более идиотического и странного я не вытворял в своей жизни. Мы занимались этим несколько месяцев, войдя в роль врача и ассистентки, и она без устали повторяла: «Почему мы так возбуждаемся, когда делаем вид, что мы врач и ассистентка, если мы и взаправду врач и ассистентка?» Боже, как это было здорово! Она оказалась такой горячей!
Что ж, теперь все эти резвые игры остались позади, и больше никогда не будет того веселого озорства с превращениями «того-кто-ты-есть» в «не-того-кто-ты-есть» или «того-что-могло-бы-быть» в «то-что-было», – теперь осталось лишь мертвенно-суровое «то-что-есть». Этот успешный, энергичный человек никого на свете так не любил, как свою маленькую Венди, работавшую у него под боком, а Венди никогда не испытывала большего удовольствия, называя своего любовника доктором Цукерманом; она молода, она сексуальна, она в его кабинете, а он – ее босс, она всегда видит его в белом халате: он врач, обожаемый пациентами; она видит его седеющую жену с тремя детьми, которых та, крутя баранку, везет куда-то на своей машине; и пока еще его любовница не задумывается о своей талии, имеющей в обхвате всего двадцать дюймов и сулящей ему небесное блаженство. Да, встречи с Венди были для Генри сродни искусству; его кабинет, задержки после работы, супружеская измена и импотенция, думал Цукерман, были похожи на жизнь, прожитую актером на сцене во время спектакля, когда он умирает каждый раз навек. Генри перераспределил роли в своей жизни, предпочтя искусство ответственности, – к сожалению, к тому времени его окончательно заела рутина, отчего ему требовались все более долгие передышки, чтобы выжить. Он впустую растратил свой талант ради прозы обыденности, в которой он замкнул себя на всю жизнь. Цукерман испытывал безграничную горечь, думая о Генри: ну почему, почему я вел себя так глупо? Почему я вовремя не остановил его?
Оказавшись на пороге гостиной, он с трудом протиснулся сквозь толпу родственников, принимая на ходу их соболезнования, слушая воспоминания о Генри, отвечая на вопросы о том, где он сейчас живет и что пишет в настоящее время. Наконец ему удалось добраться до кузины Эсси, его любимой родственницы, которая когда-то была источником энергии для всей семьи. Она сидела на складном стуле рядом с камином, положив трость себе на колени. Шесть лет назад, когда он встретился с ней на похоронах своего отца во Флориде, у нее был новый муж – престарелый любитель игры в бридж по имени Метц, которого она пережила; тогда Эсси весила фунтов на тридцать меньше и ходила без палки. Сколько он ее помнил, она всегда была грузной дамой бальзаковского возраста; со временем она стала еще толще и превратилась в старуху, но дух ее, казалось, ничто не могло сокрушить.
– Что ж, ты потерял брата, – вздохнула Эсси, когда Цукерман склонился над ней, чтобы поцеловать в щеку. – А ведь когда-то я возила вас в Олимпик-парк. И вы вместе с моими мальчиками катались на каруселях. В шесть лет Генри был точная копия Уэндела Уилки[9]9
Уэндел Льюис Уилки (1892–1944) – американский юрист. В 1940 г. проиграл в президентской кампании Франклину Делано Рузвельту.
[Закрыть], с его копной черных как смоль волос. В те годы этот мальчуган просто боготворил тебя.
Они должны переехать в Базель: Юрген решил вернуться домой. Мария плачет без остановки.
«Теперь я снова стану хорошей женой и хорошей матерью!»
Через полтора месяца – Швейцария, и у нее останутся только две банкноты как вещественное доказательство того, что это было на самом деле.
– Правда?
– Боже мой, да он бегал за тобой как собачонка. Вы не расставались ни на минуту.
– Теперь нам пришлось расстаться. Мы здесь, в его доме, а Генри там, на кладбище.
– Давай не будем говорить о покойниках, – попросила Эсси. – Когда я гляжусь в зеркало по утрам, я вижу всю свою семью, которая смотрит на меня с той стороны. Я вижу лицо моей мамы, вижу сестру и брата, тех, кого уже нет с нами, – все они отражаются в моей уродливой старой роже. Лучше уйдем отсюда, поболтаем наедине. – И после того, как он помог ей подняться со стула, кузина покинула гостиную, переваливаясь с боку на бок, как древняя колымага со сломанной осью. Цукерман двинулся вслед за ней.
– Что ты хотела мне сказать? – спросил Цукерман, когда они оказались в прихожей.
– Если твой брат умер ради того, чтобы спать со своей женой, то он, наверно, уже в раю, слушает ангельские голоса, Натан.
– Ты же знаешь, он всегда был примерным ребенком, Эстер. Он был самым образцовым сыном на свете, самым образцовым отцом и, если судить по его поступкам, – самым образцовым мужем.
– Если тебя послушать, получается, что он – самый образцовый шмук[10]10
Старый хрен, мудак (идиш).
[Закрыть] из всех шмуков на свете.
«А как же дети, родственники? У папы будет удар. И как я смогу заниматься стоматологией в Базеле?» – «А зачем тебе переезжать в Базель?» – «Потому что ей там нравится. Она говорит, что я – это единственное, что примиряет ее с Саут-Оранж[11]11
Небольшой город в округе Эссекс, штат Нью-Джерси, США.
[Закрыть]. В Швейцарии она у себя дома». – «В мире есть много местечек похуже, чем ее Швейцария». – «Тебе легко говорить…» После этого я не сказал больше ни слова – я только вспомнил, как она сидела на нем верхом в своей черной шелковой сорочке, витая над ним где-то высоко-высоко, как шишечки на кроватных столбиках в его детстве.
– Не думаю, чтобы это было так шмуково, когда ты становишься импотентом в тридцать девять и имеешь все основания полагать, что это уже навек.
– Лежать на кладбище – это тоже навек.
– Он хотел жить, Эсси. Иначе он никогда не пошел бы на это.
– И все ради своей прекрасной женушки.
– Это уже совсем другая история.
– Мне больше нравятся истории, которые сочиняешь ты.
Мария говорит ему, что тот, кто остается, страдает даже больше, чем тот, кто уезжает. Потому что каждый уголок напоминает о былом.
Вслед за ними по лестнице спустились двое пожилых мужчин, которых Цукерман не видел очень долгое время: Герберт Гроссман, единственный европейский эмигрант из всей семьи Цукерманов, и Шимми Кирш, которого отец Натана наградил прозвищем «наш кузен Неандерталец»: возможно, он был самым большим недоумком из всего семейства. Но поскольку он также являлся самым богатым представителем этого семейства, приходилось задумываться, не стала ли его глупость весьма ценным качеством; наблюдая за его успехами, родственники начали полагать, что энергия, с которой он рвался вперед, и его жизнелюбие вовсе не были проявлением глупости. Когда-то он был человеком исполинского телосложения, и хотя его силища была уже тронута коррозией возраста, а изрытое глубокими морщинами лицо несло на себе отпечаток физического и умственного напряжения, Натан узнал его: он был тем самым человеком, чей облик был ему знаком с раннего детства: неприступное ничтожество гигантских размеров, занимавшееся оптовыми продажами, алчный сын одного из семейств, принадлежащих к старинному роду, который не дрогнет ни перед чем, хотя и держится, к счастью для общества, в рамках, если не сказать в рабстве, самых примитивных табу. Для отца Цукермана, уважающего себя мозольного оператора, жизнь была борьбой: он поднялся из пропасти нищеты, в которую был ввергнут его отец-эмигрант; отец Натана сделал это не только ради себя, желая улучшить условия своей жизни, – в конечном итоге он хотел спасти каждого, как этакий семейный мессия. Шимми не видел необходимости в том, чтобы прилежно исправлять свое прошлое. Он также не желал без нужды фальсифицировать свою биографию. Вся его стойкость сводилась к тому, чтобы оставаться тем, кем он был с самого рождения, – Шимми Киршем. Никаких вопросов, никаких оправданий, никакой чуши вроде «кто я такой?», «что я такое?» или «куда это я попал?», ни грана сомнения или хотя бы малейшего импульса, чтобы выделиться из общей серой массы в нем не наблюдалось; скорее он был человеком, который, как многие его сверстники, что принадлежали к поколению, вышедшему из старых еврейских трущоб Ньюарка[12]12
Крупнейший город штата Нью-Джерси и административный центр округа Эссекс.
[Закрыть], впитал в себя дух оппозиционерства, одновременно оставаясь в полном согласии с приземленностью жизненных устоев.
В те далекие дни, когда Натан влюбился в алфавит и по слогам пробивался к первенству, желая стать лучшим в школе, из-за этих Шимми к нему в душу закралась крамольная мысль: зачем быть таким чудаком, когда он слышал, что можно, ничего не делая и не прилагая никаких умственных усилий, добиться успеха и победить всех своих соперников, как это делали они? В отличие от его замечательного отца, который, выбрав нелегкий путь к профессионализму, пошел учиться на вечерние курсы, эти нудные, банальные и заурядные Шимми, проявляя всю беспощадность ренегатов, вгрызались острыми зубами в плоть новой жизни и отрывали от нее кусок за куском; за ними всегда тянулся кровавый след, и все остальное теряло свою значимость и меркло рядом с сочащимся алыми каплями мясом, зажатым у них между зубами. Они были начисто лишены всякой мудрости; они были самодостаточны, и, что было очевидно, им было нечего предъявить, кроме грубой мужской силы, но, черт побери, используя лишь эту силу, они продвинулись достаточно далеко. В их жизни тоже случались трагедии, они переживали потери, и, конечно же, они не были такими толстокожими, чтобы даже не переживать из-за своих утрат. Они могли стерпеть, если дать им дубинкой по голове, – это тоже входило в их профессию, так же, как и самим бить других по голове. Суть была в том, что ни боль, ни страдания не могли остановить их даже на полчаса; они с легкостью преодолевали эти препятствия – так сильно было в них желание жить. Они никогда не колебались, принимая решение, у них напрочь отсутствовало ощущение бессмысленности существования или отчаяние, свойственное всем смертным, поэтому у многих возникало искушение отнести этот клан к нелюдям, хотя они были теми особями, которых нельзя было отнести ни к какому другому виду, кроме человеческого, – каждый из них был таким, каким по своей сущности и является человек. И если отец Цукермана целеустремленно пытался взрастить в себе лучшее из того, что представляет собой человечество, семейство Шимми всегда оставалось лишь хребтом человеческой расы.
Шимми и Гроссман были заняты обсуждением текущей внешней политики Израиля.
– Надо их всех разбомбить, – резко произнес Шимми. – Разбомбить этих сукиных детей арабов к чертовой матери, чтобы они и пикнуть не успели. Они снова хотят таскать евреев за бороды? Лучше умереть, чем позволить им это.
Эсси, хитрая, сообразительная и уверенная в себе, наделенная совершенно иными способностями к выживанию, сказала ему:
– Ты знаешь, почему я даю деньги Израилю?
Шимми взметнулся:
– Ты? Да ты никогда в жизни не расстанешься даже с десятицентовиком!
– Так знаешь почему? – спросила она, поворачиваясь к менее циничному Гроссману.
– Ну и почему же?
– Потому что в Израиле можно услышать самые лучшие антисемитские анекдоты. В Тель-Авиве антисемитские анекдоты намного смешнее, чем на Коллинз-авеню.
После обеда Г. возвращается в свой кабинет, – полно работы в лаборатории, говорит он Кэрол. Сидит там весь вечер, читая «Швейцарию» Фодора и пытаясь сосредоточиться. «Базель – это город с уникальной атмосферой, где Средневековье удивительным образом сочетается с современностью, где традиции в архитектуре сосуществуют с новыми веяниями и модерном. Величественные старинные здания соседствуют с новаторскими постройками, а широкие магистрали незаметно вливаются в лабиринт древних улочек…» Он думает: «Какая сокрушительная была бы победа, если бы я смог уехать отсюда, покончив со всем этим раз и навсегда!»
– Три года назад мы были там с Метцом, – продолжала Эсси. – Мы ехали на такси из аэропорта в гостиницу. И вот водитель такси, израильтянин, оборачивается к нам и говорит по-английски: «Вы ответьте на вопрос: для чего еврею нос?» «Ну и для чего?» – переспрашиваю я. «Чтоб дышать из года в годы даром воздухом свободы». Я сразу же, на том самом месте, выписала чек на тысячу баксов для Ю-Джи-Эй[13]13
UJA (United Jewish Appeal Maryxmas) – общественная организация «Объединенный еврейский призыв».
[Закрыть].
– Да ладно тебе, – хмыкнул Шимми, – кому удавалось вытащить из тебя хоть пятицентовик?
Я спросил ее, бросит ли она своего Юргена. А она просила меня, чтобы я первым сказал, брошу ли я свою Кэрол.
Герберт Гроссман, чье восприятие жизни исключительно в черных тонах стало притчей во языцех, начал пересказывать Цукерману последние дурные новости. Пессимизм Гроссмана выводил отца Цукермана из себя так же, как и глупость Шимми, хотя, пожалуй, Гроссман был тем единственным человеком, относительно которого мозольный оператор Цукерман вынужден был прийти к заключению, что бедняга ничего не может с собой поделать. Каждый, полагал мозольный оператор Цукерман, способен изменить в себе что угодно, если будет упорно тренировать силу воли: и алкоголики, и неверные супруги, и страдающие бессонницей, и убийцы, и даже заики. Но поскольку Гроссману пришлось бежать от Гитлера, у него напрочь отсутствовала сила воли. Несмотря на старания Цукермана, который проводил с ним сеансы каждое воскресенье, воспитывая в нем мужество, ничего не получалось. Настроившись на победу, неделю за неделей Цукерман бодро вставал из-за стола после обильного завтрака, объявляя семье: «Пора звонить Герберту!», но через десять минут уже возвращался на кухню, потерпев сокрушительное поражение, и тогда бормотал себе под нос: «Бедняга. Он ничего не может с собой поделать». Во всем виноват Гитлер, – у него не было другого объяснения. Мозольный оператор Цукерман просто был не в состоянии понять того, кто не жил в Америке все эти годы.
Для Натана Герберт Гроссман был деликатным, уязвимым человеком, евреем-беженцем; если слегка перефразировать знаменитую фразу Исаака Бабеля на современный лад, он был тем, у кого на носу очки, а в душе – электромоторчик. «Все волнуются из-за Израиля, – говорил ему Гроссман. – А вы знаете, из-за чего таки волнуюсь я? Я волнуюсь из-за того, что происходит здесь, в Америке. А здесь происходит нечто ужасное. Я чувствую себя, как в Польше в тысяча девятьсот тридцать пятом. Нет, не из-за антисемитизма. Он всегда был и будет. Меня тревожит преступность, беззаконие и то, что люди начали всего бояться. А деньги? Все продается и все покупается, и деньги теперь единственное, что ставится во главу угла. Молодежь впадает в отчаяние. Это наркотики приводят их к отчаянию. И кому дело до хороших поступков, если все пребывают в глубоком отчаянии?»