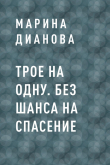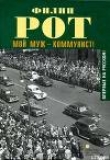Текст книги "Другая жизнь"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
– Из того, что я слышал, вполне может быть. Но скажи мне, кого он тебе напоминает? – спросил я. – Кого из тех, кого мы знаем?
– Ах нет. Уволь. Оставь психоанализ для великого американского народа. – Измученным голосом он добавил: – Пощади меня.
– Знаешь, мысль об этом не выходит у меня из головы. Если вынести за скобки всю его агрессивность и задиристость, все актерство и напористость речи, ты снова окажешься за кухонным столом в Ньюарке, где наш отец произносил пламенные речи об исторической борьбе между гоим и евреями.
– Если можно, расскажи мне что-нибудь кроме того, что написано в твоих книгах, ведь то, к чему ты отсылаешь, не умещается в рамки воспоминаний о кухонном столе в Ньюарке.
– Кухонный стол в Ньюарке – это и есть основа твоей еврейской памяти, Генри, это то, на чем мы выросли. Липман для тебя – это отец, хотя на сей раз он не ведает сомнений, у него нет скрытой почтительности к гою и нет страха, что гой будет над ним издеваться. Это отец, но вымышленный тобой отец, супермен, которому ты при писал его могучую силищу. И самое приятное заключается в том, что Липман позволил тебе перестать вести себя как паинька. Должно быть, для тебя это стало освобождением, после стольких-то лет страданий: ты можешь быть хорошим сыном, но не паинькой, ты можешь быть крутым, оставаясь евреем. В этом вся суть. Таких евреев не было в нашей среде. Крутых евреев мы встречали на свадьбах и бар-мицвах – в основном это были жирные дядьки, торговцы разным товаром, так что я понимаю притягательность подобной перспективы, но не переусердствовал ли ты, считая оправданной всякую агрессию?
– Почему всю мою жизнь ты стремился опошлить все, что я делаю? Займись психоанализом и выясни, почему так получается. Я не понимаю, почему мои душевные порывы ничего не стоят рядом с твоими.
– Прости, но я всегда плохо относился к револьверам, такова уж моя натура; я так же плохо отношусь к револьверам, как и к идеологии, основанной на применении оружия.
– Ну какой же ты у нас умница! Счастливчик! Праведник ты наш! Гуманист ты наш! Ты скептически относишься ко всему на свете.
– Генри, когда ты перестанешь ходить в подручных у фанатика, ты вернешься к стоматологии?
– За такие слова я сейчас дам тебе в нос, в твой гребаный длинный нос.
– Почему же не вышибить мне мозги твоей пушкой? – спросил я, зная, что он безоружен. – Это будет нетрудно, ведь ты человек неконфликтный и сомнения, как я понимаю, тебя никогда не мучают. Послушай, я всегда выступал за подлинность чувств, но нельзя начинать с того, чтобы ставить свечку человеку, наделенному актерским даром.
– Меня никогда не оставляло ощущение, что, беседуя с тобой, я с каждой минутой глупею и делаюсь все более смешным, – почему, Натан?
– Да неужели? Тогда тебе повезло, что нам редко выпадает возможность поговорить. И что по жизни мы идем разными путями.
– Тебе никогда, никогда в жизни не приходило в голову похвалить меня или оценить то, что я делаю. Почему, Натан?
– Ничего подобного. То, что ты сделал, – просто колоссально! Я не могу отмести это в сторону. Смена бытия – это вроде послевоенного периода: обмен пленными и прочее; я не преуменьшаю масштабы того, что произошло с тобой. Если бы мне было наплевать, меня бы здесь не было. Ты приложил максимум усилий, чтобы не притворяться и быть самим собой, но я также вижу, чего тебе это стоит. Ты, конечно, заплатил очень высокую цену, тем более что это затрагивает твоих детей. Бесспорно, ты выставил очень веские возражения против своей прошлой жизни. Я не отношусь к этому легкомысленно – практически я не могу думать ни о чем другом с тех пор, как увидел тебя впервые после долгой разлуки. Я только спрашивал, нужно ли было менять все в твоей жизни, если ты хотел изменить лишь кое-какие вещи. Я говорю о том, что инженеры-ракетчики называют второй космической скоростью; фокус состоит в том, чтобы пройти сквозь слои атмосферы и не промахнуться, попав точно в цель.
– Послушай, – произнес он, резко вскакивая с места, будто хотел схватить меня за горло, – ты очень умный человек, Натан, у тебя нежная и тонкая душа, но у тебя есть один крупный недостаток: для тебя существует единственный мир – мир психологии. Это твое оружие. Ты целишься и стреляешь. Ты стреляешь в меня всю свою жизнь: Генри делает это, чтобы доставить удовольствие мамочке и папочке, Генри делает то, чтобы доставить удовольствие Кэрол или вызвать недовольство Кэрол, недовольство мамочки или папочки. И так далее, и тому подобное, без конца. Никогда в жизни Генри не был самостоятельным существом – Генри стал походить на шаблон, отпечаток с образца, которым всегда был мой брат. Может, когда-то так и было, может, я сам себя формировал под твой образец, и может, это послужило причиной многих несчастий, выпавших на мою долю дома, в Америке. Может, ты считаешь, что форма моего бунта шаблонна. Но, к великому сожалению, я не тот, кем руководят примитивные, дурацкие мотивы. Всю мою жизнь ты выходил победителем из игры, как тот парень, что караулил меня у баскетбольной сетки. Ты, черт побери, не давал сделать мне ни единого броска – ты блокировал каждый мяч. И у тебя всегда было объяснение, которое всегда приводило к унижению моего достоинства. Ты лип ко мне как муха, надоедая своими гребаными мыслями. Все, что я делаю, – предсказуемо; все, что я делаю, лишено глубины, по сравнению, конечно, с тем, что делаешь ты. «Ты делаешь бросок, Генри, только потому что хочешь заработать очко». Как остроумно! Но позволь мне кое-что сказать: ты не сможешь отыскать никаких мотивов для объяснения того, что я сделал, так же как и я не смогу объяснить твоих поступков. Кроме силы твоего могучего интеллекта, кроме фрейдистских штучек, которыми ты объясняешь поведение каждого человека, есть еще и другой мир, широкий мир, мир идеологий, политики, истории. Этот мир гораздо больше нашего кухонного стола! Ты вчера попал в этот мир, этот мир определяется действием и властью; в этом мире не имеет никакого значения, как ты хочешь ублажить своих мамочку и папочку. Все, что ты видишь, – это то, что я совершил побег, пренебрегая мамочкой и папочкой. Разве ты не видишь, каков этот мир, ради которого я совершил побег? Каждый совершает побег, – когда наши дедушки и бабушки эмигрировали в Америку, разве они бежали от своих родителей? Они бежали от старого мира. И здесь они строят новый мир, создавая новую историю. Здесь – новый мир, за пределами Эдипова болота, Натан, и не судьба играет человеком, а человек сам вершит свою судьбу. Здесь происходит не то, о чем думают гнилые интеллигенты вроде тебя, здесь определяют жизнь люди вроде нас. С нами те евреи, кто вступил в борьбу не на шутку, у них за душой нечто большее, чем любование природой в собственном внутреннем дворике, – здесь у нас широкие просторы, здесь нация, здесь целый мир! Это не игрушка для пустопорожних интеллектуалов! На этом нельзя упражнять мозги, отстранившись от реальности! Это совсем не то, что писать романы, Натан. Здесь люди не шатаются бесцельно с утра до ночи, как твои гребаные герои, копающиеся в своих мыслях двадцать четыре часа в сутки, колеблясь, не сходить ли им к психоаналитику. Здесь ты воюешь, вступаешь в борьбу, здесь ты волнуешься о том, что происходит в Дамаске. Здесь значимо не то, что говорят мамочка и папочка за кухонным столом, здесь никого не интересует та чушь, о которой ты пишешь, – здесь людей волнует, кто будет владеть Иудеей.
И с этими словами он вышел вон, хлопнув дверьми, прежде чем я смог уговорить его вернуться домой.
НА БОРТУ САМОЛЕТА
Вскоре после того как табло «Пристегнуть ремни» погасло, в центральном салоне самолета группа религиозных евреев организовала миньян. Я не слышал их из-за шума двигателей, но в солнечном свете, струившемся сквозь иллюминатор аварийного выхода, я видел, с каким неистовым рвением они молились. Они бормотали слова в чудовищном темпе – быстрее, чем несется мелодия в каприсах Паганини, – мне даже показалось, что они поставили перед собой цель молиться со сверхзвуковой скоростью, и сам процесс превращался для них в подвиг беспримерной физической выносливости. Трудно было даже представить, что можно с таким бесстыдством у всех на виду разыгрывать интимную драму, где души рвутся в клочья. Если бы какая-нибудь парочка сбросила с себя одежду и с равным пылом занялась любовью в проходе между кресел, наблюдение за ними в гораздо меньшей степени можно было бы отнести к вуайеризму.
Хотя ортодоксальные евреи занимали почти весь туристический салон, рядом со мной оказался совершенно обычный американский еврей вроде меня самого. Это был мужчина очень маленького роста, лет тридцати пяти, чисто выбритый, с очками в роговой оправе на носу; он то листал страницы утренней «Джерусалем-пост» – иерусалимской газеты, издаваемой на английском языке, – то с любопытством смотрел на покрытые кипами головы, качающиеся взад-вперед в залитом солнцем квадрате центрального салона.
Минут через пятнадцать после вылета из Тель-Авива он, повернувшись ко мне, дружески спросил:
– Ездили в Израиль по делам?
– Да нет, в гости.
Отложив газету в сторону, он поинтересовался:
– Ну и каковы ваши впечатления от всего увиденного?
– Простите, что?
– Каковы ваши впечатления? Что вы испытали, побывав там? Волнение? Гордость?
Я прекрасно понял, что за информацию он желает из меня выудить, но все еще думал о Генри, поэтому, не желая потакать праздному любопытству, ответил:
– Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, – и принялся шарить в своем дипломате в поисках ручки и записной книжки.
– Вы же еврей, – улыбаясь, заметил он.
– Да. Ну и что с того?
– Разве на вас не произвело никакого впечатления то, что им удалось сделать?
– Никакого.
– А вы видели плантации, где они выращивают цитрусовые? Они же евреи, которые сроду не занимались сельским хозяйством, но цитрусовые плантации простираются там на многие мили. Вы даже представить себе не можете, что я испытал, увидев эти плантации. Евреи-фермеры! Подумать только! А еще меня свозили на военно-воздушную базу, – я просто не мог поверить своим глазам! Скажите, а хоть что-нибудь вызвало у вас душевное волнение?
Слушая его разглагольствования, я подумал: если бы его дедушка, живший в Галиции, а ныне ушедший в мир иной, смог бы, спустившись с небес на землю, совершить экскурсию по современному Чикаго, Лос-Анджелесу или Нью-Йорку он был бы растроган не меньше внука и его удивлению так же не было бы предела. Он бы сказал: «Мы никогда не были американцами, но теперь здесь живут миллионы американских евреев! Вы представить себе не можете, как меня поразил их вид! Они все выглядят как настоящие американцы!»
Чем можно объяснить комплекс неполноценности, возникающий у американских евреев, когда они сталкиваются с воинствующим сионизмом, представители которого дерзко заявляют, что они не только обладают правом на преображение иудейской души, но и смелостью для осуществления своих намерений?
– Послушайте, – сказал я своему соседу, – я не в состоянии отвечать на подобные вопросы.
– А знаете, на что я не могу ответить? Они приставали ко мне, чтобы я растолковал, почему американские евреи упорно продолжают жить в диаспоре, а я ничего не мог им сказать. После всего, что я увидел, я не знал, что говорить. Хоть кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? Хоть кто-то может ответить?
Бедняга. Должно быть, его давно терзают сомнения. Возможно, он день и ночь сражается с собой, думая о своем подлинном «я», ложной идентичности и отчуждении. Они спрашивали его: «Что есть выживание еврея в современном мире? Что есть безопасность еврея? Что есть история еврейства? Если бы ты был хорошим евреем, ты бы уже давно жил в Израиле, был бы евреем в обществе себе подобных». Они говорили ему: «Единственное место на свете, где еврей может чувствовать себя человеком, – это Израиль. Только здесь ты – настоящий еврей, и все настоящие евреи – только в Израиле». А он был до смерти запуган, он был настолько угнетен их моральным превосходством, что не только не смог сказать им, но даже признаться самому себе, что это и есть одна из причин, по которой он не хочет здесь жить.
– Почему? – не переставая, спрашивал он, и его беспомощность перед данным вопросом была даже трогательной. – Почему евреи упорно продолжают жить в диаспоре?
Мне не хотелось проявлять полное равнодушие к человеку, пребывающему в смятении из-за серьезных проблем, но мне также не хотелось вести с ним долгие беседы, я был не в настроении подробно отвечать на его вопросы. Такие ответы я решил приберечь для Генри. Самым лучшим, решил я, будет дать ему почву для размышлений.
– Потому что им это нравится, – заключил я, вставая и пересаживаясь на свободное кресло через проход, на два-три ряда дальше от моего соседа, где меня никто бы не тревожил и где я смог бы сконцентрироваться на своих мыслях или даже написать Генри о том, насколько удивляет меня его новая жизнь.
Теперь моим соседом слева, у иллюминатора, оказался молодой человек с густой бородой, одетый в черный костюм с белой рубашкой без галстука, но застегнутой доверху на все пуговицы. Он читал молитвенник на иврите, одновременно поглощая шоколадный батончик. Это сочетание показалось мне довольно странным, но я со своим светским умом вряд ли гожусь для третейского суда: мне не пристало рассуждать, чем именно благочестие отличается от непочтительного отношения к религии.
Я поставил свой кейс на пол, – его «дипломат» стоял открытым на соседнем сиденье, – и принялся за письмо для Генри. Слова, которые я выводил, не лились свободно, как обычно. Я выжимал их из себя, понимая бессмысленность усилий: это было похоже на тушение пожара из пипетки с глазными каплями. Я писал и перечитывал письмо более двух часов, сознательно стараясь избегать придирок к Генри – практики, сложившейся в отношениях старшего и младшего брата с раннего детства.
«Ты хочешь, чтобы я видел только реальность политической жизни. Я ее вижу. Но я также вижу тебя. Ты – тоже реальность». Написав эти слова, я сразу их зачеркнул вместе со всем остальным; я писал, безжалостно вымарывая то, что создал, пока наконец не пришел к тому, что мне казалось самым близким к его пониманию вещей. Конечно, я не мог достичь с ним примирения, это было невозможно и к тому же не нужно ни одному из нас, но хотя бы мы могли с ним расстаться так, чтобы его чувства не были оскорблены и я не нанес бы ему новых обид, – я не хотел, чтобы повторилось то, что было при нашей последней встрече. Впрочем, лично я не верил, что Генри останется там навсегда: на Пасху к нему должны были прилететь дети, и я надеялся, что встреча с ними может все изменить, – однако я писал ему так, будто верил, что его решение окончательно и бесповоротно. Если Генри хочется так думать, значит, я тоже буду так думать.
На борту самолета «Эль-Аль» 11 дек. 1978
Дорогой Генри!
После того как мы с большим недоверием к обеим сторонам просеяли сквозь сито мотивы каждого из нас, обоюдно лишив друг друга достоинства, что осталось в итоге? Я непрестанно думаю об этом с тех пор, как сел на самолет, выполняющий рейс № 315. Ты стал еврейским активистом, вовлеченным в политические действия. Теперь ты – человек, которым движут идейные убеждения, ты изучаешь древний язык, на котором говорили твои далекие предки, и упорно продолжаешь жить на вершине каменистого холма в библейской Иудее вдали от своей семьи, своего дома, своих вещей и своих пациентов. А я превратился (если, конечно, тебе это интересно) в буржуазного семьянина, лондонского домовладельца и в свои сорок пять в самом ближайшем будущем стану отцом; на сей раз я женат на англичанке, выросшей в Великобритании и получившей образование в Оксфорде; она родилась в семье аристократов, которые с самого начала занимались ее воспитанием, даже в отдаленном смысле не напоминающим наше с тобой, – она сама тебе об этом расскажет, – так не воспитывали никого за последние несколько столетий. У тебя есть своя земля, свой народ, дело, за которое ты борешься; у тебя есть пистолет, есть враги и есть наставник – очень волевой наставник. У меня же нет ничего из того, что я перечислил. Но у меня есть беременная жена-англичанка. Разъехавшись в разные концы света, мы теперь равноудалены от той точки, с которой начинали свой путь. Знаешь, какая из всей этой истории мораль? Я вывел ее после нашей последней словесной дуэли в пятницу вечером, когда задал тебе дурацкий вопрос, почему ты не пристрелил меня. Мораль в том, что у нас больше нет семьи. Наша маленькая нация разорвана на куски. Думаю, я не доживу до того счастливого дня, когда наступят мир и покой.
А пока что – допустим, из чистого любопытства, а также из-за рушащихся на глазах старых фамильных ценностей и обязательств перед тобой – я двое суток подряд ломал голову, пытаясь понять причины, заставившие тебя перевернуть свою жизнь, хотя мне на самом деле не так уж и трудно нарисовать верную картину. Ты устал: тебе надоело удовлетворять желания других людей, выслушивать их мнения; тебе осточертела твоя мнимая респектабельность и – в силу обстоятельств – твоя тайная жизнь; и вот пришло время, когда старое существование начало тебя тяготить, но вдруг издалека грянул гром, и все озарилось ярким светом: там гнев и ярость, там сила, там проблемы, которые потрясли мир. Весь разлад еврейской души оказался вытащен на всеобщее обозрение: теперь это обсуждается в кнессете. Так зачем же противиться этому? Кто ты есть, чтобы на тебя надевали постромки? Я согласен с тобой. Что касается Липмана, я тоже испытываю слабость к подобным шоуменам. Они, естественно, воспринимают вещи безо всякой ретроспективы. Липман кажется мне человеком, для которого столетия недоверия к евреям, антипатии, угнетения и, как следствие, их жалкого положения в мире стали чем-то вроде скрипки Страдивари, по которой он, как еврейский скрипач-виртуоз, яростно водит смычком. В своих тирадах он рисует мрачнейшую реальность, и даже если не принимать на веру его речи, начинаешь думать, почему ты не веришь ему: потому, что он неправ, или потому, что таких вещей не говорят. Я спросил с излишним нетерпением, должна ли складываться твоя новая личность под воздействием необычной силы его воображения, в котором реальность предстает еще более красочной, чем в твоем. Но я сам уже знал ответ. А как иначе этого добиться? Предательское воображение создает каждого из нас, мы все – чье-то изобретение. Каждый из нас – это чудо, созданное колдовскими чарами, и одновременно каждый – волшебник, чей заговор может околдовать других. Мы все – авторы, сочиняющие других.
А теперь посмотри на страну, которую ты называешь своим новым домом: целая страна, вообразившая сама себя, задает себе вопрос: «Что, черт побери, значит – быть евреем?» Люди теряют своих сыновей, теряют руки и ноги, теряют то и это, пытаясь найти ответ. «Что есть еврей в первую очередь?» Этот вопрос всегда требовал ответа – звуки, из которых сложилось слово «еврей», не были созданы, как породы земли: чей-то человеческий голос как-то раз произнес «е-в-р-е-й», пальцем указав на соседа. Так это началось и с тех пор не прекращалось никогда.
Еще одно знаменитое место, в котором изобрели (или же повторно изобрели) еврея, – Германия при Гитлере. К счастью для нас обоих, как ты мне правильно напомнил в пятницу вечером, до нас были еще наши дедушки, которые, почесывая свои нелепые длинные бороды, задавались вопросом: неужели евреи должны подлежать уничтожению в Галиции? Вспомни, от какого жуткого наследия они тебя избавили, не говоря уже о том, что они спасли не только свою шкуру, но и нас; подумай о храбром изобретательном гении этих первопроходцев, которые приехали в Америку и поселились там навсегда. И вот теперь, исполненный боязни появления нового Гитлера и второго массового уничтожения евреев, миру является виртуозный скрипач из Агора и приносит с собой идею, порожденную нацистскими газовыми печами: он говорит, что надо смести все ограничивающие нас моральные табу, чтобы восстановить духовное превосходство евреев. Я должен тебе сказать, что в пятницу вечером мне иногда казалось, что евреи из Агора действительно стыдятся еврейской истории: им тяжело осознавать, кем когда-то были евреи, и они стесняются себя, думая, кем они стали. Они выказывают всяческое отвращение к диаспоре и ее «ненормальностям» – к тому самому, что можно найти в любом классическом антисемите, которого они ненавидят. Интересно, как бы ты назвал музей восковых фигур, где были бы выставлены копии твоих друзей, которые презрительно отзываются о каждом еврее в истории нации, считая его трусом, предателем или идиотом, если только он выказывал миролюбивые намерения и пропагандировал гуманистические идеи? Я бы назвал его Музеем Ненависти Евреев к Самим Себе. Генри, неужели ты думаешь, что в борьбе за то, какими должны стать евреи, победит Липман и его команда?
Несмотря на все, что ты наговорил, мне до сих пор трудно поверить, что твой махровый сионизм есть результат той чрезвычайной ситуации, в которой оказались евреи в Америке и которую ты чувствуешь всем своим нутром. Я никогда не осмелюсь порицать ни одного сиониста, чье решение ехать в Израиль основывается на ясном осознании того, что он бежит от внушающего ему опасение или подрывающего его дух антисемитизма. Будь антисемитизм реальной угрозой в твоем случае, или культурная изоляция, или, наконец, чувство личной вины за холокост, каким бы иррациональным оно ни было, – у меня не возникло бы вопросов к тебе. Но так уж получается, я совершенно уверен в том, что тебя искалечила и оттолкнула не жизнь в гетто, не ментальность гетто, и не Гой, и не его угрозы, а нечто совсем иное.
Ты умный человек и не будешь безропотно глотать всякую штампованную чушь, с которой носятся в Агоре: что американские евреи де жадно поглощают пищу, купленную во всяких злачных местах типа торговых центров; одним глазом они смотрят на толпы иноверцев, слепо не замечая нависшей над ними угрозы, а другим заглядывают в свою душу и находят там лишь ненависть к себе и стыд. Нет, гораздо приятнее воспылать любовью к себе, лучше быть уверенным в успехе. Вероятно, это и есть событие мирового значения, и его можно поставить в один ряд с историей, которую вы сейчас вершите в Израиле. История не создается так, как механик собирает машину, – личность способна играть роль в истории, хотя с первого взгляда это никому не видно, даже самому себе. Может быть, преуспевая в своей мирской жизни и пребывая в покое и безопасности в Вест-Оранж, забывая день ото дня о своем еврейском происхождении и в то же время оставаясь по рождению своему и сути своей евреем до мозга костей, ты сам создаешь историю еврейства, хотя и не подозреваешь об этом в каждый отдельно взятый момент, и тебе не нужно ничего говорить по этому поводу. Ты живешь в определенном времени и принадлежишь определенной культуре, и неважно, осознаешь ты это или нет. Ненавидящие себя евреи? Генри, в Америке полным-полно неевреев, которые почему-то, насколько мне известно, ненавидят сами себя; Америка – страна, в которой навалом чикано – американских мексиканцев, которые хотят походить на техасцев, а техасцы лезут из кожи вон, чтобы походить на жителей Нью-Йорка. И на Ближнем Востоке найдется немало придурков, которые пытаются, хочешь, верь, хочешь, нет, думать и действовать как евреи. Говорить «еврей» и «гой» про Америку значит попасть пальцем в небо, потому что Америка не такая и идеология в Штатах сильно отличается от идеологии Агора. Затасканная метафора о стереотипах и злачных местах в Америке также не описывает твою полную ответственности жизнь в тех краях, какой бы она ни была – еврейской или иной: в ней было столько же конфликтов, как и везде; она была напряженной и имела такую же ценность, как и жизнь любого другого человека; твоя жизнь, с моей точки зрения, вовсе не была похожа на «жизнь Райли» – это была настоящая жизнь, один из ее отрезков. Подумай еще раз, какую часть своей жизни, которую ты называешь бессмыслицей, ты хочешь отдать в обмен на догматы сионизма, которые они вколачивают тебе в голову? Между прочим, никогда раньше я не слышал от тебя слова «гой», произнесенного с оттенком интеллектуального превосходства. Мне это напоминает дни, когда я, будучи еще первокурсником, жил в Чикаго и болтал с каждым встречным и поперечным о люмпен-пролетариате, думая, что такие разговоры подтверждают мое глубокое понимание американского социума. Когда я видел пьянчужек, выползавших из пивных баров на Кларк-стрит, я с торжеством бормотал себе под нос: «Вот он, люмпен-пролетариат!» Я думал, что кое-что понимаю в жизни. Откровенно говоря, мне думается, ты больше узнал о том, «что такое гой», от своей швейцарской подружки, чем когда-нибудь сможешь узнать в Агоре. Истина в том, что ты можешь научить их, а не они тебя. Попробуй сделать это как-нибудь в пятницу вечером. Расскажи им за ужином о своем романе с девушкой из Швейцарии и про все наслаждения, которые ты с ней испытал. Ты сможешь добавить несколько живых деталей к их абстрактному образованию: пусть поймут, что такое гой.
Твоя приверженность сионизму имеет, на мой взгляд, мало общего с реальностью; ты говоришь, что теперь чувствуешь себя настоящим евреем, евреем до мозга костей; что раньше ты подвергался опасности – психологически жил в смирительной рубашке антисемитизма, разгулявшегося в Нью-Джерси. Но твои слова не делают эту эскападу оправданной, если говорить о подлинности ощущений. Наоборот, твой случай – это классика. Сионизм, насколько я понимаю, родился не из заветной мечты евреев о том, что они когда-нибудь перестанут жить в вечной опасности, что они перестанут существовать в изоляции, перестанут подвергаться жестокостям, социальной несправедливости и преследованиям всяческого рода. Сионизм родился из четко осознанного желания избавиться от всего, что кажется типичным в поведении евреев и с точки зрения сионистов, и с точки зрения европейцев-христиан, – из желания коренным образом изменить сами формы существования евреев. Созидание другой жизни – это с самого начала было ядром антимифа. Это одна из разновидностей легендарных утопий, манифест человеческой трансформации в самом крайнем его проявлении, – и с самого начала эта утопическая идея была обречена, неосуществима в том виде, как она была задумана. Еврей может стать новым человеком, если он этого захочет. В первые дни существования нового еврейского государства эта идея нравилась всем, кроме арабов. Весь мир болел за евреев, за их успехи, так же как и сами «новые евреи» гордились собой и своими достижениями на своей земле. Именно поэтому, я думаю, Израиль в одночасье стал очень популярен: нет больше типичных евреев, вот здорово! Во всяком случае, теперь я понимаю, почему ты попал под действие гипноза в сионистской лаборатории, проводящей над евреями эксперимент под названием «Израиль»; когда я думаю о тебе в связи с данными обстоятельствами, для меня это перестает быть загадкой. Вся мощь, все возможности для изменения реальности воплощаются для тебя в Мордехае Липмане. Мне не нужно говорить о том, что власть оружия для изменения реальности тоже имеет определенную привлекательность.
Мой дорогой Ханок (я заклинаю тебя именем того анти-Генри, которого ты хочешь откопать в Иудейских холмах), надеюсь, что тебя не убьют, пока ты будешь искать новые пути. Если своим врагом ты считал слабость, пока находился в изгнании в Саут-Оранж, то на твоей родине в Израиле твоим врагом может оказаться избыток силы. Ее нельзя преуменьшать – не у каждого хватает мужества в сорок лет рассматривать себя как сырую глину, из которой можно слепить что угодно; не у каждого есть силы расстаться с уютным, благополучным существованием, когда оно становится безнадежно чужим, и добровольно принять на себя все трудности, связанные с переездом в новое место. Никто не уезжает так далеко, как ты, и – как видно по всем признакам – не адаптируется к новому образу жизни так легко, как ты, благодаря своей дерзости, или упрямству, или безумию в чистом виде. Мощную жажду обновления (или, как это называет Кэрол, диверсии против семьи) нельзя утолить – она требует немалых физических усилий. Несмотря на лишающее тебя силы духа поклонение Липману – харизматической личности с удивительной жизнестойкостью, – ты фактически более свободен и более независим, чем мне показалось вначале. Если правда состоит в том, что ты подвергаешь себя жестким ограничениям и живешь в чудовищном разладе с самим собой для собственного удовольствия, тогда ты прав, ты мудро используешь свою силу воли, и все, что я раньше наговорил тебе, не имеет никакого значения. Может быть, там тебе и место, может, именно этого тебе хотелось всю жизнь – заниматься военным ремеслом, в котором отсутствует чувство вины.
Кто знает, возможно, через пару лет твоя жизнь изменится и у тебя появятся более веские причины для обитания на исторической родине, которые будут понятны мне (при условии, что ты будешь еще поддерживать связь со мной), и твои мотивы для переселения в Израиль будут совпадать с мотивами многих людей, которые там живут; другими словами, причины твоего переезда станут более весомыми и значимыми, чем те, которые есть у тебя сейчас. Несомненно, сионизм – весьма тонкая материя, он выражает не только еврейское мужество и храбрость, поскольку евреи, совершающие храбрые и мужественные поступки, – это не исключительно израильтяне или сионисты. Нормальный/ненормальный, сильный/слабый, мы/я, добрый/не очень добрый, – но есть еще одна противоположность, еще одно различие, о котором ты практически ничего вчера не сказал: иврит/английский. В Агоре только и разговоров, что про наступление антисемитизма, про возрождение еврейского самосознания, про приход евреев к власти, но от твоих друзей я и слова не слышал об иврите и реальности огромной культуры, которую этот язык несет с собой. Скорее всего, я заговорил об этом потому, что я писатель, но до сих пор не могу понять, почему это никому не приходит в голову, ведь ты в первую очередь окружил себя ивритом, попал в его среду, а не в атмосферу героики; точно так же, как если бы ты навсегда уехал в Париж, ты бы жил в атмосфере французского языка, и на этом языке ты бы мыслил и приобретал жизненный опыт. Излагая мне свои доводы и объясняя, почему ты решил остаться в Израиле навсегда, ты, к моему удивлению, талдычил про героизм, мужество и применение силы, но ни слова не сказал о культуре, в которую погрузился. Или, быть может, ты еще придешь к этому, когда начнешь чувствовать утрату родного языка и англоговорящей среды, которую, на мой взгляд, ты так глупо бросил.
По правде говоря, если бы я встретил тебя на улице Тель-Авива с девушкой в обнимку и ты бы сказал мне: «Мне нравится солнце и запах фапафелей[90]90
Фалафели – популярное на Ближнем Востоке блюдо, обжаренные тефтельки, приготовленные из бобов и турецкого гороха нут.
[Закрыть], мне нравится иврит, я продолжаю работать стоматологом и прекрасно себя чувствую в еврейском мире», вот тогда бы у меня не возникло ни слова возражения. Это бы соответствовало тому, что я называю «нормальным», я бы лучше понял такое твое поведение, чем твое стремление войти в историю народа, которому ты не принадлежишь. Я не понимаю твоего желания разделять идеи и участвовать в действиях, которые многие люди считают неоспоримыми для себя, потому что они строят новую страну; у них не было надежды, не было будущего, и любое начинание представляло для них очень сложную задачу. Сама эта идея, несомненно, была блистательной, гениальной, необыкновенно смелой и мощной в тот исторический период, но, еще раз повторяю, с моей точки зрения, она не имеет к тебе никакого отношения.А пока что – даже если я буду напоминать тебе нашу мамочку, которая всякий раз напутствовала тебя этими словами, когда ты, старшеклассник, уходил на тренировку по бегу с барьерами, – я хочу сказать тебе: «Ради бога, будь осторожен, береги себя». Я не хочу приезжать сюда в следующий раз для того, чтобы забрать твои останки.
Твой единственный брат Натан
P. S. По моей подписи ты можешь видеть, что я не удосужился сменить свое имя, хотя в Англии, в поисках своего анти-Я, при старом удостоверении личности я скрываюсь под инициалами Н. Ц.