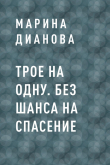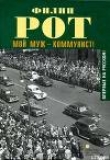Текст книги "Другая жизнь"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
– Но я это делаю ради тебя.
– Неправда. Ты решился на операцию (если ты действительно хочешь ее сделать) ради себя, ради восстановления своей собственной мужской силы, ради жизни. Но не надо подводить под нее другую базу: выйду ли я за тебя замуж или нет, сможешь ли ты трахать меня или нет, – все это тревожит мне душу, и я даже думаю, что после всего этого я не смогу спать с тобой. Меня не так воспитывали: я никогда не полагалась на удачу. Я бы хотела быть более независимой, но догадываюсь, почему я не такая. Пока я росла, весь мой опыт сводился к тому, что надо блюсти старые традиции. Вот что происходит, когда умный ребенок растет без отца. Будь осторожна! Осторожна! Осторожна! Вот что впечаталось в мое сознание. Я считаю, что несправедливо взваливать все это на меня. Мне кажется, что за всю историю человечества никого не просили принять подобное решение. Почему все не может продолжаться так, как есть?
– Потому что я хочу от тебя ребенка.
– Мне кажется, что тебе уже давно пора сходить к психиатру.
– Все, что я говорю, вполне здраво и разумно.
– Нет, неразумно. Ты бы ни за что не пошел на операцию, которая может погубить тебя, если бы у тебя не было выбора.
Мне иногда снится сон, в котором я вижу тебя, и я в кошмаре просыпаюсь посреди ночи: я вижу тебя на алтаре, и священник вонзает тебе в грудь какую-то штуку – это обсидиан, который использовали ацтеки, если я правильно произношу это слово, – и вырывает твое сердце ради меня и нашего семейного счастья. Одно дело сказать: «У меня просто сердце разрывается», и совсем другое – если оно действительно разорвется по твоей прихоти.
– Значит, ты предлагаешь, чтобы все оставалось как есть?
– Именно. Мне очень нравятся наши теперешние отношения.
– Но когда-нибудь тебе придется покинуть меня, Мария. Твой муж, несмотря на свою молодость, будет назначен послом в Сенегале. И что тогда?
– Если его пошлют в Сенегал, я отдам ребенка в школу и скажу, что не могу ехать вместе с ним. Я останусь здесь. Это я тебе обещаю, если ты пообещаешь мне не ложиться на операцию.
– А что будет, если его вызовут обратно в Англию? Что, если он займется политикой? Это обязательно когда-нибудь произойдет.
– Тогда ты тоже приедешь в Англию, снимешь квартиру и будешь писать там книги. Какая тебе разница, где жить?
– Значит, наш любовный треугольник будет существовать вечно.
– Да, пока медицина не спишет нас со счетов.
– И ты думаешь, мне это понравится? Каждый день ты уходишь от меня и возвращаешься к нему, и каждую ночь, вовсе не потому, что он безумно любит тебя, а потому, что обладает гиперсексуальностью, он приходит домой из палаты общин и трахает тебя. Ты думаешь, мне это будет приятно, если я останусь совершенно один в моей лондонской квартире?
– Не знаю. Думаю, не очень.
На следующий день, как лучшая из жен, Мария отправляется встречать его в аэропорт. А я иду к кардиологу – сообщить ему о своем решении. Ничего странного в моем решении нет. Мой выбор никак не обусловлен желанием отчаявшегося любовника, свихнувшегося от нанесенного ему жестокого удара по мужской потенции, – это выбор рационального человека, которого влечет к себе трезвая и спокойная женщина, и с нею он планирует вести тихую безмятежную жизнь в привычной семейной обстановке. Тем не менее, сидя в такси, я чувствовал себя ребенком, снова превратившимся в невинное и чистое существо, от которого обстоятельства безжалостно требуют осознания своей физической неполноценности. Я закрутил новый роман со всеми вытекающими из него последствиями, который многие люди вдвое младше меня сочли бы мимолетным и преходящим, несмотря на его очарование и удовольствия, и превратил эту связь в свой salto mortale.
По правде говоря, мой поступок, совершенный ради безумной любви, также мог бы обрести некий смысл, но поскольку я безнадежно очарован ее тихими прелестями, которые она вкладывает в свои сочинения, это обстоятельство вряд ли является достаточной причиной, чтобы идти на подобный риск. Неужели меня действительно увлекли томительные напевы безземельных английских джентри? Неужто в них присутствует такая мощная притягательность? Или же соблазнительность Марии является плодом моего больного воображения? Да кто она такая? По ее собственным словам, она всего лишь моя соседка, несчастная домохозяйка, которая совершенно случайно поселилась этажом выше и к тому же постоянно твердит, что она мне не пара. Если бы мы встретились с ней и закрутили пылкий роман до моей болезни, вполне вероятно, что мы никогда бы не стали разговаривать на эту тему; скорее всего, наш роман к этому времени уже выдохся бы сам собой – цепь осторожно совершаемых супружеских измен, несмотря на множество препятствий. Почему это я совершенно внезапно испытал страстное желание стать отцом? Маловероятно, что это желание развилось из подспудного, вышедшего на передний план намерения стать отцом семейства. А может, во мне всколыхнулась феминизированная часть моего эго, усиленного импотенцией, благодаря которому ко мне пришло запоздалое желание завести собственного ребенка? Я не знаю! Что движет моим желанием стать отцом, несмотря на огромную угрозу моей жизни? А что, если я влюбился лишь в голос, прелестно интонирующий английские фразы? Человек, пошедший на смерть ради нежных звуков изящно произнесенного придаточного предложения…
Я сообщил своему кардиологу, что хочу жениться и завести ребенка. Я понимаю, на какой риск иду, но тем не менее согласен на операцию. Если я смогу получить эту прекрасную, сверхцивилизованную женщину, которой муж наставил синяков, то полностью исцелюсь от своей болезни. Задача, которая была бы по плечу только мифологическим героям!
Мария в бешенстве.
– Ты можешь забыть обо мне, когда поправишься. Я тебя ни к чему не принуждаю. И у меня душа к этому не лежит. Я не хочу, чтобы ты делал операцию.
– Еще сотню лет назад наша непорочная и чистая любовь никому не казалась бы странной, но сейчас этот фарс для меня невыносим, это еще хуже, чем крушение всех надежд. Никто ничего не может сказать заранее, сначала – операция. А потом уж все остальное.
– Ложиться на операцию – это безумие. Ты принимаешь скоропалительное решение. Ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. Ты можешь умереть.
– Люди принимают подобные решения каждый день. Если ты хочешь кардинально изменить свою жизнь, серьезного риска не избежать. Приходит время, когда нужно забыть о том, что пугает тебя больше всего. И неважно, сколько я буду ждать, ты всегда будешь говорить, что это безумие, что я принял скоропалительное решение. Когда-нибудь я все равно сделаю это – по необходимости. А что я выиграю, если буду тянуть время? У меня только увеличатся шансы потерять тебя. Я точно потеряю тебя. Без секса такие отношения долго не продержатся.
– Ах как это ужасно! Мы придаем слишком большое значение заурядной ежевечерней мыльное опере, превращая ее в «Тристана и Изольду». Это настоящий фарс. Мы оба испытываем безнадежную нежность друг к другу именно потому, что не можем заняться любовью, потому что все в нас дрожит, это грань, которую мы не можем переступить. Наши бесконечные беседы, никогда не достигающие кульминационной точки, привели к тому, что двое чрезвычайно рациональных людей стали вынашивать совершенно иррациональные фантазии, которые, как ни абсурдно, в конце концов стали казаться вполне достижимыми. Парадокс состоит в том, что мы, возложив столько надежд на эту мечту, совершенно упустили из виду тот факт, что она является чистейшей и к тому же безответственной иллюзией. Эта болезнь исказила все что можно!
– Когда я буду здоров и навсегда избавлюсь от этой болезни, мы сможем, если захочешь, провести тщательное исследование наших чувств. Мы заново пересмотрим то, что испытывали друг к другу, как будто между нами не было ничего, кроме горячих эмоций, облеченных лишь в словесную ткань.
– Ах нет, нет! Я не могу допустить, чтобы ты продолжал в том же духе. Неужели все, что между нами было, растает в воздухе, когда худшее останется позади? Я согласна. Я сделаю это. Я выйду за тебя замуж.
– А теперь произнеси мое имя. Говори!
Наконец она сдается. Это и есть кульминация нашей беседы: Мария произносит мое имя. Я, как молотком, упорно бил и бил по самым болезненным точкам: по ее сомнениям, по ее страхам, по ее чувству долга, по рабской зависимости от мужа, по происхождению, я даже упомянул ее ребенка, – и наконец Мария сдается. Остальное должен сделать я сам. Теперь мне предстоит совершить поступок сродни подвигу греческих героев – я решаюсь на дерзкий шаг в поисках мечты ради своего освобождения, и, движимый упрямой мыслью о том, как оправдать свое существование, теперь должен перейти от слов к делу, отдавшись насилию хирургии.
Пока был жив Натан, Генри никогда не мог создать ничего значительного – он даже письмо другу написать не мог. Однако школьные сочинения создавали ему не больше трудностей, чем другим, а в колледже он получал по английскому языку никак не меньше «четверки». Он даже пытался выступить в качестве спортивного репортера, посылая заметки в еженедельную студенческую газету до того, как плотно сел за изучение основ зубоврачебной практики, но когда Натан начал публиковать свои рассказы, которые не остались без внимания публики, а потом и книги, Генри будто приговорили к молчанию. Мало кто из младших братьев, думал Генри, стал бы мириться с таким положением дел. Но тут все кровные родственники прославленного писателя объединяются в странный союз не только потому, что они являются «материалом» для своего родича – сочинителя романов, но также и потому, что их собственная жизнь, материализовавшись на страницах книг, находит теперь иное воплощение – она вышла из-под пера того, кто жадно разглядывает их бытие и первым проникает в его суть, хотя отображение не всегда получается верным.
Когда бы Генри ни садился за чтение книг, из чувства долга надписанных для него братом (они приходили к нему по почте за несколько дней до официальной презентации), он немедленно начинал прикидывать сюжет контркниги, которая исправила бы искажения (начало начал в творчестве Натана), корежащие жизнь людей, узнанных им в романе. Чтение Натановых произведений всегда утомляло его, будто он вел долгий спор с человеком, который никуда не собирался уходить. По правде говоря, в работах, связанных с журналистикой или историей, не должно быть никакого искажения фактов или фальсификации; ты также не можешь никого обвинить в неверном изложении событий, если писатель не давал никаких обязательств честно и правдиво отображать истину. Генри все это прекрасно понимал. Он не возражал ни против богатого воображения писателей, используемого в художественной литературе, ни против лицензии, полученной писателями на отображение реальных людей и событий, – он возражал исключительно против безудержных фантазий своего брата – пронизанной иронией гипертайной атаки, хитроумно узаконившей себя как «литература», которая совершенно несправедливо была направлена на их родителей, появившихся на страницах Натанова романа как карикатурно изображенное семейство Карновски. Когда от опухоли мозга скончалась их мать, всего на год пережившая отца, Генри, не меньше чем Натан, был наделен на то, чтобы разрыв между братьями стал окончательным, и с тех пор они ни разу не встречались и не разговаривали друг с другом. Натан умер, даже не сказав своему брату, что у него проблемы с сердцем и что он собирается лечь на операцию, а потом один критик разразился панегириком в адрес Натана, восхваляя его смелость в обнародовании семейных тайн в «Карновски», то есть то самое, чего Генри никогда не мог простить брату, и уж конечно, меньше всего желал слышать об этом в такие минуты.
Он приехал в Нью-Йорк по собственной воле, готовый оплакивать смерть брата, но ему пришлось сидеть на панихиде, слушая, что эта книга является, кроме всего прочего, классическим примером «безнравственного преувеличения», как будто безответственность, облеченная в верную литературную форму, была достижением добродетели и целомудрия, а невнимательность и эгоистичное пренебрежение чувствами других несло на себе метку смелости. «Натан не был чересчур щепетильным, – было сказано во всеуслышание родным и знакомым, собравшимся на похороны, – и с легкостью использовал то, что происходило у него дома». И уж конечно, он не выказывал глубокой симпатии к тому, что происходило у него дома. «Разорив историю своего дома, как вор», Натан стал героем в среде серьезных литераторов, его друзей, не заботясь о чувствах тех, кто был обобран им.
Панегирист, молодой редактор Натана, говорил отлично, но без следа печали – казалось, он пришел, чтобы предъявить всем труп, лежавший в гробу, вместе с чеком на большую сумму, а вовсе не для того, чтобы произнести прощальное слово перед отправкой покойного в крематорий. Генри ожидал похвал, но, быть может, он был слишком наивен: похвалы звучали не в обычном ключе и не на ту тему. Сконцентрировавшись целиком и полностью на «Карновски», редактор, казалось, издевался над Генри, описывая с усмешкой ту пропасть, что легла между братьями.
«То, что разобщило нашу семью, – думал Генри, – превозносится здесь, – именно это произведение было направлено на разрушение наших отношений, и неважно, что они тут говорят про „искусство“. Вот они все сидят тут и думают: „Разве не было смелостью со стороны Натана, разве не было это жестом отчаяния, когда он впал в агрессию и варварски обнажил противоречия еврейской семьи на потребу публике?“ Но никто из них не заплатил ни одного гребаного цента за эту храбрость! Вся их добродетельность в том, что они говорят вещи, о которых не принято распространяться вслух. Что ж, вы должны увидеть своих стариков родителей, живущих во Флориде: вы увидите их бестолковость, вы познакомитесь с их друзьями, их воспоминаниями – они за все заплатили сполна, они потеряли сына из-за того, что обычно не обсуждают вслух. А я потерял брата! Кто-то дорого заплатил за то, что он высказал все, что обычно не говорится вслух, – и это я дорого заплатил за все, а не вон тот изнеженный мальчишка с претенциозной надгробной речью. Все наши связи, вся наша тесная дружба и взаимопонимание, существовавшие между нами в детстве, были погублены этой гребаной книжкой и этим гребаным противостоянием. А кому это было нужно? Почему мы боролись друг с другом? И из-за чего началась эта заваруха? Ты отдал родного брата этому сверхобразованному хлыщу, этому мальчишке, который знает все обо всем, а практически – ничего, чье литературное выступление, такое аккуратное и гладенькое, так дорого стоило нашей семье; а теперь только послушайте его: он хочет увековечить всю грязь и неразбериху нашего существования!»
Выступать на похоронах должен был сам Генри, и никто другой. Именно он по праву мог быть представителем своего брата, его доверенным лицом, кого бы слушали все собравшиеся. Кто еще был ближе к нему? Но накануне вечером, когда редактор спросил Генри по телефону, будет ли тот выступать на похоронах, он понял, что не сможет говорить публично – он никогда не найдет нужных слов, чтобы облечь в них воспоминания о счастливом детстве: об игре в мяч с отцом и братом, о катании на коньках по озеру в Уиквахик-парк[106]106
Парк в Ньюарке.
[Закрыть], о летних месяцах, которые они вместе с другими отдыхающими проводили на берегу, – все это имело значение только для него самого, и ни для кого другого. Он провел два часа за письменным столом, пытаясь написать хоть что-нибудь о Натане; он погрузился в воспоминания о своем большом, постоянно вдохновлявшем его старшем брате, за которым он ходил хвостом в бытность свою маленьким мальчиком, о том Натане, который был для него поистине героической личностью, пока в шестнадцать лет не уехал учиться в колледж и сразу стал для него далеким и заслуживающим скептического отношения. Единственное, что Генри сумел написать в своем блокноте, были годы жизни брата: 1933–1978. Получалось так, будто Натан был все еще жив и своим присутствием заставлял Генри погрузиться в молчание.
Генри не стал выступать на похоронах не потому, что у него не нашлось нужных слов, – причиной, по которой у него не нашлось слов, была вовсе не его глупость или необразованность: если бы он вздумал соревноваться со своим братом, то Натан был бы полностью уничтожен. Он никогда не был бессловесным существом ни со своими родителями, ни с женой, ни с друзьями, ни уж конечно со своей любовницей, – он не был молчуном в душе, но в рамках семьи он взял на себя роль мальчика с умелыми руками, роль хорошего спортсмена, роль благородного, надежного парня с легким характером, тогда как Натан получил монополию в мире слов, а вместе с ней власть и престижное положение. В любой семье каждому назначена своя роль – нельзя же всем выстроиться в ряд и, дружно ополчившись на папашу, забить его до смерти. Итак, Генри стал Верным Защитником Отца, а Натан превратился в семейного убийцу, который уничтожает своих родителей под прикрытием искусства.
Как бы он хотел, слушая этот некролог, быть другим человеком, который мог бы вскочить, закричав во все горло: «Ложь! Все это чистая ложь! Именно это способствовало развалу нашей семьи!» Он хотел бы под влиянием момента вскочить на ноги и сказать вслух хоть что-нибудь! Но на роду у Генри было написано безмолвие – и это спасало его в жизни: ему не пришлось состязаться с тем, кто был буквально соткан из слов, кто создал себя из слов.
Вот текст некролога, который чуть не свел его сума:
«Вчера я лежал на пляже одного из курортов на Багамах, перечитывая „Карновски“, – я уже второй раз просматривал этот роман с момента его опубликования, как вдруг меня позвали к телефону – сообщить, что Натан умер. Поскольку сразу улететь с острова я не мог – ни одного рейса на материк не было до самого вечера, – я решил вернуться на пляж и дочитать книгу, – уверен, Натан посоветовал бы мне то же самое. Я вспоминаю, какой удивительной показалась мне эта книга в первый раз, – это один из тех романов, который навсегда останется в моей памяти, – хотя раньше я несколько искаженно понимал некоторые сцены, ставшие теперь открытием для меня. Роман оставался дьявольски смешным даже при втором прочтении, но новой для меня оказалась печаль, насквозь пронизывающая книгу, что приводит к большому эмоциональному напряжению. Натан всего лишь воспроизводит для читателя, пользуясь своеобразной стилистикой, истерическую клаустрофобию детства Карновски. Может быть, именно это является одной из причин, по которой читатели постоянно задаются вопросом: „Это действительно художественная литература?“ Некоторые писатели прибегают к определенным стилистическим приемам, чтобы отграничить себя от читателя и от своего героя. В „Карновски“ Натан до предела сокращает этот разрыв. В то же время, поскольку он описывает свою жизнь, он делает вид, что пишет не про себя, что жизнь эта принадлежит кому-то другому; он, как наглый вор, облекая историю своей жизни в слова, занимается разграблением своего прошлого и выставлением его напоказ.
Религиозные аналогии – нелепые аналогии, – он был первым, кто открыл мне эту истину, и его идеи снова и снова возвращались ко мне, пока я сидел на берегу, зная, что он мертв, и думая о нем и о его творчестве. Подробнейшее и весьма правдоподобное описание семьи Карновски заставило меня подумать о средневековых монахах, бичующих себя ради достижения совершенства и постоянно вырезающих на крохотных кусочках слоновой кости лики святых в мельчайших деталях. Безусловно, Натану было присуще мирское, светское видение действительности, но какой жестокой порке он подверг себя за эту детальность изображения! Родители в книге – это поразительно ярко выписанные гротескные образы, представленные читателю в маниакально точных подробностях, не говоря уж о самом Карновски, их вечном сыне, который цепляется за надежду, что он любим своими родителями; сначала его бесит их любовь, но впоследствии, когда гнев утихает, он с нежностью вспоминает об их чувствах.
Эта книга, которую я, как многие читатели, считаю бунтарской, фактически несет в себе множество истин Ветхого Завета: по сути своей она является первобытной драмой, в которой соглашательство противоборствует с возмездием. Реальная духовная жизнь, благодаря многим жертвам, получает истинное моральное вознаграждение. Карновски никогда не испытывал к нему тяги и не искал его. Иудаизм на высокой ступени понимания, которого он достиг, не дает морального удовлетворения его ученикам, и я думаю, это огорчает его больше всего, поскольку он полагает, что евреи противопоставлены всем самодовольным ничтожествам на свете. Карновски в романе больше характеризуется вечными жалобами, нежели восстанием против своего окружения, – его жалобы не имеют под собой этических мотивов, как считает Натан, они исходят из глубокого нежелания совершать хоть какие-либо действия по причине владеющего им страха. Скандальным в романе является не фаллический культ героя, но по большей части связанное с ним предательство материнской любви, что, однако, лучше укладывается в цензурные рамки.
Теперь, пожалуй, несколько слов об уничижении, которое паче гордости. Раньше я этого не понимал. Писатель четко и ясно пишет о его различных формах, он подробнейшим образом описывает пещерную жизнь евреев, переехавших в город из местечек, – с такими типажами довелось быть знакомым и мне. Они приносили плоды, возлагая дары на алтарь их мстительного Бога, они впитывали в себя частички его всемогущества – через свою убежденность в превосходстве евреев над всеми нациями, но при этом не понимали, в чем состоит обмен. По свидетельству самого Карновски, из него получился бы неплохой антрополог; быть может, он и был антропологом в душе. Он допускает, чтобы весь накопленный опыт этого маленького племени, представителями которого являются страдающие, одинокие и примитивные дикари с добрыми сердцами, которых он исследует на страницах своей книги, проявлялся при описании ритуалов, артефактов и бесед; в то же самое время он успешно излагает основы своей собственной „цивилизации“, рассматривая ее с точки зрения репортера, не жалеющего своих читателей, и тем самым превращает свой текст в бег по пересеченной местности.
Почему, читая „Карновски“, так много людей хочет знать, является ли это произведение художественной литературой? У меня есть множество соображений на этот счет. И разрешите изложить вам все, что я думаю по этому поводу.
Прежде всего, как я уже говорил, этот роман можно назвать художественным произведением потому, что писатель умело маскирует свое авторство, но стиль романа точно передает его эмоциональные терзания. Во-вторых, он храбро прорубает себе путь на новую территорию, где царит неповиновение и нарушение законов, так как открыто пишет о сексуальности в семейной жизни, и беззаконие эротических связей, для которых мы все рождены, не возвышается автором до небесных сфер – секс подан без прикрас, и в романе его можно сравнить с шокирующим воздействием чистосердечного признания. И не только это: при чтении произведения понимаешь, что автор, исповедуясь, сам получает огромное удовольствие от этих откровений.
Хочу отметить, что при чтении „Воспитания чувств“ у тебя не создается впечатления, что Флобер забавлялся в процессе создания этой вещи; не забавлялся и Кафка, создавая „Письмо отцу“, и уж конечно, Гете не считал забавой „Страдания юного Вертера“. Безусловно, Генри Миллер получал удовольствие от своего творчества, но ему пришлось пересечь три тысячи миль по Атлантическому океану, прежде чем он позволил себе сказать слово „ебля“. До появления романа „Карновски“ почти все, кто когда-либо занимался „еблей“ и испытал на себе то смятение чувств, которое она вызывает, совершал это действо экзогамно, как говорят фрейдисты, на безопасном расстоянии (в метафорическом и географическом смысле) от домашнего очага. Но только не Натан: он был не настолько благороден, чтобы отложить в сторону семейные истории, – он эксплуатировал материал, предоставленный ему дома, и развлекался, описывая то, что видел. Люди только удивляются, что толкало его на это: мужество или чистое безумие? Короче говоря, читатели думают, что книга написана про него самого и что он, должно быть, совсем спятил, потому что если бы они сделали это, у них у всех давно бы поехала крыша.
Знаете, почему люди завидуют романисту? Зависть у них вызывает вовсе не то, что складывается в уме сочинителя романов, а то, что в его произведениях присутствуют совершающие поступки личности, которым благоволит автор; они завидуют безответственности, которую источают все поры его кожи, что проявляется не в авторском „я“, а в „ускользающем я“, даже если оно включает в себя (особенно если оно включает в себя) нагромождение воображаемых бед, навлекаемых писателем на себя. Зависть вызывает и его дар театрального преображения, – это как раз те моменты, где читатели могут позволить себе расслабиться и допустить неоднозначное толкование связей в своей собственной реальной жизни, примерив на себя талант автора. Эксгибиционизм художника в высшем смысле этого слова связан с его воображением; художественная литература для него не более чем игра с гипотезами и рассмотрение серьезных предположений, подстегивающая воображение форма исследования, то есть все то, что никогда не являлось эксгибиционизмом. Если так можно выразиться, это эксгибиционизм внутри стенного шкафа, эксгибиционизм скрытный и тайный. Разве не является истинным тот факт, в противоположность общественному мнению, что разрыв между жизнью писателя и его произведением и есть самый интригующий аспект его творчества?
Как я уже говорил, это всего лишь несколько моментов – подсказок к ответу на вопрос, поскольку вопрос этот мучит и преследует Натана на каждом шагу. Он никогда не мог понять, почему люди отчаянно стараются доказать ему, что он не умеет писать художественные тексты. К его смущению, фурор, произведенный романом, порождает не только вопрос „Литература ли это?“, но и другой вопрос, который ставят перед собой те, кто хочет уйти от матерей, отцов или обоих родителей сразу, или вопрос, мучающий многих отцов и матерей, который они обращают к своим сексуальным партнерам. Вопрос звучит так: „Это моя литература?“ Чем меньше склонны читатели к центропупизму, тем меньше ужасов содержит для них роман, тем меньше подогревает он воображение читателя; вот об этом я и подумал вчера и пришел к следующему выводу: роман Натана – это классика безответственного преувеличения, издевательская комедия, странным образом проецируемая на все человечество; это произведение представляет собой выворачивание наизнанку авторской души, оживляемое бесстыдной наглостью описаний, где автор в гипертрофированном виде подает свои недостатки и предоставляет себе свободу, отчаянно веселясь при совершении дурных поступков, – здесь уже можно делать соответствующие выводы, которые говорят о внутренней распущенности автора.
Я говорил о романе „Карновски“, а не о самом Натане, и это все, что я намеревался сделать. Если бы у нас было побольше времени и мы могли бы провести здесь целый день вместе, я бы поговорил обо всех его книгах по очереди, долго и подробно разбирая каждую из них, потому что именно такую речь Натан хотел бы услышать на своих похоронах, – иначе говоря, такое выступление разочаровало бы его меньше всего. Ему моя речь показалась бы лучшей охранной грамотой от преходящих скорбных песнопений на похоронах. Книга, говори только о книге, – явственно слышатся его слова, сказанные мне когда-то на берегу, – потому что именно это может отличить нас обоих от тупоумных ослов. Несмотря на обнажение своей души в романах, писатель постоянно защищал свое право на уединение – не потому, что он исключительно любил одиночество, а потому, что кипучая, эмоциональная анархия и оголение в моральном плане были возможны для него только в условиях изоляции. Только оставшись наедине с самим собою, он жил полной жизнью без границ. Натан как художник, как парадоксальный автор самых безудержных фарсов, пытался, как ни странно, вести добропорядочный образ жизни, за что и получил награду, цена которой оказалась слишком высока. Я говорю об авторе, а не о Карновски, который до некоторой степени является грубой, звероподобной тенью писателя, развенчанным, искаженным обликом его самого, и, полагаю, Натан первым согласился бы со мной в этом утверждении: герой книги стал самым подходящим объектом для увеселения его друзей, особенно в эти горестные минуты».
Когда служба закончилась, присутствовавшие на похоронах стали выбираться на улицу, где толпа разбилась на небольшие группки. Люди, явно не желавшие расходиться так скоро, еще некоторое время потолкались у ворот, прежде чем вернуться к своим обыденным делам в тот октябрьский вторник. Время от времени слышался чей-то смех, не заливистый, не громкий, – так смеются, когда кто-нибудь расскажет анекдот после похорон. На таких мероприятиях можно увидеть, как кипит жизнь в других, но Генри далее не смотрел по сторонам. Многие из тех, кто пришел хоронить Натана, замечали его сходство с покойным писателем и потому бросали на него пристальные взгляды, но Генри старался не замечать их внимания. У него не было никакого желания выслушивать и далее разглагольствования юного редактора о колдовских чарах романа «Карновски», и его охватывала нервная дрожь при мысли о встрече и беседе с издателем Натана, пожилым лысоватым мужчиной, который со скорбным выражением лица стоял в первом ряду подле гроба. Генри хотел незаметно исчезнуть, не вступая в беседы ни с кем, – вернуться в реальный мир, где ценят и любят врачей, где, если бы читатели знали всю правду о его брате, всем было бы плевать на такого писателя, как Натан. Эти люди, присутствовавшие на похоронах, просто не понимают, что население думает о писателях: читателя занимают вовсе не те вопросы, о которых говорил юный редактор, – они интересуются, сколько баксов он получил за авторские права и почем продается его роман в бумажной обложке. Люди завидуют именно этому, а не дару «театрального преображения»; они знают, какую премию он получил, с кем он спит и сколько денег «наковал» мастер пера в своей маленькой творческой лаборатории. Точка. Конец некролога.
Но вместо того чтобы уйти, он стоял, поглядывая на часы, – делал вид, будто ждет кого-то. Если бы он сразу ушел, то не увидел бы ничего, что должно было произойти. Он закрыл свой кабинет и поехал на похороны, но это не имело никакого отношения к тому, что называется «нужным и правильным делом», – для него вопрос стоял иначе: ему было важно, что он сам ощущает, а не то, как другие оценивают его чувства, несмотря на разрыв отношений с братом, длившийся более семи лет. Мой старший брат, мой единственный брат! Тем не менее Генри прекрасно осознавал тот факт, что он, несмотря на известие о смерти Натана, полученное от его издателя, смог спокойно положить трубку на рычаг в своем кабинете и вернуться к работе. Ему даже стало тревожно на душе, когда он обнаружил, что ему не составило труда подождать до публикации заметки о смерти брата, появившейся в газете на следующий день; он притворился перед семьей, что ему ничего не сообщили о похоронах и не пригласили попрощаться с покойным, не говоря уж о том, что никто не поинтересовался, не хочет ли он выступить со словом прощания.