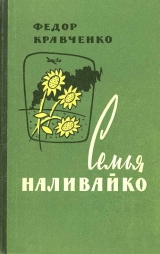
Текст книги "Семья Наливайко"
Автор книги: Федор Кравченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
XII
Мать хлопотала у печи и у стола, как несколько лет назад.
Глядя на нее, седую, счастливую, я думал, что она сильнее теперь, чем два – три года назад. Война не ослабила ее, а еще больше закалила. Она теперь – настоящий солдат!
Когда мы пили припасенную теткой Варварой наливку, чокаясь и громко выкрикивая тосты, мать вдруг сказала:
– И еще выпьем, за Виктора и за Гришу, им еще надо войну кончать. (Она знала, что Гриша уезжает на фронт.)
Гриша стоял за столом, будто на параде. И рюмку он поднимал, как ракетный пистолет. Лицо его было строгим, глаза смотрели прямо, уверенно. Честное слово, я по-мальчишески завидовал ему…
Максим серьезно разглядывал меня, видимо радуясь, что я нахожусь при матери. Наконец сказал:
– Я, мать, тоже на фронт собрался.
– Ой, горенько мое! – воскликнула мать. – Куда же ты пойдешь, такой калека?
–. А мне ходить много не придется. Залезу в снайперскую нору и буду фашистов постреливать. У меня, мать, глаз наметанный, врагу не поздоровится.
– Хватит без тебя стрелков на фронте, – сказала мать. – Мы тебя в колхозе оставим, как агронома. Фронту хлеб нужен.
– Но, мать…
– И не говори, сынок, не поможет: я этот вопрос уже решила.
«Вот ты какая, – с гордостью подумал я. – Сидору Захаровичу не уступишь».
Словно, подслушав мои мысли, Максим сказал:
– А как там Сидор Захарович? Воюет?
Он, кажется, хотел убедить мать, что если даже Сидор Захарович воюет, то ему, Максиму, и подавно нельзя в тылу сидеть. Мать насторожилась:
– Воюет. А что?
– А Степан?
– Степан герой, только он ранен, – тихо сказала мать. И, должно быть, побаиваясь, что Максим опять будет говорить про фронт, торопливо прибавила: – Вот если б еще Виктор залетел… Хоть на денек…
Максим, опустив голову, тихо сказал:
– А что же ты, мать, про Клавдию не спрашиваешь?
– Про Клавдию и сам расскажешь, если есть что, – сказала мать и, спохватившись, с тревогой спросила: – А Леня, Ленечка как, здоров?
Максим замигал глазами, слезы ослепили его. Мать смотрела на него – скорбная, строгая.
– Не уберегла? – спросила она.
– Умер, – ответил Максим. – Заболел и умер.
Мать подошла к столу, достала из ящика маленькую красную книжечку, в которую она вписывала вновь рождавшихся членов семьи и вычеркивала умерших. Со строгим и печальным лицом она открыла книжечку. Максим стоял, опустив голову.
Сердце защемило у меня. Я увидел зачеркнутые близкие и родные имена: Петр, Роман. (Мое имя было вновь вписано.)
Не садясь, мать зачеркнула имя Леонид, стоявшее рядом с Клавдией. Затем подумала, отточила карандаш и тщательно зачеркнула имя Клавдия – осталась лишь черная полоска.
– Ну, тем, кто с дороги, отдохнуть полагается, а нам в колхоз надо идти. Времени у нас теперь в обрез.
…Вечером мы ужинали у тетки Варвары. Максим интересовался боевыми подвигами Гриши и рассказывал о себе. Видно, ему не давали покоя успехи капитана. Наконец он спросил:
– Завтра сначала в военкомат или как?
– В военкомат, – сказал Гриша. – Оттуда прямо в часть. Да вы не волнуйтесь, мама, – сказал он, обращаясь к тетке Варваре. – Если до сих пор фашисты ничего не могли с нами поделать, то теперь кишка у них еще тоньше стала. Мы теперь научились их бить.
– Так, значит, сперва в военкомат? – задумчиво повторил свой вопрос Максим.
Мы с Гришей переглянулись, и мне стало смешно. Не думает ли Максим в самом деле опять уехать на фронт?
Гриша остался дома. Когда мы с матерью возвращались к себе, Максим глухо сказал:
– Ты, мать, не думай, что я с отчаяния… Была бы Клавдия, я бы все равно поправился и пошел… – Он помолчал. – Мне теперь трудно сидеть в тылу.
В душе я восхищался Максимом, однако молчал. Мать тоже молчала. Придя домой, она принялась за свою «бухгалтерию», не придав значения словам Максима. Проснувшись утром, мы увидели мать у стола. Казалось, она так и не ложилась спать. Стоя разбирала она какие-то бумаги. Аккуратно причесанная голова серебрилась в утреннем свете.
– Ты не спала? – удивленно спросил Максим.
– Спала, – улыбнулась мать, – без сна долго не протянешь. У меня на этот счет дисциплина. Ну, вставайте, сынки, завтракайте – и за работу. Тебя, Максим, после оформим.
Я быстро позавтракал и вышел на крыльцо. Было ясное утро. Солнце тонуло в облаках, но свет его просачивался сквозь них и наполнял воздух мягким сиянием. В колхозном дворе перекликались люди, шумел мотор трактора, у которого возилась Софья. На мгновение я закрыл глаза и с удивительной ясностью представил давно знакомую картину. Почудился бодрый голос Сидора Захаровича, в шутку покрикивающего на возчиков: «Заводи моторы!» и на шоферов: «Погоняй, погоняй!..»
– Андрей! – послышался голос Максима.
Я вернулся в комнату, Максим стоял возле матери, одетый, подтянутый.
Я вспомнил, как в сорок первом году он огорчался, что его, мирного агронома, посылают на фронт. Он опять волновался, о чем-то споря с матерью. Опустив голову, мать говорила как-то неуверенно:
– Не думай, что я как мать прошу. Агроном нужен. Если б ты не был сыном, я бы тебя все равно не отпустила.
– А раз я сын – оставлять меня тем более неудобно, – подчеркнул Максим. – А то, что Степан скажет, если узнает!
– Нет, нет, не отпущу! – твердила мать, мотая головой. – И не проси, сынок. Как мне одной тут справиться с таким хозяйством?
Максим впервые за все время обратился ко мне, как к взрослому:
– Слушай, брат: может быть, ты тут с матерью все-таки справишься без меня? Гриша говорил, что ты уже бросил свою обсерваторию и агрономом стал.
Мне хотелось ответить брату как следует. Я ведь тоже не лезу в карман за словом. Но мать так ласково глядела на меня, что я не отважился подтрунивать над старшим братом. «Так и быть, – решил я, – пусть думает, что я сдался».
Максим посмотрел на меня с насмешливой улыбкой:
– Думаешь ты, во всяком случае, как настоящий агроном – страшно медлительно.
Тут уж я не выдержал.
– Ладно; пускай едет, – сказал я, – не святые горшки лепят, с землей сами как-нибудь справимся.
Лицо Максима посветлело; я тут же съязвил:
– У Виктора небось уже вся грудь в орденах, а у Максима одна сиротка-медаль.
Максим окинул меня быстрым, недовольным взглядом. Казалось, вот-вот вспыхнет. Но он сдержал себя. Даже заулыбался, снисходительно глядя на меня. И когда за окном послышался голос Гриши, звавшего его, Максим сказал мне строго:
– Пока я вернусь из военкомата, продумай все, что нужно сделать в колхозе. Набросай план работы – вместе потом проверим…
XIII
Мы не говорили о братьях, но я знал, что мать думает и о них, и о невестках. Однажды она сказала мне как бы шутя:
– Привел бы ты невестку в дом, Андрюша. Трудно нам без хозяйки…
– Разве Анна Степановна не хозяйка? – спросил я, досадуя, что мать снова, как до войны, несправедливо относится к жене Романа.
– Анна недолговечная… – возразила мать. – Узнает, что Роман не вернется, и поминай как звали…
– Как тебе не стыдно, мама!
Мать знала, что я всегда был на стороне Анны, и все же она, кажется, не ожидала такого гнева с моей стороны. Мигнув растерянно глазами, она сказала, чтобы успокоить меня:
– Ну чего ты? Я ж тоже люблю ее…
«Люблю ее»… Выходит, что мать совсем не хочет, чтобы Анна Степановна ушла из нашей семьи? Но ведь Анна, как видно, и не собиралась уходить.
Ясно, что уже нет никаких надежд на возвращение Романа, однако в ее поведении нет даже малейших признаков отчужденности. Напротив, она стала роднее, ласковее.
По-прежнему сдержанная и застенчивая, она тайком стирала и гладила простыни и наволочки «для всех». Мне обидно было, что мать не замечает ни чистой наволочки у себя под головой, ни белоснежного полотенца возле умывальника;..
А как Анна ухаживала за малышами! Однажды к нам зашел Полевой, хлопотавший о том, чтобы устроить сирот Кирилюка в детский дом. Увидев, как Анна кормит «сирот», называя их «родненькими», Полевой понял, что она отвергнет его предложение, хотя и нелегко ей воспитывать трех «сынков».
Полевой смотрел на детей Кирилюка с такой радостью, словно это были его близнецы. Глаза его блестели, как у захмелевшего человека. Чувствовалось, что эти бедно, но опрятно одетые, чистенькие мальчики нравятся ему; он восклицал, обращаясь то к ним, то к покрасневшей от скрытого волнения Анне Степановне:
– Гвардейцы! Право слово, настоящие гвардейцы на данный момент. Ай да, Анна, ай да, молодчина!
Жаль, что мать не видела этой сцены.
Я сам, оторопев, не сразу сообразил, что Полевой восторгается благородным поступком нашей невестки, тем, что она, рискуя жизнью, спасла не только своего сына, но и чужих детей; тем, что она, оказавшись в страшной нужде, по-матерински выхаживала их… И вот вместе с ними вернулась в родные Сороки…
Волевой, много переживший партизанский вожак до такой степени расчувствовался, что втихомолку вытер носовым платком глаза. (Как будто в них соринки попали.)
Именно в эти минуты я понял, что Анна Степановна ни при каких обстоятельствах не покинет нашу семью. Особенно, если мать будет с ней ласковой и справедливой.
Мы уже знали – со слов Анны Степановны – обо всем, что произошло между Максимом и Клавдией. Другая на месте Анны Степановны злорадствовала бы: вот, мол, ваша любимая невестка! А Анна Степановна сказала с болью: «Трудно ей будет, ох, как трудно. Ведь она любит Максима…»
Анна Степановна была убеждена, что Клавдия бросит «своего инженера», с которым она так бездумно сошлась в Казахстане, и будет искать примирения с Максимом. Вспомнив об этом, я сказал матери:
– Надо написать Клаве, пускай приедет. Это – долговечная невестка.
Мать сверкнула глазами:
– Не знала я, что ты такой злюка, Андрюша.
– А зачем вы Анну обижаете?
– Я ее обижаю? Ох, Андрей, ты хоть и вырос, но ума не набрался. Я ж только и сказала, что она может нас покинуть. Сам подумай: она ж еще молодая. Ну, и самостоятельная. – Понизив голос до шепота, мать неожиданно добавила – Аж страшно, что она может Олега забрать…
«Вот оно в чем дело», – подумал я. По правде сказать, я и сам боялся этого. Ведь пока Олег в нашем доме, мне самому порой кажется, что Роман просто где-то отсутствует. Вот-вот откроется дверь, и он, показавшись на пороге, воскликнет с улыбкой: «Где тут мой сынок проживает?»
Анна ничего не говорила, но нетрудно было понять, что и ей легче переносить горе потому, что живет она в родном доме, среди своих.
Как часто я думаю теперь об Анне и Клавдии. Обеих война захватила врасплох, но Клавдия сама свое счастье погубила. Судьба сберегла для нее Максима, но он, видите ли, не нужен ей; у нее не хватило терпения дождаться конца войны.
А вот Анна ждала и ждет Романа, хотя уже нет никакой надежды, что он вернется. Зачем же судьба так жестоко поглумилась над ней?
Однако, что это я расфилософствовался? Судьба… судьба… Какая там судьба, – случай! Проклятый случай!
Максим тоже был на волосок от смерти и все же уцелел. Для чего? Для того, чтобы убедиться, что самый близкий человек изменил ему?
Анна не по своей вине стала несчастной… А Клавдия сама виновата. Человек в дни испытаний должен быть твердым и осмотрительным. Надо учиться на своем и чужом опыте…
Уж я постараюсь, черт возьми, избежать ошибки, допущенной Максимом. Мать хочет, чтобы я привел невестку в дом? Может случиться, что и приведу. Только она не будет такой, как Клавдия. Нет, нет! Мне бы такую, как Анна, найти…
Но почему я опять подумал о Наташе?
Меньше всего я должен сейчас думать о себе, о том, что и мне когда-нибудь придется жениться. Рано… Рано думать об этом. Я вообще говорю о том, что человек, собираясь обзавестись семьей, должен хорошенько разобраться в невесте. Но ведь Клавдия любила Максима! Боже мой, как она рыдала, когда он уезжал на фронт…
Однако, что же происходит со мной? Почему меня тревожит не то, что Клавдия не вернется в наш дом, а как раз то, что она может вернуться? Жалко Максима? Нет, не жалко; просто я не хочу, чтобы такая женщина оставалась его женой.
Я спросил мать:
– А если Клава в самом деле заявится, тогда что?
– Об этом Максима спроси, – со вздохом ответила мать.
– Но ведь ты так любила ее!
– Было – сплыло…
XIV
Наташа навсегда осталась в Сороках. Она работала в нашем колхозе и все грустила. Иногда к ней приходили оборванные люди из ее разоренного села. Они с завистью оглядывали восстановленные дома. Наташа тихо беседовала с ними. Часто я видел ее заплаканной и удивлялся: раньше она была иной. Может быть, затосковала по партизанской жизни?
Однажды Наташа сказала матери:
– Пропал наш колхоз на веки вечные. Фашисты все сожгли и сожрали. Хаты можно отстроить, а что без скота делать? Хоть бы телок где достать… Я бы всю жизнь отрабатывала за телок…
– Хочешь корову себе завести? – спросила мать.
Наташа почему-то обиделась.
– Не себе – колхозу, – сказала она. – Если бы нам телок да поросят достать, мы бы тоже ожили.
– Наш колхоз поможет, – сказала мать – И не надо будет всю жизнь отрабатывать… Потом будут и у вас телята – отдадите. Как ты думаешь, Андрей, поможем соседям?
Мне хотелось расцеловать мать, только я постеснялся при Наташе. Зато Наташа так целовала ее, что мать не выдержала и расплакалась.
Теперь не только мы, но и Наташа ждала возвращения нашего стада.
Мы все чаще выходили на дорогу, по которой колхозники угоняли колхозный скот.
Дорога вела на станцию мимо старых дубов. Казалось, она ведет к самому солнцу. Зимой, укатанная полозьями саней, она блестела, как серебряная река; летом пролегала сиреневой полосой в зелено-серебристом море хлебов. Теперь она имела другой вид. По обочинам, вдали, чернели дымоходы сожженных строений. Но ближе новые хаты купались в солнечном свете.
Как-то утром я с восхищением разглядывал нашу хату. Ослепительно белели стены, украшенные орнаментом, который я успел нарисовать; в открытое окно вырывалась занавеска, словно кого-то звала. Вся земля была залита светом. Казалось, это был праздник солнца. Оно сияло так, будто хотело осветить самые темные уголки. Оно до того было щедро, что даже под навесом стало светло, можно было заметить каждую соломинку. Солнечный свет, отраженный белой стеной хаты, разливался по всему двору.
Мы вышли на улицу, заслоняясь ладонями от солнца. Всех взбудоражил Степа, прискакавший верхом на коне. Он видел где-то далеко большое стадо коров, направлявшееся в Сороки. Колхозницы недоверчиво глядели на дорогу и вдруг заволновались: вдали показалось облако пыли. Постепенно можно было различить стадо. Шли коровы, быки, телята… Словно почувствовав конец пути, они приближались все быстрее и быстрее, наконец побежали, налезая друг на друга, помахивали головами, словно кланяясь людям. Над ними, как привидения, то тут, то там показывались в облаках пыли верховые погонщики.
У ворот остановилась подвода, с которой проворно спрыгнула Настя Максименко. Долго глядела она на новые постройки, словно и не заметив людей. Потом расплакалась и начала обнимать встретивших ее колхозниц.
– Перестань, не расстраивайся, Настенька, – успокаивала ее мать. – Что ты, ей-богу, как маленькая.
Впрочем, они обе плакали и смеялись одновременно. Я заметил слезы не только у матери и Насти, но и у других колхозниц. Одна из них, плача, принесла ведро с водой, чистое полотенце и заставила Настю «умыться с дороги». Затем повела ее в дом. И пока Настя и ее спутники обедали, колхозницы загоняли стадо в новый, свежевыбеленный коровник. Они похлопывали коровьи шеи, хватали за рога и с радостным изумлением восклицали:
– О, та це ж наша Ласточка!
– А ось Белолобка!
– И Красуня вернулась! А це ж не иначе – от нее телка.
– С приплодом пришли! – весело кричала тетка Варвара. – Молодец, Настя!
Колхозницы наперебой ласкали коров и телят, вводя их в помещение и угощая хорошим сеном. Они разговаривали с ними, как со старыми знакомыми.
С этого Начался настоящий праздник в колхозе. Все с восхищением говорили про Сидора Захаровича и про мать.
Степа притащил гармошку, подаренную Насте колхозом «Луч». Меня заставили играть. Я чувствовал, что плохо играю, но никто не замечал этого. У всех было хорошее настроение, и как-то сама по себе началась пляска.
Степа и Наташа – плясали с уморительным азартом, и все смеялись, поощряя их. Вдруг Настя подошла к Софье, державшей на руках ребенка, взволнованно сказала:
– Софийка, голубка, глянь, кого мы с собой привезли…
И тут все увидели стоявшего у забора Степана в шинели и старой командирской фуражке. Он только что слез с коня, огляделся и замер, поджидая Софью. Она почему-то покраснела и бросилась к Степану, протягивая ему ребенка. Губы ее шептали:
– Возьми же его, Степочка, возьми, хоть подержи. Это же наш сын… Виктор… (Она назвала сына в честь моего брата.)
Но Степан стоял неподвижно, держа левую руку в кармане; правой он как-то странно шевелил, будто хотел сбросить обтянувшую ее кожаную перчатку.
– Не могу, Софийка, – глухо сказал Степан, – не сердись, голубка моя…
Софья зарыдала. И все тогда узнали, что Степан, наш механик и тракторист, попав в плен, пытался убежать на немецком мотоцикле, но гитлеровцы отрубили ему кисти обеих рук. И все же он снова убежал. Из госпиталя он поехал искать Софью и, не застав ее в колхозе «Луч», отправился с Настей в Сороки.
Ночью Степан и Софья долго говорили в соседней комнате, и мы никак не могли уснуть. Мать спрашивала:
– Ты спишь, Андрей?
– Нет, не сплю.
– Спи, сынок. Отдыхай. Завтра много работы.
Но и сама она не спала – все вздыхала, ворочаясь; наконец прошептала:
– Вот и Степан объявился. А что с нашим Виктором?
Я молчал.
Что я мог сказать матери, если война еще не закончилась и каждую минуту брат мог погибнуть! Мать словно догадалась, о чем я думаю, и тихо сказала:
– Знаешь, сынок, как будет жалко тех, кто погибнет в последнем бою… Вот когда уже будут наши в Германии… – Она помолчала и сама себе возразила: – Глупости я говорю. Разве можно знать, когда будет последний бой? Если бы только фашисты были нашими врагами! А то фашистов разобьем – другие найдутся. Ну, мы уже всем показали свою силу. Пускай лучше нас не трогают… – В голосе матери зазвучала печаль:
– А трудно будет нам, сынок. Ох, как трудно! Сейчас еще все мы горячие… за все беремся… Кажется, за неделю жизнь восстановим. А разве можно за неделю восстановить то, что годами наживали? Ты комсомол собери, Андрей, поговори со всеми. Наташу надо будет секретарем избрать. Она честная и бедовая дивчина. Комсомолу придется и теперь показать себя, как после гражданской войны. А как же… Мы только думаем про коммунизм, а вы жить в нем будете.
И Полевой высказался за то, чтобы Наташа стала секретарем комсомола. Но с ней что-то невероятное произошло.
Помогая Анне Степановне ухаживать за малышами, она так увлеклась этим делом, что все свободное время проводила в бывшей «холодной хате», где когда-то жили Максим и Клавдия. Накануне комсомольского собрания Наташа вышла из этой комнаты такая преображенная, что я просто не узнал ее. На ней была легкая зеленоватого цвета шелковая блузка и такая же новая темно-серая юбка. Лицо ее стало совсем другим, потому что голова, обычно покрытая мужской шапкой, была украшена синим бантом, а к розовым мочкам ушей были прикреплены золотистые, с красными камешками, клипсы. Ей-богу, она стала красавицей!
Ах, эта Анна Степановна! До чего же она хороший человек! На днях она сшила сатиновую рубашку Степе, а нынче Наташу принарядила.
Мать тоже ахнула, увидев бывшую партизанку. Тут же она пошутила, заметив, что я просто обалдел, когда Наташа улыбнулась, показывая нам свой наряд:
– Хороша Маша, да не наша.
Я промолчал, тем более, что Наташа, прошмыгнув мимо нас, заторопилась на улицу.
Она раньше всех пришла в сельсовет, где собиралась никогда не унывающая комсомолия. Тут как раз и произошел конфуз: ребята не решились подойти к Наташе; они словно бы оробели перед ней.
Когда же надо было избрать секретаря, они удостоили этой чести не Наташу, а меня. И я ничего не мог поделать…
Когда я сказал об этом матери, она рассмеялась, затем произнесла с неожиданной печалью в голосе:
– Что ж это они такого седенького выбрали?
Я видел, как Наташа поникла после собрания. А ведь на собрание шла она с гордо поднятой головой.
Однако же и она голосовала за меня. А когда возвращались домой, сказала: «И правильно, что именно тебя выбрали, Андрей. Разве я могла б справиться?»
Надо все же отдать ей справедливость: она со всяким поручением справлялась. И она всегда была хорошим товарищем… Я привык к ней еще в лесу и мог по душам говорить обо всем: о войне, о колхозном хозяйстве, о нашей семье… Даже о своей сокровенной мечте. (А я уже мечтал о своем агрономическом будущем…)
Одного я не мог ей доверить – того чувства, которое все еще жило и жило во мне, хотя Нины уже не было на свете и я понимал, что рано или поздно придется мне все-таки подумать о себе. Ведь мать права: я уже взрослый человек. Конечно, у меня будет (должна быть) жена.
Но разве я мог сказать Наташе, что люблю Нину? Что никакая другая девушка не сможет заслонить ее образ?
Но что же меня привлекало в Наташе? Почему я так обрадовался, увидев, что она принарядилась и стала гораздо интереснее? И почему мне хочется, чтобы все заметили, что она хорошенькая? Выходит, что она не совсем безразлична мне…
Может быть, именно потому мне было как-то совестно перед Настей Максименко? Честно говоря, я боялся, что Настя начнет расспрашивать меня про Наташу. Откуда взялась эта девушка? Почему она каждый день заходит к нам в дом, хотя живет у тетки Варвары? И не думаю ли я на ней жениться?
Тревога моя оказалась напрасной. Настя по-прежнему была приветливой и ни о чем не спрашивала меня. О Нине она знала все, что я мог рассказать, а Наташу просто не замечала.
И вдруг, когда я совсем успокоился, Настя попросила меня сходить вместе с ней на станцию, где под ветвистым кленом спала вечным сном Нина. Я растерялся. Более того: я испытывал и стыд, и боль, и раскаяние. Ведь в последнее время, занявшись восстановлением колхозного хозяйства, я порой забывал о Нине. Нет, не о ней забывал, а о том, что надо отнести ей букет полевых цветов. Ведь это же я покрывал васильками и ромашками ее могилу по утрам, когда наш край возвращался к солнцу. Многие удивлялись, видя, что могилка Нины всегда украшена свежими полевыми цветами… А вот теперь мы с Настей придем на станцию и увидим всеми забытый холмик земли, под которым лежит наша Нина…
«Наша Нина…» Это не я так сказал, а Настя.
– Скучно ей там одной – нашей Нине, – говорила Настя, притрагиваясь к моему локтю. – От я и подумала: хоть и далеченько, а треба сходить к ней. Хоть на могилку ее глянуть…
Мне стало грустно еще и потому, что та степь, по которой мы шли, уходила от солнца. (Люди говорят: солнце садится.) Где-то в Закарпатье оно еще радовало людей, а над Сороками и прилегающими к ним полями уже гасли золотисто-розовые облака, и горизонт заволакивался сиреневой дымкой. Лучше б мы навестили Нину в такое время, когда все вокруг озарено ярким и необыкновенно приветливым утренним солнцем. Но что можно было поделать, – Настя не желала откладывать эту печальную прогулку до утра.
Мы шли, перекидываясь такими фразами, которые постороннему человеку могли бы показаться странными. Настя сказала:
– А солнце и теперь всходит по утрам…
– Да, всходит, – согласился я.
– Вчера было такое яркое-яркое. Ну, как тогда… Помнишь?
– Помню.
– Я думала, що теперь оно будет хоть трошки не такое. А оно хоть бы капельку изменилось. Больно мне от солнца…
Мы замолчали. Приблизившись к станции, мы вдруг увидели, что возле самой могилы Нины кто-то стоит. Можно было подумать, что это памятник. Только светлая, тронутая последними лучами, чуть трепещущая на ветру одежда застывшей над могилой девушки говорила о том, что это не изваяние.
Это была Наташа. Она держала в руках большой букет полевых цветив.
Как некстати она появилась здесь. Я просто не знал, как повести себя, когда и Настя узнает Наташу.
Но вот Настя сказала, задерживая меня у придорожного тополя:
– Постоим тут, Андрюша. Хоть и совестно, а только я скажу правду: думала я, що она невеста твоя. А вона ж подружка нашей Нины. Бачишь, як горюет…
Прошло несколько минут. Мы все еще не двигались, стоя под тополем. Настя, тяжело дыша, держалась за мой локоть, словно боялась, что упадет. И вдруг снова заговорила – на этот раз как-то особенно ласково:
– Каждый день ходит она сюда. Ну, нехай поговорит с Ниночкой, а мы тут побудем. Я вчера ее всполохнула…








