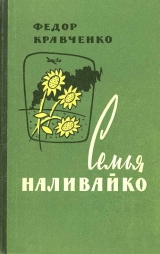
Текст книги "Семья Наливайко"
Автор книги: Федор Кравченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)

Федор Кравченко
Семья Наливайко
Памяти брата Филиппа, павшего в боях за Родину
Слово читателя
Повесть «Семья Наливайко» издается не впервые, поэтому я, как рядовой советский читатель, вправе сказать несколько слов и об этой книге и о самом авторе. Федор Кравченко принадлежит к числу тех писателей, которые вышли из среды трудового народа и всю жизнь не порывают с ним связи. Кроме «Семьи Наливайко», он написал роман «Отамановы дубы» и ряд повестей: «На дорогах Украины», «Любимый город», «В Старой Дубровке» и др. Его перу принадлежит пьеса «Жаркое лето», удостоенная премии на Всесоюзном конкурсе. Я знаю созданные им в содружестве с композиторами Т. Хренниковым и Н. Будашкиным песни.
Начав печататься еще в 1925 году на Украине, он много лет посвятил изображению жизни простых советских людей, тех, кто активно строит коммунизм, преодолевая все, что стоит на их пути.
Повесть «Семья Наливайко» отмечена в 1946 году ежегодной премией ЦК ВЛКСМ, как одна из лучших книг для молодежи, но она с большим интересом читается всеми – и взрослыми, и даже школьниками. В ней ярко и правдиво нарисованы характеры советских патриотов, участников Великой Отечественной войны. Семья Наливайко как бы символизирует всю нашу страну. Повесть Ф. Кравченко, несомненно, принесет радость и душевное удовлетворение тем читателям, которые еще не знакомы с ней и получат эту книгу в ее новом – исправленном и дополненном – издании.
Алексей Алелюхин,
Дважды Герой Советского Союза
Часть первая
Первая тетрадь Андрея Наливайко

Я решил записывать в эту тетрадь все, что пришлось и придется еще пережить за время войны. До сих пор меня учили и проверяли другие; теперь я сам себе учитель. Впрочем, у меня есть еще один наставник – война. Его – единственного из всех моих учителей – я ненавижу и проклинаю.
Война разлучила меня с матерью и братьями; она убила Нину. Она учит меня страхом. Но я хочу стать сильнее ее…
Фантазер, правда?
Не скрою; меня называли фантазером в школе. Я увлекался астрономией и любил фантазировать. Я мысленно путешествовал по крохотной планетке Адонис, поперечник которой составляет всего лишь полкилометра. Мне хотелось выкрасить звезды. Ведь это так красиво – небо в разноцветных звездах. Вселенная – как огромный цветник…
Когда я поделился своими мыслями с Костей Вороной, он дернул плечом:
– Мелешь всякий вздор! И если хочешь знать, так звезды и без того цветные. Ты этого не замечаешь потому, что слепец.
Костя – мой бывший одноклассник, сосед. У меня с ним сложные отношения. Похоже на то, что мы дружим, а вот отец его ненавидит нашу семью. Ненавидит давно, с 1930 года. Ведь наш дом стоит на земле его предков…
Об этом я еще расскажу. Нынче мне не до предков, с которыми я, к слову сказать, и не был знаком. Загадкой для меня остался Костин батя – Александр Иванович Ворона, колхозный ветеринар. Вот у кого душа – потемки.
Но знаю ли я самого Костю? Может быть, я и в самом деле слепец?
Что греха таить, донимает он меня своими насмешками. И особенно неприятна эта глупая кличка.
Правда, и Косте досталось как-то. Меня защитила Анна Степановна – наша невестка. Возмутившись тем, что Костя потешается над моей близорукостью, она сказала:
– Стыдно так говорить. Что касается фантазерства, то это не порок, а ценный дар. Жалок человек, лишенный фантазии…
Мы с Костей и здесь, в лесу, продолжаем спорить. Мы – разные. Он стал партизаном, а я вот предаюсь воспоминаниям. Теперь он без зазрения совести может называть меня пустым фантазером…
В памяти всплывает еще один образ. Максим, мой старший брат. Он также потешался над моими фантазиями. Но у него это получалось иначе. Он добродушен. И я ведь знаю: взрослые вообще любят дразнить малышей. С ним, однако, нетрудно спорить, он и сам фантазер. Он хотел вырастить пшеничный колос, который дал бы ему килограмм зерна.
Где он теперь, этот мирный агроном?
Будь Максим нынче на моем месте, он не стал бы хандрить, как я… Возле землянки появился бы опытный участок, где он выращивал бы свои диковинные овощи для партизан. А я вот унывать начинаю…
Впрочем, это минутное настроение. Достанут мне подходящие очки, и я снова буду полноценным бойцом. А пока что, как «допотопная барышня», пишу дневник.
«Барышней» назвал меня Костя. Он догадался, что я веду дневник, и постоянно следит за мной. Как-то он сказал:
– Ты, оказывается, как допотопная барышня, дневничком обзавелся.
Меня разозлило это. Что ему нужно, этому приставале? И все же я спокойно ответил:
– Я старые задачи от скуки решаю…
Он не поверил. Людмила Антоновна после рассказала мне, что Костя перерыл всю землянку. Я стал еще осторожнее. Моя тетрадь – это моя душа, а в свою душу я Костю не впущу.
Я прячу тетрадь в специальной ямке в излучине реки. Так легче будет найти ее. Дерево может исчезнуть, а река останется. Это недалеко от нашей землянки. Кроме меня, ямку знают некоторые партизаны. Кто-нибудь из нас все же останется в живых и сумеет передать мои записки матери.
Костя не знает и не должен знать, что я пишу о нем. Иначе он убьет меня.
Я не стал бы его терпеть, если бы командир не приказал нам поселиться в одной землянке. Полевой думает, что мы настоящие друзья. Когда я потерял очки, он в шутку назвал меня кротом и сказал, что Костя должен стать моими глазами. Костя головой отвечает за «крота»…
Славный у нас командир; с ним чувствуешь себя легко, хорошо. У него спокойный, правдивый взгляд. Ясный он человек. И все же иногда я не понимаю его. Однажды он сказал:
– Ты, Андрей, комиссар землянки. Смотри за своим приятелем. Порой, знаешь, самым близким друзьям нельзя доверять.
Я ничего не понял, но стыдно было сознаться в этом. Допустим, Полевой не доверяет Косте. А мне?
Костя – мои глаза. Но он не увидит моей тетради. Хоть я и «крот», однако же читать и писать могу без его помощи.
Вот и сейчас лежу в густом, колючем кустарнике и пишу. Сюда сам черт не доберется. Из нашей землянки я вылез тайным ходом. У нас, кроме главного хода, есть два запасных. Их можно обнаружить только изнутри, а главный так замаскирован, что даже партизаны находят его с трудом.
Я выполз, как настоящий крот, и лежу у самой норы. Лежа удобнее писать. Мне помогает моя дурацкая близорукость: я пишу, уткнувшись носом в тетрадь.
Надо мной ясное небо; на моих руках и на тетради чуть шевелятся солнечные пятна – ветер колеблет листья над головой… Тепло. Кажется, совсем еще лето. Чудится далекое кукование «врушки-кукушки». Я думаю о жизни. Сколько лет мне еще жить? Если переживу войну, жить мне до глубокой старости. Я должен стать ученым. Хочется сделать какое-нибудь важное открытие. Мне не дает покоя слава француза Леверье. Ведь нашел же он новую планету. Может быть, я обнаружу в небе новую звезду?
Куда мне, «кроту», до звезд!
Займусь пока землей, как советовал мне Максим. Звезды хороши ночью, а днем – земля. Посмотрим, что делается на земле. А! Муравьи. Где только они не водятся! Трудятся, невзирая ни на что. Вот один тащит к муравейнику сухую личинку. Какие невиданные пропорции! Чтобы понять это, надо вообразить человека, тянущего водонапорную башню.
Я воздвигаю «противотанковое заграждение»: кладу камень на пути муравья. Меня интересует его сметливость. Покинув на минуту личинку, муравей уходит в разведку, исследует правый и левый фланги. Наконец он со своим грузом «обтекает» камень и направляется к муравейнику.
Молодец, муравей!
На секунду отрываюсь от тетради. Какой чудесный осенний день! Солнечный свет можно пить, как вино. Облака закрывают солнце, и все же в воздухе разливается золотое сияние. Кажется, желтая листва излучает впитанный ею солнечный свет. В лесу сегодня все так просто и безмятежно.
А в селах хозяйничают гитлеровские головорезы.
Я пишу и думаю о матери. Она произнесла только одно слово – «война», и я понял, что моим вузом станет фронт. Правда, я очень близорук; я мог бы тогда, в прошлом году, уехать подальше в тыл, чтобы продолжать учебу. Но разве можно – хотеть этого, когда все уходят на фронт?
Максим злился тогда на меня. Он хотел, чтобы я остался с матерью, оберегал ее. Чудак! Он не мог понять, что матерей надо защищать на фронте.
Но я расскажу обо всем по порядку, пока Костя где-то воюет, а Людмила Антоновна стирает пеленки и готовит обед. Хочется рассказать обо всем, что с нами произошло с тех пор, как началась война.
I
В нашем доме возникли распри из-за меня. Да, я был повинен в том, что мать поссорилась с Анной Степановной – младшей невесткой, женой Романа.
К нам Анна Степановна пришла спустя два года после Клавдии; пришла с двумя чемоданами, которые нес вслед за ней улыбающийся Роман. В одном из этих чемоданов были платья, белье, в другом – книги и разные безделушки. Роман, как бы извиняясь, говорил матери:
– Вот и все наше приданое. Моя Аня не чета Клавдии…
Он сказал так потому, что Клавдия на двух грузовиках привезла свои вещи. Максим поселился с ней в пустовавшей комнате, которую мать называла «холодной хатой». Зимой там стояли тарелки с холодцом; от стен веяло сыростью и скукой. Только в одном углу висела картина, на которой был изображен поражающий дракона Георгий-победоносец. Мать сердилась, если кто-нибудь из нас говорил, что это икона:
– Такое придумаешь! Это ж не бог, а вояка.
Клавдия выбросила «вояку» в кладовку и повесила вместо него «Золотую осень» Левитана. При этом она хвастливо заявила, что эту копию знаменитой картины подарил ей один московский художник, с которым она познакомилась в поезде. Максим хмурился: он ревновал Клавдию даже к тем, кому она нравилась до замужества. Но и он полюбил этот прекрасный пейзаж.
Роман жил с Анной Степановной в узкой, похожей на коридор комнатушке, где все еще висели мамины рушники, где стол был покрыт маминой скатертью… Сложив чемоданы на табурете и покрыв их белым платком, Анна Степановна сделала нечто похожее на туалетный столик.
А у Клавдии было все «настоящее»: трельяж, комод, шкаф, венские стулья. Окна она украсила белыми кружевными занавесками. На полу лежали яркие домотканые коврики. И постоянно из ее жилища доносился сильный запах духов…
Анна Степановна никому не завидовала. Она говорила Роману, посмеиваясь:
– Ничего, скоро и мы заживем, как буржуи…
Клавдия не выносила ее насмешливого тона.
С тех пор как Анна Степановна поселилась с ней под одной крышей, Клавдия стала еще ласковее не только с мужем, но и с нами, его братьями, особенно с мамой.
Меня, десятиклассника, она при всех целовала, как малыша. В своем портфеле я часто обнаруживал ее гостинцы – конфеты, пряники. Когда я шел в клуб, она шутя брызгала на меня духами, чтобы я «девчатам нравился»…
Клавдия и Нину Максименко любила потому, что я увлекался ею…
И все же мне больше нравилась строгая, сдержанная Анна Степановна. Она была не только моим классным руководителем, но и сестрой. Именно сестрой. Клавдия не думала о моем будущем, не интересовалась, о чем я мечтаю, с кем я дружу. А с Анной Степановной я мог делиться самыми сокровенными мыслями. Она не жалела меня, близорукого, как остальные, в том числе и мать; она убеждала меня, что я полноценный человек; говорила, что мое будущее представляется ей интересным, радостным. Но она же и распекала меня за мои промахи.
Однажды, когда мать и Клавдия потребовали, чтобы я перестал наконец дружить с Костей Вороной, Анна Степановна сказала:
– А я недовольна тобой, Андрей, потому, что ты не стал его настоящим другом.
Эти слова ошеломили мать, вызвали бурю в душе старшей невестки.
– Какая чепуха! Боже, какую ты чепуху мелешь, Анна! – воскликнула Клавдия. – Наш Андрей… должен стать настоящим другом Кости… Послушай, Роман, что твоя женушка говорит…
– Женушка у меня дельная, – сказал Роман.
А сама Анна Степановна повела атаку против старшей невестки. Насмешливо улыбаясь, она заговорила о том, что все зависит от воспитания. В человеке можно воспитать любые качества. Андрей должен был повлиять на Костю как комсомолец, а он, мол, «сдает позиции»…
Я собирался возразить, но Анна уже заговорила о другом:
– Даже взрослому можно привить и хорошее и дурное. Иной сильный мужчина становится тряпкой, попадая под влияние какой-нибудь красавицы…
Мать сердито перебила Анну Степановну:
– А ты кого наслушалась? Может, на тебя Ворона влияет? Что ты этого выродка защищаешь?
Мать ненавидела Ворону, Костиного отца.
В тридцатом году, во время коллективизации, он своими руками уничтожил доставшийся ему в наследство сад. Он не хотел, чтобы его добро стало собственностью артели. Три гектара сада давали ему большой доход. Ворона был зажиточен и хитер, но не в меру горяч. В течение одной ночи он вырубил все деревья в своем саду…
Когда он вернулся из тюрьмы, на пустыре, рядом с его домом, стояла новая хата под соломенной крышей. Вскоре мои старшие братья покрыли ее железом; вокруг нашего дома были посажены яблони, груши, вишни… Один вид этого молодого сада бесил Ворону, вызывал в нем ненависть к нашей, в сущности, ни в чем не повинной семье.
Ворона постоянно оскорблял мать, называя ее «грабительницей». Она тоже возненавидела этого озлобленного и несправедливого соседа.
– Я не защищаю старого Ворону, – спокойно возразила Анна Степановна. – Речь идет о Косте…
Мать снова перебила:
– И слышать не хочу про это. Лучше посоветуй Андрею, чтоб он не связывался с тем выродком…
В другой раз они также сцепились из-за меня. Я вдруг приуныл. Меня и в город тянуло, и село жалко было покинуть.
– Можешь заочно учиться, – сказала Анна Степановна.
И снова мать и Клавдия отчитали ее: она, мол, сбивает меня с толку. Но ведь Анна Степановна ничего плохого не сказала. Раньше она сама хотела, чтобы я стал ученым. А тут вдруг поняла, что я без памяти люблю свои Сороки. Да и как же их не любить?
Нынче наше село притихло, как человек, очутившийся посреди ночи в диком лесу. (Того и гляди, хищный зверь накинется на тебя…) А каким оно было до войны! Как пело и разговаривало по утрам!
Бывало, проснешься и видишь, как, словно перекликаясь, одно за другим вспыхивают окна. Вот загорелось электричество в доме председателя колхоза; полился яркий свет из окон соседних домов. Еще минута – и оживились самые дальние хаты.
Сквозь густые ветки деревьев просачивается нежная лимонная краска. Дом не виден, но отлично слышишь, как звякает щеколда дверей, как кто-то торопливо умывается возле колодца, ахая и шутливо пофыркивая. Затем на улицу устремляются женщины, подростки… Порой увидишь старушку, догоняющую стайку шумливых девчат…
Ржание лошадей перекликается с рокотом автомобильных моторов. Затем раздается блеяние овец. В светлеющем воздухе извивается, стреляя, кнут пастуха. И говор… бодрящий человеческий говор везде заглушает пение птиц – на главной улице, на взгорье, где размещен колхозный двор, у реки, отгороженной от круглых верб зеленой стеной камыша…
Анна Степановна сама влюбилась в наши Сороки. Она хорошо понимала меня. А мать и Клавдия считали ее моим недругом. Даже Максим ожесточился против нее. Он как-то сказал о ней: «В семье не без урода». И это было особенно обидно для Анны Степановны, так как она слишком неказиста по сравнению с высокой и статной Клавдией.
Но мне она нравится. И у меня хватит мужества даже признать, что она права: в своих отношениях с Костей я в чем-то «сдал позиции»…
II
Вспоминаю одну летнюю грозу. Она началась так: из-за синей полоски горизонта выглянула темно-серая туча. Словно разведчик, озирала она село и поля. Вслед за ней появился целый отряд – темно-серые, бурые, синие тучи двигались, словно танки, вперед. Послышалась отдаленная канонада грома; засверкали молнии, и в серебряном шуме дождя шрапнелью посыпался на землю град. Он барабанил по крышам, подпрыгивая, как резиновые шарики, ударялся о стены домов; белые стены потемнели от дождя; в продавленных колесами колеях заструилась вода.
Град обрушился на цветник, и на сломанных стеблях беспомощно повисли цветы, которые с любовью сажала мать.
Недолго, однако, бушевала гроза. Налетел ветер и рассеял тучи, погнав их на север. Снова прояснилось небо, засверкали на солнце влажные крыши домов. Яркие росинки вспыхнули в мокрой траве. Земля вновь ожила, но цветник был разгромлен; в лужах, окружавших его, лепестки гвоздики блестели, словно капли крови.
Напрасно поднимал я головки цветов: сломанные стебли не могли их держать; цветы падали в грязь. Я готов был заплакать от досады… Внезапно меня окликнул Костя. Засучив обе штанины до колен, он, как аист, ступал по воде.
– Вот град так град! – горланил он. – У Квашихи окна побил, а у Насти петуха ранил. Лежит и ногами дрыгает.
Я спросил:
– Так чего же ты смеешься?
– А что ж я, плакать буду?
– Ох и дурень, а еще в школе учишься.
– Сам дурень.
– Потише, а то так припечатаю…
– А я сдачи дам.
– На задаток пока…
Я собрался ударить Костю, но он отскочил и, разбрызгивая во все стороны жидкую грязь, начал медленно удаляться.
– Раз так, я тебе ничего не скажу. Один уеду…
По тону Кости я догадался, что он не зря пришел ко мне в такую погоду. Он что-то задумал.
Мы часто ссорились, но все же дружно жили. У него был отец, но не было матери; у меня отца не было, но была мать. Я ему никогда не завидовал, а он не мог смотреть на меня без зависти. Отец покупал ему черные и серые рубахи, чтобы незаметно было, когда загрязнятся. А моя мать всегда шила мне и братьям светлые – белые, розовые, голубые. Когда мы все садились за стол, в хате было как весной в саду. Иногда Костя просил у меня на воскресенье «поносить» сатиновую рубаху.
Мне не нравился Костин характер, это правда, но я жалел его. Ведь он никогда не знал матери. Было ему только три года, когда мать умерла, и он ее не помнил. А у меня такая хорошая мама. Когда я был совсем маленьким, она приносила мне с базара гостинцы. Придет, бывало, в зимний день красивая, краснощекая. Я лезу к кошелке, а она гонит меня: «Простудишься». Потом сама вытащит из кошелки длинные такие конфетины, завернутые в чистый белый платок, и угощает. Целует и угощает. И не то чтоб от конфет было сладко, – материнская ласка – вот что запомнилось на всю жизнь.
Я догнал Костю у колодца. Он не спешил уходить. Он знал, что я догоню его.
Я спросил:
– Ну, что ты хотел сказать?
Он молчал. Меня это озадачило: он вообще болтун.
– Ты чего молчишь?
Костя зажмурил глаза, губы у него задергались.
– Наверно, опять у батьки папиросы стащил? – сказал я.
Я сделал вид, что собираюсь уходить. Он схватил меня за плечи и начал трясти. Он сильный, черт. Повалил меня на борт колодца и в шутку колотил, не давая передохнуть. Я вырвался, а он снова догнал меня и стал щекотать, давясь от смеха.
– Говори ты, косолапый черт, – закричал я, – а то все волосы выдергаю! (Волосы у него рыжеватые, жесткие, словно медная проволока.)
Он посмотрел на меня уже серьезно.
– Киномеханик сказал, что в Киеве есть трубы, в которые на звезды смотрят. Ты хочешь на звезды посмотреть? – Он лукаво подмигнул мне. – Поедем в Киев, мне один железнодорожник обещал достать билеты. Там и школы есть.
– Какие школы?
– Такие… Для меня и для тебя. Для тебя музыкальная. Называется она… Постой… как же она называется? Консерв… коне…
– Какие там консервы! – засмеялся я. – Консервы – это рыба в жестянке.
– Да не консервы, – рассердился Костя и вдруг выпалил: – Консерватория! А для меня драминститут. Там на артистов учат.
Я долго не поддавался его уговорам. Разве можно бросить родное село? Однако и поездка сулила много. Шутка сказать: Киев!
Что, если Костя один уедет? Можно ли было допустить, чтобы Костя уехал без меня?
Стыдно сознаваться, но и я тогда решил уехать из Сорок. Ведь мы были совсем еще мальчишками… Не то, что теперь…
Подготовились оба как следует: я дал Косте свою белую рубаху (все-таки в город едем, пусть пофорсит). Взяли хлеба, яиц и пошли на станцию.
Был ясный и теплый день. Уезжать не хотелось. Но я не мог подвести друга.
Мы разыскали стрелочника, обещавшего достать билеты. Это был рябой усатый дядя с красным флажком в руке. Узнав, в чем дело, он засмеялся:
– А ну, марш с путей, пассажиры сопливые!
Пришлось спрятаться. Недалеко от насыпи, в овражке, пролежали до вечера. И в это время я понял, что уже не смогу вернуться домой. Не успокоюсь, пока не доберусь до Киева. «Оттуда матери телеграмму пошлю, – решил я. – А если хорошо устроюсь, заберу мать к себе: пускай и она, хоть раз в жизни, поглядит на Киев».
Когда стемнело, пришел товарный состав. Мы подошли к заднему вагону. На тормозной площадке стоял кондуктор с фонарем в руке. Он погнал нас так же, как стрелочник; не спросил даже, куда мы едем…
Мы побежали вдоль поезда и разыскали другую площадку, без кондуктора. Костя залез туда. Я за ним.
Несколько часов ехали мы, и никто не обращал на нас внимания.
Ночь была черная, непроглядная, пустая, только ветер хлестал в лицо. Мы ели яйца с сухарями и смотрели по сторонам. Звезд не было, небо затянулось тучами. Даже на дождь было похоже – две – три капли упали мне за воротник. Совсем близко промелькнули вербы – я узнал их по шуму. Вдали то тут, то там появлялись и исчезали огоньки. И вдруг я увидел сияние. Впереди, куда шел поезд, блестели крупные звезды.
Я закричал:
– Смотри, Костя, какое созвездие!
Костя засмеялся:
– Дурень, это фонари… в городе Киеве… Понял?
Я прилип к этим огням и не мог оторваться. Настоящие звезды. Паровоз словно обрадовался – вдруг загудел. Звезды поплыли нам навстречу. Потом показалась станция – белая, огромная.
– Киев! – закричал я, а сам начал по сторонам глядеть: где же Днепр?
– Слезай, приехали, – сказал Костя, спрыгивая с подножки.
Я, конечно, за ним. Вдруг появился кондуктор – лохматый, сердитый. Схватил Костю за руку и швырнул на землю:
– Ты куда?
Костя поднялся и, потирая бока, проворчал:
– Не куда, а откудова.
Он потянулся за мешком, но поезд тронулся, и мешок с продуктами так и остался на тормозной площадке.
Мы забрались в садик возле станции и, сидя на скамейке, ждали рассвета. Так и уснули незаметно. Утром Костя разбудил меня. Смотрю, лицо у него грязное, запыленное, рубаха моя в пятнах (не уберег), и взгляд у него какой-то совсем растерянный. Я оглянулся вокруг – города нет… не видно… Какие-то домики белеют за палисадником, дальше – станция, водокачка, а еще дальше – степь…
Я спросил:
– Где же Киев?
– Какой там Киев! – сказал Костя сердито. – До Киева далеко. – Он еще больше расстроился. – К черту, не хочу быть артистом. Знаешь, что я надумал? Окончу институт… Нет, два института окончу и стану начальником над всеми.
– Наркомом? – спросил я, рассмеявшись.
Он с вызовом посмотрел мне в лицо:
– А хоть бы и так. Три института окончу и своего добьюсь.
Так мы и не добрались до Киева – вернулись домой пешком.
Шли несколько дней. В одном колхозе нас покормили: в другом задержали – хотели в детский дом отправить (мы были похожи на беспризорников). Увидев нас, мать закричала не своим голосом, потом схватила меня, прижала к себе и заплакала. Мне даже стыдно стало перед Костей.
Голова у матери как серебро – седая вся (я ее с малых лет помню такой), а глаза синие-синие. Издали она совсем как девушка…
Конечно, она ругнула меня, но у самой слезы по щекам текли. Одна слезинка по серебряному волоску на губы спустилась.
Целую минуту глядела она то на меня, то на Костю, потом вдруг закричала:
– Ой, чертенки замурзанные… А ну, купаться!
Она дала нам кусок мыла, полотенце и прогнала на речку. Пока мы купались, она выплакалась, как полагается (я это по глазам видел), затем принесла нам чистые штаны, рубахи. Опять мое – мне и Косте.
Я, наверное, косо поглядел, потому что мать прошептала:
– Не сердись, Андрей, у него же нет матери. Жалко его.
Но, когда Костя ушел, она сказала:
– Зачем ты с Костей водишься, Андрей? С Гришей дружи, он тебя никуда не заведет.
Гриша – мой двоюродный брат. Он всегда ревновал меня к Косте. Когда мы были маленькими, он приходил к нам в дом и ходил за мной следом. Но мне с ним было скучно. С Костей мы делали рогатки, взбирались на деревья и разоряли гнезда, ловили птиц силками… Гриша только мешал нам. Стоило разбить окно, как Гриша бежал к матери и орал:
– Тетка Катерина, а Костя с Андрюшкой окно раскокали!
Однажды я не выдержал и подрался с ним. Он оказался силачом, этот увалень. Он повалил меня на землю и так прижал коленями, что мне трудно стало дышать. Костя бросился на выручку, но Гриша усмирил его одной рукой. С тех пор мы оба начали бояться Гриши.
Мать была недовольна тем, что я избегаю брата. А что делать, если мне скучно с Гришей?
Когда мы подросли, Гриша, как и прежде, старался подружиться со мной. Он был отличным спортсменом, и я гордился им. Еще бы! Двоюродный брат – лучший в районе футболист, гранатометчик, пловец. И все же он скучен…
С Костей я часто ссорился, однако мы дружили. Он занятный парень.








