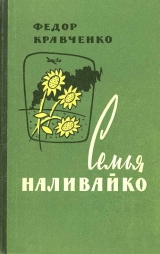
Текст книги "Семья Наливайко"
Автор книги: Федор Кравченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
XVI
День был тихий, небо серое, облачное; сверху падали редкие снежинки; казалось, их можно сосчитать. В белесом поле с шумом пронесся черный поезд. Сидор Захарович задержался на крыльце конторы и поглядел на пробегающие вдали цистерны. Часто, глядя на товарные составы, он думал: «Если б хлеб можно было добывать, как нефть или руду…» Он завидовал рабочим. Ему хотелось беспрерывно добывать пшеницу, как шахтеры добывают уголь. И его злило, что начиналась зима. Был он по-прежнему шутлив, но все чаще придирался к кому-нибудь из колхозников и, если обижались на него, говорил:
– Тяжело, да? А на фронте легче?
По ночам, освободившись от колхозной работы, Сидор Захарович читал газеты. Он повесил у себя над кроватью карту Советского Союза и часто, оторвавшись от газеты, водил шершавым пальцем по карте, хмурясь, покачивая головой. Уже и Харьков и Киев взяла Красная Армия, а все же сколько еще земли украинской фашисты поганили! Сколько еще боев впереди!
Наутро Сидор Захарович становился еще придирчивее. И чаще всего почему-то доставалось Катерине Петровне. Порой он требовал от нее больше, чем от бригадира. Ей казалось, что он перекладывает свою работу на ее плечи… Она с возмущением говорила о «незаконных придирках». Сидор Захарович сурово отвечал:
– Я не придираюсь, а учу тебя. Может, меня, как старого артиллериста, на фронт пошлют. Кому я тогда хозяйство передам?
Говоря так, Сидор Захарович улыбался, но взгляд его был по-прежнему суров. Катерина Петровна не придавала значения его словам.
Он понимал, что она не верит в серьезность его тона, но и не пытался убедить ее. Больше всего его беспокоило то, что Катерина Петровна поссорилась с Софьей.
Софья стала механиком. Почти каждый день они сталкивались на работе, но в их отношениях не было прежней теплоты. Проходя мимо, Софья старалась не глядеть на Катерину Петровну, а Катерина Петровна возмущенно говорила:
– Я виновата, что она кавалера потеряла! У меня два сына погибли… А что с остальными, даже не знаю. И я ни на кого не сержусь, а она на меня дуется.
Еще никогда не была Катерина Петровна так зла, как теперь. Когда Сидор Захарович попытался уговорить ее, чтобы она помирилась с Софьей, Катерина Петровна сказала:
– Я с ней не ссорилась. Пускай дурь выбьет из головы. Она должна мне в ноги кланяться. Я мать, а она кто такая?
Так и не удалось помирить их, и это очень огорчало Сидора Захаровича. Его серьезно тревожило настроение дочери. Софья очень изменилась после отъезда Степана: отец почти не слышал ее голоса в доме. Еще недавно Софья напевала или рассказывала что-нибудь смеясь; теперь дом стал безмолвен, как могила.
Все чаще ездил Сидор Захарович в район и привозил оттуда брошюрки, за чтением которых его можно было застать даже в конторе. Иногда он, отложив книжку, недовольным тоном говорил:
– Черт его знает, какая сложная техника.
Он упорно изучал мотор, самостоятельно водил машины и думал о самоходных орудиях. Теперь совсем не та артиллерия, что в первую мировую войну.
Однажды он сказал, лукаво глядя на собравшихся у него в кабинете членов правления:
– А что, товарищи, если кому бог сына не дал, надо самому на фронт ехать, а?
Настя серьезно возразила:
– На фронте без тебя обойдутся, Сидор Захарович. От тебя больше пользы в тылу…
– Ага, больше пользы! А кончится война – будете глаза колоть. Катерина пятерых вояк фронту дала… Даже твоя дочка, Настя, воюет. А чем я похвалюсь?
– У тебя ж зять на фронте, – пошутила Катерина Петровна.
Сидор Захарович нахмурился:
– Ну, хватит об этом. Давайте подумаем про сало и хлеб для фронта.
Когда обсуждали работу бригад, Сидор Захарович почему-то больше всего недостатков находил в работе Катерины Петровны. Часто она уходила домой обиженная, даже не попрощавшись. После таких стычек она долго не заговаривала с Сидором Захаровичем, а на его вопросы отвечала через силу.
И вдруг Катерина Петровна пришла в контору такая жизнерадостная, что все удивились. Такой ее уже давно не видели. Сидор Захарович собирался поговорить о достижениях в работе бригады, чтобы поднять настроение; было за что похвалить ее: переживая большое горе, Катерина Петровна не растерялась и справилась со своей работой. Да ее бригада и Марье Семеновне помогла: коровники и свинарники были утеплены.
«Догадалась – и повеселела, – подумал Сидор Захарович. – Но нет, я тебя все-таки приперчу…»
И он нарочно заговорил о каких-то старых хомутах, валяющихся на конюшне. Он думал, что Катерина Петровна вспыхнет и начнет отругиваться, но она смотрела на Сидора Захаровича добрыми, ясными глазами и, казалось, не слышала его. Словно он говорил не о ней, не о ее бригаде, а о чем-то постороннем.
Он упрекнул Катерину Петровну в несерьезном отношении к своим обязанностям. Она глядела на него широко открытыми глазами, продолжая улыбаться.
«Что с ней?» – недоумевал Сидор Захарович, переглядываясь с членами правления.
Катерина Петровна обвела всех счастливыми глазами:
– Что вы так смотрите на меня? Думаете, умом тронулась?
Она помолчала и затем радостно сообщила:
– Вот телеграмма от Максима. Из госпиталя. Обещает приехать.
В комнате как бы светлее стало. Все улыбались, будто всем передалась материнская радость.
Только Ворона хмурился, опустив голову. Катерина Петровна торжествующе поглядывала на него: «Наврал твой сынок… наврал… – думала она. – Хорошо, что хоть ты слово сдержал и никому ничего не сказал. Поскорее бы приехал Максим, тогда все выяснится… А там, может быть, и Роман найдется. Может быть, и о нем по ошибке написано…»
Ворона сказал с нескрываемой завистью:
– Счастливая! Хоть одного сына увидишь. Может, без руки или без ноги, а все-таки жив. А я, наверно, никогда не увижу своего Костю. Он у меня такой, что голову сложит, а с поля боя не побежит.
Катерину Петровну больно укололи эти слова. Она хотела сказать, что ее сыновья тоже «с поля боя не бегают», но Сидор Захарович оттеснил Ворону.
– Теперь, Катерина, я скажу тебе то, что давно уже собирался сказать, – проговорил он по-деловому. – Хочу тебе поручить… председательский пост… А сам уеду. Не могу дольше в тылу сидеть. Мне только сорок восемь лет. – Он лихо подкрутил усы, как бы подражая Вороне. – Ты с сыном-агрономом вполне справишься без меня.
Видя, что Катерина Петровна собирается возразить, Сидор Захарович сел на свое председательское место и строго сказал:
– А теперь, товарищи, пока Максим еще не постучался в дверь, займемся нашими делами.
И он заговорил о подготовке к будущему севу, которым, может быть, придется заняться и в «Луче» и дома – в Сороках…
XVII
В последние ночи Катерина Петровна плохо спала. Все ей чудилось, что кто-то стучит в окно: «Мама, открой…» Она вскакивала и дула на посеребренное изморозью окно, встревоженно глядела на улицу.
За окном была белая пустота, только ночной сторож в темном тулупе иногда проплывал в сумраке, направляясь к колхозным амбарам.
Катерина Петровна снова ложилась в постель и пыталась уснуть, но тревожные мысли не давали ей спать. Перед глазами стоял Максим – то безрукий, то безногий, то без одной ноги, с костылем под мышкой. Каждый раз он напоминал кого-нибудь из инвалидов, которых уже не раз видела Катерина Петровна на станции и в колхозе. Переживая тревогу, она в то же время радовалась, словно все пятеро сыновей возвращались домой. И когда за окном раздавался какой-нибудь шум, она снова, полураздетая, бросалась к окну или выбегала в сени. Затем долго стояла посреди комнаты, прислушиваясь и не чувствуя холода.
Случилось, однако, так, что в тот вечер, когда приехал сын, Катерина Петровна крепко уснула. Несколько минут он стучал в окна и двери, пока разбудил мать, уставшую от работы и ожидания.
Спустя полчаса Максим сидел у стола и глядел на мать, убиравшую корыто и вытиравшую мокрый пол. Казалось, он видел ее только вчера, такой же озабоченной, быстро убирающей комнату. Но было это очень давно и совсем в другом месте; было это в тот самый вечер, когда Петр вместе с Максимом и Романом собирался на фронт.
Петр уходил воевать, как в театр: мылся, аккуратно причесывался, брился. Он беспечно шутил, и Максим невольно любовался братом – самым веселым и самым красивым в семье.
Он был похож на мать. Максим, с детства считавший себя неудачником, не раз с завистью думал о Петре. И завидовал ему даже в ту минуту, когда они все трое уходили на фронт, – завидовал той смелости, с которой Петр шел навстречу смерти. Прощаясь, Петр заглянул брату в глаза: «Будь здоров, агроном, смотри, патроны не посей вместо пшеницы…»
В ту минуту Максим подумал, что он в последний раз видит брата… И теперь вздрогнул: на него смотрели ласковые синие глаза Петра. На мгновение Максим потерял рассудок: он с трудом осознал, что это мать смотрит на него, закончив свою работу.
– Как в бане выкупался, – сказала Катерина Петровна, продолжая ласково улыбаться.
Максим знал: мать думает сейчас о Петре, о том, как он купался, уходя на фронт. Максим был менее разговорчив и не так ласков, как Петр. Он казался сердитым, хотя в жизни никого не обидел. Дети в школе, где он руководил агрономическим кружком, относились к нему с особым уважением. Они затихали, как только он появлялся в школьном коридоре. Анну Степановну любили ребята и после уроков бежали за ней почти до самого дома, расспрашивая о чем-нибудь, а Максима они никогда не провожали; он уходил один, думая о чем-то своем. И никто не догадывался, что он завидовал тем, кто умел беззаботно смеяться и балагурить.
Они сидели вдвоем. Мать молчала, только глядела на сына не отрываясь, словно видела в нем всю свою семью. Впервые Максим заметил тоску в светлых глазах матери. Казалось, глаза ее блестели не от смеха, а от слез: синими каплями вспыхивали они и гасли под серебряными прядями свисавших на лоб волос.
Вспомнилось, как Андрей в шутку жаловался, что с детства знал только седые волосы матери, что его родила старуха. Мать била его пальцами по губам и просила Максима рассказать о ее русой косе… Он один в семье помнил мать молодой. Но Максим отмахивался, продолжая читать книжку, с которой не расставался даже во время еды.
Теперь хотелось сказать матери, что он помнит ее молодой; с тех пор прошло много лет, но она почти не изменилась. – Еще и сейчас только сухие, жилистые руки старили ее… Но Максим ничего не сказал; он приподнялся и, налегая на костыль, направился к матери. Хотелось приласкать ее – одинокую, терпеливо ожидавшую сыновей… Но ему так и не удалось это сделать – он вдруг застонал и присел на другой стул, закрыв глаза от боли и вытянув раненую ногу.
Вдруг мать повалилась на пол и, осторожно прикасаясь к этой самой ноге, заплакала. И он опять ничего не мог сказать. Он уже знал, что Петр и Роман погибли, а Андрей остался партизанить… Мать жила одна в этом чужом домике… И даже Клавдия, добрая Клавдия, которую мать любила, как родную дочь, забыла о ней… Вся семья разбрелась, и мать напряженно разыскивала всех в огромном мире. Она так хотела снова собрать семью, но пока только один Максим вернулся. И мать тихо спрашивала, глядя на его раненую ногу:
– Больше не пошлют на фронт, правда, не пошлют?
– Не пошлют, – угрюмо ответил сын.
– Не пошлют, – тихо повторила мать.
Она продолжала сидеть на полу, глядя на Максима счастливыми глазами. Затем поднялась и, взбивая подушки, ласково прошептала:
– Отдыхай, Максимушка, завтра поговорим обо всем.
Она вышла в соседнюю комнату, неслышно прикрыв за собой дверь. Засыпая, Максим услышал приглушенное всхлипывание. Он догадался, что это мать плачет, но у него не хватило сил открыть глаза.
XVIII
Кажется, никогда еще не было столько сил у Катерины Петровны. Как молодая девушка, работала она лопатой, отгребая снег, расчищая дорожку от крыльца на улицу. Потом принесла от колодца два ведра воды, не замечая, что пальцы щиплет мороз. Затем ушла в колхозный двор, где, как всегда, по утрам собирались колхозники и бригадиры.
Она заговаривала с каждым встречным, и все улыбались Катерине Петровне, зная о ее радости.
Сидор Захарович давал указания возчикам, сидевшим уже на возах и сдерживавшим застоявшихся лошадей; несколько подвод с дымящимся на морозе навозом направлялись в поле. Подростки гнали коров к колодцу – на водопой. Где-то у колхозного клуба простуженным голосом заговорило радио, и люди начали прислушиваться, упрашивая друг друга: «Да тише… не мешайте же слушать…»
В сводке Информбюро сообщалось о новых победах Красной Армии, и Сидор Захарович покачивал головой, укоряя самого себя:
– Красная Армия наступает и скоро Сороки освободит, а я тут застрял. Принимай уже дела, Катерина Петровна, отпусти душу на покаяние.
– Не торопи ее, – вмешался Ворона, – до Сорок еще далеко. Ты дай ей с сыном наговориться. – Он вдруг спросил, обращаясь к Катерине Петровне: – Что, крепко спит?
– Спит, – прошептала Катерина Петровна, – спит как убитый.
– Совесть, значит, спокойная, – сказал Ворона, – а люди черт знает что болтают про такого человека. Чтоб им языки поотсыхали.
Катерина Петровна замерла от страха: не думает ли Ворона рассказать всем про письмо Кости? Но ведь это же такая глупая выдумка. Максим не был в немецком тылу. Он из госпиталя выписался.
Сидор Захарович нахмурился. Колхозники настороженно смотрели на Ворону. А он продолжал, пожимая плечами:
– И как это только может язык повернуться у Керекеши? Ну, даже если что-нибудь знаешь, зачем языком трепать? Государственный человек, а такие безответственные слова говорит.
– Да что он там говорит? – строго спросил Сидор Захарович.
– Ну, мелет языком… будто Максим Наливайко, с которым он в одном полку служил, в первом же бою здоровую ногу бинтом обмотал… и дал стрекача… Конечно, Максим не вояка. Он агрономическим, а не военным наукам обучен, но все-таки воевал. Это же факт. Нога-то, оказывается, действительно ранена, и даже всерьез…
Ворона все еще продолжал возмущаться поступком почтальона, но Катерина Петровна не слушала его. Опустив голову, чтобы не видеть окружавших ее людей, она почти побежала домой, сбиваясь с тропинки, проваливаясь в глубокий снег.
Максим проснулся от страшного гула. Казалось, за окнами разрываются бомбы. Он вскочил и застонал от боли. В глаза ударили солнечные лучи, и в первую минуту он не мог сообразить, где находится. Наконец увидел мать, стоявшую у стола, на котором с вечера оставалась грязная посуда. Это она громыхала пустыми кастрюлями, неизвестно для чего переставляя их с места на место. Брови ее были нахмурены. Заметив, что сын проснулся, она начала тихо вытирать посуду, но по-прежнему метала в его сторону недовольные взгляды. Он не мог понять, что случилось.
– Что такая сердитая, мать? Спала?
– Спала, чтоб мне заснуть уже навеки.
– Что так?
– От радости, что сын вернулся. Лучше б ты меня в живых не застал.
– Да что с тобой? Кто тебя так распалил, мать?
Она приблизилась к сыну, сидевшему на кровати, и, глядя в упор, спросила:
– Как же ты воевал, сынок? Не приходилось от немцев бегать?
Максим вспомнил о своем первом испуге, и ему стало смешно. Давно это было. С тех пор много событий произошло в его жизни: он несколько раз был ранен, попал в окружение и пробился к своим. Напряжение, боевые дни заслонили собой все, что он пережил в первом бою. И он ответил матери улыбаясь:
– Приходилось.
Катерину Петровну злила его улыбка. Она резко спросила:
– Обмотал ногу бинтом и побежал. Да?
– Да, мать… – уже без улыбки ответил Максим. – Обмотал здоровую ногу бинтом и побежал. А кто тебе об этом сказал?
Катерина Петровна схватилась руками за голову и застонала. Ее седые волосы растрепались, и Максим вдруг заметил, что они уже тронуты желтизной. Он начал рассказывать о том, как испугался в первом бою, но мать закрывала уши, чтобы не слышать его.
Вечером она прислала сыну пироги с капустой и кринку молока, но он не прикоснулся к еде, хотя испытывал голод. Он вышел на крыльцо, постоял минуту и направился к колхозной конторе, с ожесточением налегая на больную ногу. У крыльца конторы встретил Сидора Захаровича. Председатель колхоза обнял его и сказал шутливым тоном:
– Допрыгался? Ну, ничего, мы тебе в колхозе опять повозку дадим. У нас и калеки работают.
– А я не калека, – возразил Максим, чувствуя себя серьезно задетым. – Вот еще немного отдохнет нога – и опять на фронт.
– Куда тебе на фронт! – строго сказал Сидор Захарович. – Я до сих пор жалею, что тогда отсрочку не выхлопотал тебе в военкомате. Какой из тебя вояка! Ты, брат, природный хлебороб.
– Будьте здоровы, – сказал Максим, не желая продолжать разговор, – я мать ищу.
– Она у меня сидит. Да и ты приходи – по чарке выпьем. Завтра думаю в военкомат отправиться. Пришла моя очередь…
Максим отошел, напряженно думая: «Кто это распустил слух? Выходит, Сидор Захарович тоже знает? Значит, мать недаром так волновалась».
Он не знал, что ему делать. Хотелось пойти к председателю колхоза и рассказать, что с ним произошло. Но кто распространяет слухи?
Нога отяжелела, и Максим направился к крыльцу, решив отдохнуть на скамье. Только теперь он заметил в сумерках сторожа в огромном тулупе, из воротника которого выглядывали лишь усы и нос. Максим был рад, что может посидеть спокойно, ведь старик ему незнаком. Но вдруг нос сторожа зашевелился, тускло блеснули огоньки глаз, и послышался хриплый голос:
– Это ты, наверно, Катерины Петровны сын? Чего ж ты к председателю не идешь? Там и мамка твоя гуляет.
Максим поморщился от этих слов, но сдержанно спросил, прикидываясь, что ничего не знает:
– Что это еще за гулянка?
– Не знаешь? – оживился сторож. – Председатель с активом прощается. На войну собрался. Правду говорят ваши украинцы: что дурная голова не задумает, а ноги несут… Ты ему расскажи, как там, на фронте. Может, передумает. Жалко такого председателя отпускать. Ей-богу, жалко!
Максиму показалось, что и сторож знает о его поступке. Он молча поднялся и направился к председательскому дому, решив откровенно поговорить со всем активом. Так будет лучше.
Войдя в дом, он увидел сидевших у стола людей, среди которых было несколько человек знакомых. В углу сидела мать. Она как-то сконфуженно поглядела на сына. Максим протянул впереди себя костыль, словно проверял, прочен ли пол. Вдруг раздался насмешливый голос:
– Не щупай, этот пол не минирован! Мины у нас только на столе.
Это говорил Керекеша. Он указал глазами на бутылки, возвышавшиеся над тарелками с пирогами, и лихо топнул ногой:
– А тут безопасно. Хоть до потолка прыгай – не страшно.
Максим напряженно всматривался в лицо Керекеши. Оно было знакомо, но Максим никак не мог вспомнить, где он видел этого человека.
Керекеша сказал, щуря пьяные глаза:
– Не узнаешь? А мы в одной части служили.
Подмигнув, он вдруг пустился в пляс:
– Эх, раз, еще раз… Пляши, пляши, нам теперь до самой смерти не страшно. Ловко отделались, а?
Максим присел на скамью у окна, стараясь не глядеть на мать, шептавшуюся с Сидором Захаровичем. Он не видел, как Сидор Захарович, поднявшись, дружески позвал его кивком головы. Максим думал о Керекеше. Значит, это он распространил слух в колхозе?
Керекеша остановился против агронома и, понизив голос, с откровенностью пьяного человека начал болтать:
– Я тоже хорошо отделался. Доктор говорит: не горюй, может быть, еще спасем руку. А я кричу ему: режь, не жалей, у меня тело гнилое, рука сгниет. Доктор испугался и отрезал, видишь, как чисто. А я – ого-го-го… Пускай найдут еще одного такого здоровяка! Что мне рука?! Я и одной выпить могу. А если бы с рукой остался – мог бы голову потерять.
Максим пристально смотрел на однорукого человека. Он с трудом вспоминал подробности первой встречи с ним. Кажется, это его Максим вытаскивал раненого из огня… А может быть, это был не он?
Приплясывая, Керекеша подошел с пустым стаканом к столу. Сидор Захарович неохотно взял со стола бутылку, собираясь наполнить стакан почтальона. Охваченный внезапной яростью, Максим размахнулся костылем и с силой ударил по бутылке. Засверкали осколки стекла и со звоном посыпались на пол. Малиновые брызги разукрасили белую скатерть. Все повскакали со своих мест.
Керекеша с ужасом поглядел на агронома: ему показалось, что тот снова поднял костыль. Однако Максим не тронул почтальона. Окинув всех злобным взглядом, он вышел в сени, повалился на сухую холодную солому и заплакал от невыносимой боли.
Чьи-то руки помогли ему в темноте подняться. Почувствовав на своих пальцах теплые капли слез, он догадался, что это мать. Она подала ему костыль и открыла наружную дверь. За дверью смутно блестела полоса снега.
Максим молча сошел с крыльца. Мать предупредительно открыла калитку. Он пошел дальше, скрипя по тугому снегу ботинками и костылем. Внезапно остановился, не оглядываясь, прислушался: сзади раздавался мягкий скрип валенок. Это шла мать.
Он быстрее пошел домой, на душе стало легче.








