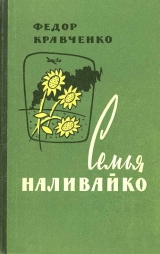
Текст книги "Семья Наливайко"
Автор книги: Федор Кравченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
III
Ребята любили, когда я читал Пушкина, а Костя постоянно мешал нам. Он умышленно перевирал слова поэта. Однажды вечером я прочел в классе «Вакхическую песню». Ребята дружно подхватили последнюю строчку:
– «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»
Затем начали аплодировать мне.
Костя смотрел на меня с завистью. И вдруг заорал, потушив свет в комнате:
– Да скроется солнце, да здравствует тьма!..
Я в темноте нашел Костю и ударил его. Когда ребята зажгли свет, я смирно сидел у окна. Костя со злобой поглядел на меня, держась одной рукой за щеку. Конечно, он догадался, что это я его угостил.
Как-то в школьном клубе была вечеринка, и девочки попросили меня сыграть что-нибудь на скрипке. Они одолжили для меня скрипку у Ивана Семеновича, нашего историка. У меня не было своей скрипки, и, когда преподаватель доверял мне инструмент, это было настоящим праздником.
В первом ряду сидела Нина Максименко. Не знаю почему, но мне так приятно было сидеть с ней рядом. Говорили, что она красивая. Я же никогда не думал об этом. Правда, мне нравилось ее круглое, с ямочками на щеках, лицо. В глазах ее постоянно искрился смех. Она часто бывала у нас в доме. И стоило ей появиться, как все начинали улыбаться. Даже Максим…
А ведь нас горе породнило с Ниной и ее матерью. Отцов наших кулаки убили в тридцатом году, во время коллективизации.
Мы часто говорили об отцах. И мне нравилось, что Нина не плакала, хотя ей было очень тяжело. Летом она работала в колхозе, зимой училась в школе. Когда Нина стала взрослее, она начала избегать меня. Я обижался и ходил за ней следом, как Гриша за мной. Костя потешался над нами. Как только девочка покажется, бывало, возле школы, он орет, будто сборщик утиля: «Нина идет, Андрей, протри очки скорей!»
Нине нравились остроты Кости. Слушая Костю, она подпрыгивала и заразительно смеялась. Но если я играл на скрипке, Нина могла целый час просидеть неподвижно, слушая музыку. И Костя, конечно, злился.
В этот вечер я играл Чайковского. Девочки не отрывали глаз от меня. Вдруг послышался смех. Смеялась Нина. Вслед за ней засмеялись все остальные.
Я оборвал музыку и посмотрел на девочек. Мне было непонятно их поведение. Что смешного в мелодиях Чайковского? Или это я рассмешил их каким-нибудь неловким движением?
Глядя на меня, девочки перестали смеяться. Но Нине трудно было справиться с собой. Смех так и клокотал у нее в груди. Она отвела глаза и вытянула голову, словно подавилась. Вдруг опять прыснула.
Я оглянулся и увидел позади себя Костю. Он стоял, прислонившись к стене, и так комично изображал ловлю блох, что действительно трудно было удержаться от смеха.
Впрочем, не всем было смешно. Мне хотелось поколотить Костю, но у меня в руках не было ничего, кроме смычка.
Я молча положил скрипку на стол и вышел. Меня душили слезы. И не успел я подумать, что это глупо, как слезы ослепили меня. Я должен был снять очки, чтобы вытереть стекла. Ребята окружили меня. Они чувствовали себя неловко. А Костя, подойдя ко мне, серьезно сказал:
– Брось, Андрей. Я пошутил…
Он дружески положил мне руку на плечо, но я оттолкнул его.
После он то старался помириться, то опять высмеивал меня в присутствии Нины и других девочек.
Однажды в школьной стенгазете появилась заметка обо мне. Неизвестный автор хвалил меня как способного музыканта и советовал не увлекаться астрономией (все знали о моем увлечении этой замечательной наукой). Моя «вселенная» – музыка, «обсерватория» – скрипка, «телескоп» – смычок.
Приятно было читать об этом, хотя автор не убедил меня. Вдруг я заметил в нижнем углу «дружеский шарж». Это был смешной рисунок: – я играл смычком… на гармошке… Под рисунком стихи:
На музыканта он похож.
Как на коня – колючий еж…
Ребята уже знали, что и заметка и стихи написаны Костей.
Мне стало обидно, и я подумал: долго ли еще придется терпеть этого наглеца? Надо же было родиться в одном селе с этим дурацким Костей! Конечно, я мог бы с таким же успехом издеваться над ним… У него и фамилия подходящая: Ворона.
Да, я мог бы подтрунивать над ним. Но мне противно это делать.
Когда мы сдали последний экзамен, я при всех пожал ему руку и без злобы сказал:
– Прощай, Костя. Я рад, что мы больше никогда не встретимся.
IV
Двадцать первого июня мы, десятиклассники, решили устроить прощальный вечер. Анна Степановна поддержала нас, но назвала это иначе:
– Это будет вечер дружбы, а не прощания, – сказала она. – Покидая школу, вы еще больше должны укрепить вашу дружбу. Где бы вы ни находились в будущем, вы будете делать одно общее дело.
Дружба… Как это прекрасно звучит!
А ведь я как-то поспорил с матерью из-за этого слова. Дело в том, что, в отличие от Клавдии, ласково говорившей Максиму «мой муженек», Анна Степановна при всех называла Романа другом. Максим и Клавдия были супругами; Роман и Анна Степановна – друзьями. По этому поводу мать сказала младшей невестке:
– Чудишь. Ты хоть и не венчалась с Романом, а все же он твой законный муж.
– «Муж., муж…» – вмешался я. – Какое дурацкое слово! Разве «друг» не лучше?
– Помалкивай, – сказала мать, начиная сердиться.
Я не унимался:
– Не буду молчать. Вы всегда обижаете Анну Степановну. Все с Клавдией носитесь. А наша Анна Степановна…
– Замолчи же, – смущенно проговорила Анна Степановна, закрывая мне рот ладонью. – Не надо маму сердить.
– Это он подлизывается, – уже шутливым тоном проговорила мать. – Как стала ты этим самым… классным руководителем, так и защитники нашлись. Ишь какой прыткий…
Мать потеребила мне волосы; я отстранился, хотя в другое время меня любое ее прикосновение радовало.
– Несправедливая вы, – сказал я, боясь посмотреть на мать. – Клавдия для вас как родная дочь, а Анна Степановна…
– Эх ты, сосунок, – добродушно выругалась мать.
Только теперь я начинаю понимать, что она и Анну Степановну любила, только сдержанность младшей невестки и ее, должно быть, сковывала.
Как бы там ни было, семья у нас была дружная. Пускай Максим порой хмурился, так ведь Клавдия и за него веселила дом. Роман вечно дразнил своего «друга», говоря при всех: «Ну, поцелуй меня… поцелуй меня хоть раз, как жена». Анна Степановна конфузилась, а братья хохотали.
Замечательные братья у меня! Когда соберутся, бывало, вместе, весь дом ходуном ходит. И посмеяться любили, и песню спеть умели…
А то вдруг начнут бороться. Петр – задира, он не только Виктора затрагивал, но и Максима.
Все вместе они были грозной силой у нас в Сороках. Какой-нибудь хулиган во все лопатки удирал, если пронесется слух, что «Наливайки идут наводить порядок…»
И вот что примечательно: все мы с каким-то особым уважением относились к Анне Степановне. Как будто она для всех была классным руководителем…
Порой и Максим заговаривал о том, что жена должна быть настоящим другом. А Петр шутя упрекал Романа: «Эх, опередил ты меня, братуха. Мне бы такого друга, как твоя Анна… Только у нас в Сороках такие не водятся».
Я помалкивал. Не мог же я сказать, что Нина Максименко – хороший друг, хотя еще и не жена. Петр, не то в шутку, не то всерьез, говорил, что он бросит МТС и переедет в Каменку. Только там, дескать, и можно найти подлинного друга.
Он говорил так потому, что Анна Степановна приехала к нам из Каменки. Помнится, она с самого начала привлекла внимание школы рассказами об этой самой Каменке. Это ведь необыкновенное село: там до сих пор сохранились памятники старины, да еще какие! Около сахарного завода, на берегу Тясмина, стоит «зеленый домик», в котором бывал Пушкин. Да, да, Пушкин приезжал в Каменку и там встречался с декабристами. Анна Степановна рассказывала об этом так, словно сама присутствовала при их встречах…
Клавдия выросла в Сороках, но не любит родное село. А вот Анна Степановна хоть и выросла в заводском поселке, но, право же, стала у нас совсем своей.
Клавдия упрекала Максима, что он агроном и не может переехать в город. Анна Степановна с любовью рассказывала о Каменке, но только и думала о том, как бы получше устроить нашу жизнь в Сороках. Она говорила именно о нашей, а не о своей личной жизни. И даже не о жизни нашей семьи, а обо всех сорочинцах. Благодаря ей в каждом колхозном доме появилось радио. Она добивалась расширения колхозной электростанции. В клубе Анна Степановна руководила драмкружком.
Отец у нее тоже интересный человек. До революции он был рабочим, потом его назначили директором завода. Он хотел, чтобы Анна стала инженером. Но Анна Степановна решила стать учительницей. Ей нравилось учить детей, просвещать народ.
Окончив институт, Анна отправилась «в самое глухое село». Таким селом ей показались наши Сороки. Правда, вначале оно и было таким. Ведь не было ни радио, ни электричества, ни кинотеатра. Потом Сороки настолько изменились, что Анна Степановна в шутку жаловалась своему отцу: «Куда я попала? Мне здесь нечего делать…»
Мы, десятиклассники, искренне радовались, что именно она стала нашим классным руководителем.
…Собрались мы на выпускной вечер аккуратно, как на урок. Целый отряд – двенадцать девочек и шестнадцать парней. Девочек было маловато, но мы не хотели приглашать девятиклассниц.
Я был со скрипкой, и ребята шутили: Андрею не нужна пара, за Ниной будут ухаживать Костя и Павлуша – по очереди. Что касается Гриши, которого мы прозвали «тяжеловесом», то в виде исключения он может поухаживать за Анной Степановной, если я не скажу об этом Роману…
Всем было весело. Только я один, дурень, хмурился. Еще бы! Пока я играл, Костя и Павлуша всерьез ухаживали за Ниной. Играть мне пришлось весь вечер, а Костя еще и подтрунивал:
– Если выдержишь, в консерваторию без экзамена примут.
Я хотел проучить его, чтоб знал, как вести себя на «вечере дружбы». Но Анна Степановна догадалась, в чем дело, и, пользуясь тем, что почти все ребята собрались за столом, провозгласила первый тост:
– Пью за то, чтобы из моих воспитанников вышли хорошие советские специалисты.
– Из девочек не меньше двенадцати учительниц и врачей, – пошутила Нина, – а из мальчиков не меньше четырнадцати агрономов и… генералов.
Я спросил:
– Почему не меньше четырнадцати?
– Потому, что из Кости вообще ничего не получится, а ты…
Я не успел ответить, как Костя закричал:
– Посмотрим еще, кто скорее генералом станет!
Павлуша не захотел отстать от Кости, он начал хвастать тем, что лучше всех знает мотоцикл; он будет мотоциклистом. Костя тут же заспорил. По его мнению, самый важный род войск – пехота. «Пехота решает судьбу сражения», – утверждал Костя.
Гриша отдавал предпочтение артиллерии. Костя орал, доказывая» свое. Я почувствовал себя чужим среди них. Девочки посматривали на меня с участием, а Нина укоризненно покачивала головой. Все это надоело мне, и я сказал:
– Давайте выпьем за здоровье Анны Степановны. Все ее воспитанники выходят в люди… Кроме одного болтуна. Но, как говорится, в семье не без урода.
Девочки засмеялись. Анна Степановна покраснела и начала чокаться со всеми. Но Костя не прикоснулся к своей рюмке. Он требовал, чтобы я немедленно извинился (на воре шапка горит).
– Ребята, несите мелкокалиберное ружье, – сказала Нина, – сейчас будет дуэль.
Анна Степановна, смеясь, возразила:
– Нет, сейчас будет бой петухов.
Я взглянул на Костю: у него чуб поднялся, словно петушиный гребень, И голову он вытянул, как петух. Я захохотал. Ребята дружно поддержали меня. Костя побледнел и отошел от стола. Он стоял в углу как провинившийся школьник. Всем нам стало неловко.
Анна Степановна подошла к нам с двумя рюмками, наполненными вином. Одну из них она протянула Косте.
– Надо выпить за мир, за дружбу, – сказала она.
Костя взял рюмку. Он сразу повеселел и хотел прикоснуться к рюмке, оставшейся в руке Анны Степановны. Но она отстранилась и заставила меня взять вторую рюмку. В классе стало тихо, как во время урока. Костя, видимо, рад был помириться со мной, но я медлил. Вспомнились все старые обиды, хотя в то же время и не хотелось продолжать ссору.
Я оглядел наш класс. Он был неузнаваем. Вместо парт стояли столы и стулья. Столы были покрыты разноцветными скатертями. На окнах много цветов. У одного из окон ребята поставили школьный аквариум. Золотистые рыбки подплывали к стеклянной стенке и во все глаза глядели на наше пиршество. В простенке висела карта Европы. Огромное красное пятно разлилось над мелкими разноцветными лоскутьями. Я с грустью подумал о том, что нахожусь в этом помещении последний вечер. Вот выйдем из класса и разбредемся по необъятной стране. И, может быть, никогда больше не увидимся.
Я сказал Косте:
– Ладно, выпьем за дружбу.
Мы чокнулись и осушили рюмки.
Анна Степановна взволнованно сказала:
– Ну, если даже они выходят отсюда друзьями, то за остальных я ручаюсь. Давайте же, ребята, всю жизнь дружить. И пусть все мои воспитанники станут заметными, почетными в стране людьми. Чтобы я вами всегда гордилась… Пусть вы не будете генералами, но каждый должен быть настоящим бойцом, достойным сыном и защитником своей родины. – Анна Степановна вдруг улыбнулась: – Ну, а если уж кто-нибудь из вас не выдержит и сделается генералом, мы соберемся в этом классе опять, и это будет наш общий праздник.
Все весело зашумели и начали плясать под патефон, который заводила Анна Степановна. Она никому не уступала этой роли. Отмахиваясь от осаждавших ее кавалеров, она упрямо твердила:
– Не мешайте мне! Дайте поглядеть, каких я плясунов воспитала. Это же мой последний вечер с вами.
От этих слов нам стало грустно; мы перестали танцевать и окружили Анну Степановну. Она рассердилась на нас:
– Ну, если не хотите танцевать, давайте споем.
И мы запели. Даже безголосый Гриша пел. Однако самые веселые песни вызывали грусть. Анна Степановна опять рассердилась.
– Андрей, сыграй гопак, – приказала она. – Я вам покажу, как надо веселиться.
Я не видел более веселой пляски. Ребята, окружив учительницу, подпрыгивали и приседали, как настоящие запорожцы.
Все так увлеклись пляской, что и не заметили, как Анна Степановна выскользнула из круга. Остановившись возле аквариума, она долго глядела на пляшущих ребят. А я смотрел на нее. И рыбки, казалось, смотрят на Анну Степановну, уткнувшись носами в стекло.
Внезапно глаза Анны Степановны заблестели от слез. Я невольно оборвал музыку. Теперь все заметили плачущую учительницу и бросились к ней. Девочки целовали Анну Степановну, а ребята хмурились и покашливали, как старички.
Потом Нина громко сказала:
– Спасибо вам, Анна Степановна, за ваши заботы. Мы вас никогда не забудем.
Это был сигнал. Мы бросились в соседний класс и вышли оттуда с цветами. (Целый день собирали их.)
Анна Степановна растерянно глядела на нас, на наши букеты. Она не могла взять в руки и десятой доли того, что ей преподнесли. Здесь были розы, левкои, георгины, ромашки… Кто-то даже подсолнечник принес – такой маленький, нежный…
Видя растерянность Анны Степановны, мы вытащили из того же класса ящики, в которых цветы доставлялись в школу. Провожая Анну Степановну домой, мы понесли вслед за ней три ящика цветов. Она поминутно останавливалась и, всплескивая руками, говорила:
– Куда же я все это дену?
V
Мы торжественно шли по центральной улице.
Был зеленый рассвет, дружно горланили петухи, скрипели колодезные журавли. Над рекой ярко горели окна электростанции. И так нам было хорошо, что мы дружно запели.
Веселый шум и песня разбудили Романа. Он выскочил на крыльцо и, по-детски протирая глаза, просил не горланить, чтобы не разбудить маленького Олега. Ребята притихли. С трудом втащив в комнату ящики с цветами, они на цыпочках вышли опять на улицу. И здесь мы начали прощаться с Анной Степановной.
Ребята по очереди целовали ее и так увлеклись, что Роман сердито крикнул:
– Хватит вам, бессовестные, человека мучить…
Всем стало еще веселее, а Нина расцеловалась и с Романом. (Повезло же ему!) Потом Роман увел Анну Степановну, а мы еще некоторое время стояли под окном, словно чего-то ждали. Внезапно окно распахнулось, и Анна Степановна, погрозив нам пальцем, строго сказала:
– Ребята, спать, спать пора.
Мы сделали вид, что уходим, но, когда окно закрылось, все снова остановились. Тогда я предложил:
– Ребята, пойдем в поле, солнце встречать!
И, схватив Нину за руку, быстро зашагал вперед.
Ребята толпой повалили за нами. Один только Костя отстал.
Я не помню более радостного рассвета, хотя все было обычным. Заря как заря: на востоке заалело небо, затем розовым огнем полыхнули облака. Когда из-за горизонта показалось солнце, напоенные росой поля засверкали миллионами звезд.
Мы замерли, глядя на пылающий шар, отделявшийся от синей полосы земли. Нина прижалась ко мне плечом и прошептала:
– Когда кончим вуз, вернемся сюда и снова встретим солнце. Здесь… на этом месте. Хорошо? И ты напишешь свою музыку… Музыку восходящего солнца. Да?
Мне хотелось поцеловать ее, но ребята мешали. Нина, как бы дразня, потянулась ко мне и засмеялась. Кто-то сказал зевая:
– Ребята, пора все-таки спать.
Я был как в тумане. Я захмелел от солнца. И когда мы, вернувшись в село, начали прощаться друг с другом, я уже не постеснялся и обнял Нину. Она вырвалась и убежала. Очки мои полетели на землю. Пока я их нашел, Нина уже была в комнате.
Подобно Анне Степановне, она открыла на минутку окно и погрозила пальцем:
– Спать, спать пора.
Затем показала язык и скрылась в глубине комнаты.
Когда я вернулся домой, мать ничего не сказала, только поглядела на часы и покачала головой.
Я вскоре уснул. Неожиданно меня разбудили подозрительные звуки. У моей кровати стояла мать. Она глядела на меня плачущими глазами и усиленно сморкалась в платок. Я начал сонно искать очки.
Мать сказала:
– Война… По радио передавали… Фашисты напали на нашу землю…
Максим ничего еще не знал. Я нашел его в поле, где он с довольным видом разглядывал свой опытный участок, любуясь новым сортом пшеницы. Несколько лет он потратил на то, чтобы вывести этот диковинный сорт. В будущем году пшеницей Максима должны были засеять десятки гектаров, и он готовился к этому, как к большому празднику.
Увидев меня, он удивился. Я любил его, но не очень увлекался агрономией, и мое появление на опытном участке нельзя было объяснить простой случайностью. Несколько обеспокоенный, он пошел мне навстречу, но все же не удержался и хвастливо сказал:
– Видал, какая пшеничка?
Я целую минуту молча глядел на серебристо-зеленый квадрат, окруженный лесом подсолнечников. В поле медленно проплывали тени облаков. Максим стоял без фуражки, высокий и плечистый; ветер вихрил пряди его темных волос.
Когда я сказал, что началась война, Максим не поверил и улыбнулся. Я рассердился и, махнув рукой, направился к селу. Тогда Максим, быстро натянув на голову фуражку, побежал вперед. Он ни о чем не расспрашивал; казалось, все остальное для него понятно.
Войдя в дом, он недоверчиво оглядел мать и Клавдию, лепивших вареники, как и в прошлое воскресенье, и вдруг обернулся ко мне с сердитым, но уже проясняющимся лицом:
– Ты… звездочет… Я тебя за такие шутки так отлуплю!.. Ну и напугал, чертенок. До сих пор сердце бьется, как телячий хвост.
Максим засмеялся.
Но не успел он стряхнуть с себя неприятное настроение, как подбежала Клавдия и, прижимаясь к нему, оставляя следы муки на пиджаке, тихо заплакала.
Мать чересчур усердно вынимала из чугунного котла уже сварившиеся вареники.
В комнату вошли Роман и Петр. Она тут же усадила их за стол.
– Ну что, вкусные варенички? – спрашивала мать.
Можно было подумать, что ее совершенно не касалась война.
Максим и Роман успокаивали Клавдию, а Петр пробовал вареники, восторгаясь искусством «стряпух».
Изредка мать поглядывала на меня – самого младшего в семье. Я разбирал старые книги, надеясь найти среди них какой-нибудь военный учебник. Как трудно мне было сидеть у стола. В такие минуты мои предки садились на коней и мчались во весь опор на врага. А я листал учебники. Ах, черт возьми! Мне самому хотелось сражаться. Меня охватило такое возбуждение, что невозможно было усидеть на месте.
Мать о чем-то тихо разговаривала с Петром, и по их взглядам я догадался, что они говорят о моей близорукости. В семье привыкли, что мне, «слепцу», суждено оберегать старость матери; такие, как я, в армии не нужны.
Желая подразнить меня, Петр заговорил о том, что нам, холостякам, легко, мол, идти на фронт – никто не заплачет по нас.
Мать покачала головой, а Роман, шлепнув Петра по плечу, невесело пошутил:
– По тебе все наши девчата будут реветь…
Он обеспокоенно поглядывал в окно, ожидая Анну, гулявшую с маленьким Олегом у реки. Клавдия все еще прижималась к Максиму, мокрым лицом касаясь его бритых щек. Тяжело дыша, Максим обнимал жену: он хотел успокоить ее, но не находил слов.
Роман рассердился, глядя на них:
– Перестаньте хныкать! Тебя, Максим, не возьмут на фронт, ты ведь не обучен.
Максим вспыхнул:
– Думаешь, я фронта боюсь?
Клавдия на секунду оторвалась от Максима и недоверчиво поглядела на Романа, как бы спрашивая, правду ли он говорит. Роман, улыбаясь, пожал плечами:
– Послал же бог жену моему брату – души в нем не чает… Еще неизвестно, пошлют ли его на фронт, а она уже белугой ревет. А вот моя женка забежала куда-то и про мужа забыла. Но ведь кто-кто, а я, как политсостав, первый пойду на фронт.
– Положим, первыми уйдем мы, танкисты, – возразил Петр.
– Вон и твоя спешит, – сказала мать Роману, взглянув в окно, и тихо прибавила – Да не расстраивайте вы себя, хлопцы, может быть, еще обойдется. Давайте лучше обедать.
Оставив сына в соседней комнате, Анна Степановна неторопливо переступила порог. Внимательными глазами разглядывала она всех. С таким вниманием она изучала нас, учеников, когда чувствовала, что в классе не все в порядке.
Роман с нарочитым огорчением сказал:
– Где же ты ходишь, Аня? Видишь, как другие жены горюют? Клава уже наплакаться успела…
Анна Степановна скупо улыбнулась. Она была взволнована. Мимоходом приласкав Клавдию, она возбужденно заговорила:
– Я забежала на минутку в сельсовет. Вижу: партийцы наши что-то обсуждают у себя. Но не все. Стокоз вертится в коридоре и ахает. Увидел меня и говорит: «Вам хорошо, вас немцы не тронут, а меня повесят». – . «Почему же, спрашиваю, меня не тронут?» – «Беспартийная вы, хоть и образованная. А мне, малограмотному дураку, достанется». Ух, до чего же мне хотелось морду ему побить!..
– Ну, ты у меня и боевая, Аня! – сказал Роман, обнимая жену.
Она какая-то смешная: прижмется к Роману и отскочит сконфуженная. Может быть, потому, что я, ее бывший ученик, глядел на нее. А Клавдия целуется с Максимом без всякого стеснения.
Петр был веселее всех. Вот это парень! Я ему, танкисту, завидовал. И меня злило то, что Максим сидел, опустив голову, будто все мы уже поумирали и он один остался на белом свете. Правда, ему жаль было расставаться со своими полями, но ведь надо же оборонять их, раз враг войной пошел. Я что-то сказал ему об этом… Он рассердился.
– Молчи, сморчок, ничего ты не понимаешь.
– Ну, ну, полегче, – сказал Роман, вступаясь за меня. – В эту войну и сморчки будут воевать. Война, брат, всеобщая.
Мать испуганно поглядела на меня. Видимо, только теперь она поняла, что я тоже стремлюсь на фронт. Ей страшно было подумать, что, кроме Виктора, который уже несколько лет где-то летает, можем уйти на фронт и мы – все четверо. Пристальным взглядом окинула она нас всех, потом задержала на секунду глаза на мне, на Максиме и со вздохом села за стол.
Петр начал наливать в рюмки водку и собирался произнести тост, но мать опередила его:
– Не надо, Петруша. Помолчи…
Мы пили молча. Затем мать сказала, печально глядя на нас:
– А то нет… давайте выпьем за победу и за то, чтобы мы все вместе… вместе с нашим дорогим соколиком Виктором встретились тут… в этой самой хате.
– Ты… у нас герой! – закричал Петр, целуя мать.
Он, этот механизатор, был удивительно нежным и ласковым. Мне самому хотелось порой, чтобы Петр положил руку на плечо или погладил по голове; он и Нину целовал при всех; она краснела, но никогда не сердилась. А Петр говорил, подмигивая мне: «Смотри, тютя, как надо девушек любить».
Все выпили. Роман торжественно поднял свою рюмку, сказал:
– Я хочу выпить за матерей. Много испытали они и еще больше испытают. Война эта будет страшной, и многих мы не досчитаемся. Вот почему всем надо быть тверже стали… Чтоб ничто не сломило нас, чтоб земля наша выстояла. И кто останется в живых, пусть, как сказал Шевченко, вспомнит незлым, тихим словом тех, кто не вернется домой…
Тут уж и мать не выдержала. Глядя на нее, Петр сказал:
– Не надо плакать, мама. Во-первых, не все пойдут на фронт. Кое-кто дома останется. Такие вояки, как Максим и Андрей, фронту не нужны. А во-вторых… пускай кто как хочет, а я вернусь домой. Можете не сомневаться. И мы выпьем еще не одну четверть водки, чтоб я так жил. Ну, дамочки, – неожиданно закончил он, обращаясь к Анне Степановне и Клавдии, – может быть, вы уже наплакались, так помогите мне, холостому танкисту, уложить чемодан. Я должен уехать.
Клавдия все еще таращила глаза на него, глотая слезы. Он порывисто обнял ее:
– Эх, расцелуюсь-ка я напоследок с нашей красавицей-невесткой. Хлопцы, придержите Максима!
И он так поцеловал Клавдию, что Максим невольно зажмурился. Роман, делая вид, что сердится на Петра, сказал матери:
– Хорошо, что такого черта на фронт посылают. А то оставишь его в тылу – не одну жену отобъёт…
Клавдия подбежала к Максиму, прижалась к нему. Мать с улыбкой проговорила:
– Если в мирное время не отбил ни у кого жены, то кому теперь такое придет в голову?
Максим тихо сказал жене:
– Собери мне, Клава, мои вещички.
– А ты, Максюта, куда собрался? – спросил Петр, лукаво улыбаясь. – На охоту?
Максим не был воякой. Я вот «слепец», а во мне черт сидел. Так хотелось поскорее на фронте очутиться. А он – сильный, глазастый – никогда в армии не служил. Сначала учился в вузе, потом важной работой в колхозе занялся… Верхом Максим почти не ездил; ходит, бывало, по полю, хлебами любуется, к каждому стеблю присматривается. Руки у него необыкновенные: что ни посеет – растет. Палку в землю воткнет – почки выпускает весной. Взгляд у него ястребиный – в пути какую-нибудь козявку на стебле заметит, слезет с брички и уничтожит… Чирков шутя бил на лету. Я его зрению завидовал. Ах, мать не знала, кому какие глаза нужны.








