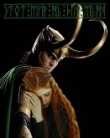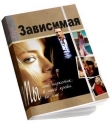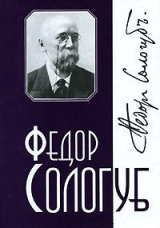
Текст книги "Том 7. Стихотворения"
Автор книги: Федор Сологуб
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Протяжно молит…
Фонарь манящий…
Хорошо – но зачем же свистит змей? Ведь змей из меди не может свистать! Верно, – но не менее верно и то, что этотсвистел, пользуясь закатной дремотой всадника. Все дело в том, что свист здесь – символ придавленной жизни. Оттуда же и это желание «глядеться» сквозь туман. Свистом змей подает знак союзникам, их же и высматривает он, еще плененный, из-под ноги коня.
Змей и царь не кончили исконной борьбы. И в розовом заволакивающем вечере тем неизбежнее чувствуется измена и высматривание. Но вот змей вырастает. Змей воспользовался глухотой сторожа, который сошел с вышки, на смену дремлющему Петру, и он – «расклубился» над домами. Это – и его жизнь теперь, и не его. Вспыхнувшее пламя между тем открывает одну руку Петра. А змей снизу, из-под копыта, где остается часть его раздавленности, все еще продолжает творить. Вот отчего
…Невинность из угла
Протяжно молит о пощаде.
Но появившаяся луна наполнила улицы и площади Петербурга новой жизнью, и теперь кажется, что весь город стал еще более призрачным, что он стал одним слитием и разлитием ночных голосов. Зато все заправдашнее, все бытное ушло в одного мощного хранителя гранитов, что самая заря, когда она сменит, наконец, ночь, покажется поэту лишь вспыхнувшим мечом во все той же, неизменно приковавшей к себе утомленные глаза его, руке медного всадника.
* * *
Перехожу к портретам.
Валерий Брюсов – москвич, печатается с 1892 г. Основной сборник, куда вошло и все, что этот поэт сохраняет от прежней своей поэзии, называется «Пути и перепутья» (два тома, второй вышел в 1908 г.) – туда, например, почти целиком вошел «Urbi et Orbi» (1903 г.) и «Stephanos» [5]5
«Городу и Миру» (лат.), «Венок» (греч.).
[Закрыть]. Последняя книга стихов (много нового) вышла в 1909 г. и называется «Все напевы». Она дает нынешнего, а значит, скорее всего, и будущего Брюсова, потому-то мы ею и будем главным образом пользоваться в этом очерке.
Поэзия Брюсова облечена в парнасские ризы, но, вместе с тем, она вся полна проб, искусов и достижений, и только небрежный чтец не увидит, как часто бывали все эти исканья болезненны, трудны для поэта и даже мучительны.
Не таково творчество Брюсова, чтобы мы стали искать в нем (как у Пушкина, Гейне или Стеккетти) его – все равно, реальных или фантастических – но личных, жизненных переживаний. Нет, поэзия Брюсова – это летопись непрерывного ученичества и самопроверки, а не событий, – труда, а не жизни. Или уж так в ней все личное тщательно затушевано?
Впрочем, не все ли равно, как жилВалерий Брюсов.
Воды Мелара или английский кипсек, свидание с женщиной или детское воспоминание – все это для Брюсова только тени, все – лишь этапы будущего творчества – сначала, оценки и дистилляции – потом. Цвета и вкусы, свое и чужое, внезапно вспыхнувшую нежность и самую усталость от пристальной работы Валерий Брюсов копит и цедит в мысли, чтобы их – если пригодятся – облечь потом метафорой и музыкой стиха в тишине своей лаборатории, – там, где проходит его поэзия и творится настоящая жизнь. Никто не умеет лучше Валерия Брюсова показать сквозь холодную красоту слов и чуткие, часто тревожные волны ритмов всей отвратительной ненужности жизни, всей пытки требовательных страстей.
Вот Брюсов в свои тихие, свои отвлеченные минуты -
Мне хорошо под буйство бури,
При кротком блеске ночника,
На тщательной миниатюре
Чертить узоры лепестка.
(«Все напевы», с. 81)
Или, может быть, автопортрет вышел еще лучше в «Русалке» (ibid.)?
А в день осенних водосвятий,
Из-под воды едва видна,
Как речь таинственных заклятий,
Молитвы слушала она…
Тут все его, брюсовское, – подводность, и жадное, по-своему радостное, потому что целесообразное, восприятие, и даже обыденность, даже ритуальность официальной молитвы, претворяемая в заклятие, в чару и переводимая им на свой и волшебный язык.
А все-таки приходится идти и туда… Или хотя бы вообразить себе это пыточное там. Лабораторная логика требует от него «сонаты».
Но почему темно? Горят бессильно свечи.
Пустой, громадный зал чуть озарен. Тех нет.
Их смолкли хохоты, их отзвучали речи.
Но нас с тобой связал мучительный обет.
Идем творить обряд! Но в сладкой, детской дрожи,
Но с ужасом в зрачках, – извивы губ сливать,
И стынуть, чуть дыша, на нежеланном ложе,
И ждать, что страсть придет, незванная, как тать.
Как милостыню, я приму покорно тело,
Вручаемое мне, как жертва палачу.
Я всех святынь коснусь безжалостно и смело,
В ответ запретных слов спрошу, – и получу.
Но жертва – кто из нас? Ты брошена на плахе?
Иль осужденный – я, по правому суду? Не знаю.
Все равно. Чу! Красных крыльев взмахи.
Голгофа кончилась. Свершилось. Мы в аду.
Кто скажет, что лучше в этом замечательном стихотворении: поэзия или сладостная брюсовская риторика? Какое искусство и какая тайна дает мелькать призраку барельефа среди чуткой текучести символов?
Но в этой пьесе останавливает на себе особое внимание вовсе не стройность, а нечто другое, именно – стих:
В ответ запретных слов спрошу – и получу.
Я выписываю этот стих вовсе не затем, конечно, чтобы укорять поэта за его будто бы цинизм. Поэт не отвечает за наш грубый перевод его символов, так как он сам предлагает совсем другой их перевод, стихотворный.
Во всяком случае, если для физиолога является установленным фактом близость центров речи и полового чувства, то эти стихи Брюсова, благодаря интуиции поэта, получают для нас новый и глубокий смысл. Прежде всего, что такое неприличное, т. е. запретное слово по существу? arrhton (aporrhthn) значит – несказанное, запретное(не смешивайте с ajaton тоже несказанное, но уже потому, что оно ищет символа, который, может быть, забыт).
Оба они, и arrhton и ajaton, и суть слова по преимуществу, т. е. звукосочетания, действительно сознающие себя таковыми, а не дающие забыть, за обыденностью жеста, о том, что они – слова.
Не здесь ли ключ к эротике Брюсова, которая освещает нам не столько половую любовь, сколько процесс творчества, т. е. священную игру словами. Я не люблю эротики Брюсова, и мне досадно, что она меня захватывает. Я хотел бы понять ее иначе… чтобы в ней было больше настоящего Брюсова:
Как сладостно на голос Красоты,
Закрыв глаза, стремиться в безнадежность,
И бросить жизнь в кипящую мятежность!
Как сладостно сгореть в огне мечты,
В безумном сне, где слиты «я» и «ты»,
Где ранит насмерть лезвиями неясность.
(«Все напевы», с. 39)
Любовь, как пытка, любовь среди палачей, костров, смертей – такова эротика Брюсова, и никто лучше этого поэта не открыл нам страшный смысл умирающего костра -
Бушует вьюга и взметает
Вихрь над слабеющим костром;
Холодный снег давно не тает,
Ложась вокруг огня кольцом.
Но мы, прикованные взглядом
К последней, черной головне,
На ложе смерти никнем рядом,
Как в нежном и счастливом сне.
Пусть молкнут зовы без ответа,
Пусть торжествует ночь и лед, —
Во сне мы помним праздник света,
Да искр безумных хоровод!
Ликует вьюга, давит тупо
Нам грудь фатой из серебра, —
И к утру будем мы два трупа
У заметенного костра!
(«Все напевы», с. 55)
Пришлось бы потратить очень немного остроумия, если хотите, чтоб открыть в эротике Брюсова красоту флагеллации и мазохизма.
Там так часто униженно молят о прощении и поклоняются греху с раболепием и проклиная. Но вглядитесь пристальнее. Разве эта эротика не одна сплошная, то цветистая, то музыкальная, метафора то сладостных, то пыточных исканий, достижений, недающихся искусов, возвратов и одолений художника?
Да, Валерий Брюсов больше любит прекрасный призрак жизни, мечту, украшенную метафорами, чем самую жизнь. Я говорю о художнике, конечно. Мне нет дела до такой детали Брюсова-поэта, как Брюсов-человек.
В венке из терний дни мои; меж них
Один лишь час в уборе из сирени.
Как Суламифи – дом, где спит жених,
Как Александру – дверь в покой к Елене,
Так были сладостны для губ моих
Ее колени.
Иногда он любит даже не мечту – и она тогда слишком для него груба и назойлива. Нет, просто – грусть:
Но не длить мечту застенчивую
В старый парк пришла я вновь:
Тихой грустью я увенчиваю
Опочившую любовь!
Жизнь Валерий Брюсов охотнее всего облекает или в застылость города, старой легенды, северного пейзажа, или обращает в призрак, чтобы она ни о чем не спрашивала, а напротив, ее можно было разглядывать, и, не успев вовлечь нас с собой в сутолоку, жизнь покорно оставалась с нами на лабораторном экране.
Вот город -
Царя властительно над долом,
Огни вонзая в небосклон,
Ты труб фабричных частоколом
Неумолимо окружен.
Стальной, кирпичный и стеклянный,
Сетями проволок обвит,
Ты – чарователь неустанный,
Ты – неслабеющий магнит.
Драконом хищным и бескрылым
Засев, – ты стережешь года,
А по твоим железным жилам
Струится газ, бежит вода…
(«Все напевы», с. 100 сл.)
А вот призрак девушки —
Мы были рядом на мгновенье,
И встречи жизнь не повторит.
Кто ты? откуда? с кем таилась
В наемной комнате вдвоем?
Куда под утро торопилась
С своим стыдливым узелком?
Но характернее для поэта его «Уличная» («Все напевы», с. 103), с удивительной сменой неполно-отзвучных рифм, которые точно для того и предназначены, чтобы живое казалось призраком, выдумкой уличных фонарей или начинающимся бредом. Рифмы, – главное, следите за нечетными рифмами!
Свищет вполголоса арии,
Блеском и шумом пьяна,
Здесь, на ночном тротуаре,
Вольная птица она.
Детски балуется с локоном,
Вьющимся дерзко к глазам,
То вдруг наклонится к окнам,
Смотрит на радужный хлам.
Вот улыбнулась знакомому
Всем ожерельем зубов!
Вот, подмигнув молодому,
Бросила несколько слов.
Кто-то кивнул необдуманно,
К ней наклонился, – и вот
Вместе смеется он шумно,
Рядом, волнуясь, идет.
Словно громадное зеркало
Их отразило окно,
И отраженье померкло,
Канув на темное дно.
Но вы ошиблись бы, приняв здесь творчество за импрессионизм. Ничего подобного нет! Это сам поэт претворил в цветовое пятно, в волну уличной жизни то, что в действительности, может быть, и даже, наверное, пребольно вцепилось в него, занятого в данную минуту какими-нибудь выкладками из своей походной лаборатории. Пришлось сделать над собой усилие. Жизнь груба и надменна. Разве легко повенчать ее с призраком? Но иногда и Валерию Брюсову это невмочь. Двойная жизнь вечным перебоем своих неслитостей совсем истомила поэта, и вот он восклицает:
Мы не спорим, не ревнуем,
Припадая, как во сне,
Истомленным поцелуем
К обнажившейся спине.
Я нарочно остановился долее на анализе поэтических восприятий Брюсова. Его мучительные пробы кажутся мне исполненными недоверия не только к своим силам, но и к тому, что вообще он делает, хочет делать и любит делать. Это скептик, даже более – иронист.
Еще в начале 900-х годов поэт говорил:
Я старый пепел не тревожу, —
Здесь был огонь и вот остыл.
Как змей, на сброшенную кожу,
Смотрю на то, чем прежде был.
Лучей зрачки горят на росах,
Как серебром, все залито…
Ты ждешь меня у двери, посох!
Иду! Иду! со мной – никто!
(У себя. «Пути и перепутья», II, 5 cл.)
И не раз потом то слышался ему призыв к работе, и поэт понукал свою мечту, «как верного вола», то видел он себя случайным путешественником; нить Ариадны выпадала у него из рук, погасший факел обжигал пальцы, и лабиринт, где «в бездонном мраке нет дорог», мстил ему, потому что он был здесь только пришельцем, только одним из тех, кому не выдаются тайны.
Наконец, уже совсем недавно Валерий Брюсов снова видит себя столь же далеким, как и в юности, от грезившейся цели. Поэт не нашел за долгие и трудовые годы того «немыслимого знанья», которое было его первой и тайной любовью («Пути и перепутья», II, 4), и вот какое мы слышим признанье —
Я сеятеля труд упорно и сурово
Свершил в краю пустом,
И всколосилась рожь на нивах: время снова
Мне стать учеником.
Я не знаю, смеется ли когда-нибудь Валерий Брюсов. Я видал его – в стихах (в натуре совсем его не видел) серьезным и размеренным. Он почти всегда строго-строфичен, а блеску его чужды тревожные сверкания. Лишь изредка матовый и нежный, этот блеск чаще переходит в широкое и ровно-лучистое сияние. Поэт любит выдавать себя за коллекционера, эклектика, и порою он интригует нас странным сходством с Жуковским. Но антология Брюсова и точно сродни майковской.
Эллада ничего не сказала бы Валерию Брюсову. Его «Ахиллес у алтаря» («Stephanos», 165) хочет умереть, «приникнув к устам Поликсены», и я не нахожу, чтобы очертание этого героя существенно разнилось не только от силуэта триумвира, который променял свой пурпур на поцелуй Клеопатры («Stephanos», 168), но и от фигуры праотца, когда тот соблазняет нашу праматерь: различны ситуации, но колорит один – пепельный и не намеренно ли академический? Что будет с Валерием Брюсовым, когда минуют годы «ученичества» и даже завтра, если он захочет бросить свою прихотливую аскезу?
Я боюсь воскрешать слова из предисловия к «Urbi et Orbi», их уже нет перед стихами 2-го тома «Путей и перепутий». Но тогда Валерий Брюсов еще мыслил стих отдельно от поэзии.
Для отдаленногобудущего (я не особенно верю, чтобы для поэта какое-нибудь будущее точно казалосьотдаленным) он провидел стих в качестве «совершеннейшей формы речи», смещающим прозу «прежде всего в философии».
Если до сих пор он «в тех же мыслях», это многое разъясняет, конечно, во «Всех напевах», и даже на заглавие сборника бросает свет. А ученичество, декадентство и педантизм Валерия Брюсова приурочиваются для нас, таким образом, к данной ступени его миропонимания. Послушайте, Брюсов, но разве стих может быть речью, т. е. обыденностью?
Потому что смешно же, в самом деле, проектировать в будущем какой-то гиератизм стилей, с академией в Чебоксарах.
Каждая область знания точно ищет освободиться от пут метафоры, от мифологических сетей речи – но уж, конечно, не для изысканности стиля, а чтобы уйти в терминологию, в беззвучность, в письмо, в алфавит на аппарате Морзе. Что же будет она делать – скажите – со стихом, этим певучим гением мифа, уверяющим ее в вечности Протея и бессмертии непрестанно творимой легенды?
И кому нужна будет философия без системы, а тем более стих, отказавшийся быть личным, иррациональным, божественно неожиданным?
Впрочем, тут, конечно, легче гадать, чем судить, и критика, пожалуй, еще априорнее утверждения… Я протестую в словах Брюсова против одного – «несомненно», и хорошо, что он написал его шесть лет тому назад, а теперь, может быть, уже и забыл!
Во всяком случае, стих недаром носил когда-то не только философскую мечту, но и философскую доктрину. Наша элегия до сих пор склонна к «философичности».
Да и нельзя толочься десятками лет среди таких соблазнительных соседств, как мертво и ничего, жизни и тризне, без цели – качели, смерть и твердь(есть, положим, еще верть! и жердь– но они скромно отодвигаются в сторону, чувствуя свою обидную неантологичность) и не настраиваться время от времени метафизически.
Есть, однако, в России поэты, для которых философичностьстала как бы интегральной частью их существа. Поэзию их нельзя назвать, конечно, их философией. Это и не философскаяпоэзия Сюлли Прюдома. Атмосфера, в которой родятся искры этой поэзии, необходимая творчеству этих поэтов – густо насыщена мистическим туманом: в ней носятся частицы и теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов, в ней можно открыть, пожалуй, и пар от хлыстовского радения, – сквозь нее мелькнет отсыревшая страница Шопенгауэра, желтая обложка «Света Азии», Заратустра бредил в этом тумане Апокалипсисом.
О, я далек от желания писать карикатуру. Я говорю о нашей душе, о больной и чуткойдуше наших дней.
И вы уже угадали, что речь идет о поэте и романисте, которому было бы довольно «Мелкого беса» и «Опечаленной невесты», чтобы имя его осталось бессмертным выражением времени, которое мы, как всякое другое поколение, склонны, за неимением к оному перспективы, считать безвременьем.
Федор Сологуб – петербуржец.
На последней из известных мне книг его стихов написано, что она 8-я (издана в 1908 г., 202 с. Москва, Изд-во «Золотое Руно»).
Две вещи наиболее чужды поэзии Сологуба, насколько я успел ее изучить.
Во-первых, непосредственность (хотя где же они и вообще у нас, Франсисы Жаммы? уж не лукавый ли Блок?).
Во-вторых, неуменье или нежеланье стоять вне своих стихов. В этом отношении это разительный контраст с Валерием Брюсовым, который не умеет – и не знаю, хочет ли когда, – оставаться внутри своих стихов, а также с Вячеславом Ивановым, который даже будто кичится тем, что умеет уходить от своих созданий на какое хочет расстояние. (Найдите, например, попробуйте, Вячеслава Иванова в «Тантале». Нет, и не ищите лучше, он тами не бывал никогда.)
Сологуб, как это ни странно, для меня лучше всего характеризуется именно объединенностью этих двух отрицательно формулированных свойств.
Как поэт, он может дышать только в своей атмосфере, но самые стихи его кристаллизуются сами, он их не строит.
Вот пример:
Мы – плененные звери,
Голосим, как умеем.
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.
Если сердце преданиям верно,
Утешаяся лаем, мы лаем.
Что в зверинце зловонно и скверно,
Мы забыли давно, мы не знаем.
К повторениям сердце привычно, —
Однозвучно и скучно кукуем.
Все в зверинце безлично, обычно.
Мы о воле давно не тоскуем.
Мы – плененные звери,
Голосим, как умеем.
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.
Прежде всего – слышите ли вы, видите ли вы, как я вижу и слышу, что мелькнуло, что смутно пропело в душе поэта, когда он впервые почувствовал возможность основной строфы этой пьесы?
Первой обозначившейся строчкой была третьяв напечатанном стихотворении:
– Глухо заперты двери.
Вы узнаете ее, конечно?..
…… … … …
…… … … …
Тихо запер я двери —
Ведь это была тоже третьястрочка в стихотворении Пушкина «Пью за здравие Мэри».
Данная пьеска Корнуэлла, и по имени Мэри, и по эпохе пушкинского вдохновения (1830), нераздельно сочетается для нас, и для Сологуба тоже, конечно, – с «Пиром во время чумы» Уильсона-Пушкина. Я не говорю уже о том, что самый «Пир» теперь для читателя невольно приобретает именно сологубовский колорит.
Контрасты Пушкина сгладились, мы их больше не чувствуем – что же делать? Осталось нечто грубо хохочущее, нечто по-своему добродушно-застращивающее, осталась какая-то кладбищенская веселость, только совсем новая, отнюдь более не-Шекспировская форма юмора.
За дверямипришли к Сологубу и звери. Но они пришли неспроста. О, это – звери особенные. У них есть своя история. Метафора? Отнюдь нет. Здесь пережитость, даже более – здесь постулат утраченной веры в будущее [6]6
Вы помните это страшное «В день Воскресения Христова»:
Томительно молчит могила,Раскрыт напрасно смрадный склеп, —И мертвый лик ЭммануилаОпять ужасен и нелеп (сноска И. Ф. Анненского).
[Закрыть]. Сложная вещь эта Сологубовская метэмпсихоза. Иногда ему хочется на нее махнуть рукою, а иногда она развалится возле в кресле (как в предисловии в «Пламенному кругу», например): вот, мол, и у нас своя теософия, – а вы себе там как хотите!
Помните «Собаку седого короля», эту великолепную собаку:
Ну вот живу я паки,
Но тошен белый свет:
Во мне душа собаки,
Чутья же вовсе нет.
(«Пламенный круг», с. 25)
Вы думаете, чутья же вовсе нет– это тоже аллегория? Ничуть не бывало. Лирический Сологуб любит принюхиваться, и это не каприз его, и не идиосинкразия – это глубже связано с его болезненным желанием верить в переселение душ. Сологубу подлинно, органически чужда непосредственность, которая была в нем когда-то, была не в нем – Сологубе, а в нем – собаке. И как дивно обогатилась наша лирика благодаря этому кошмару юродивого:
Высока луна господня.
Тяжко мне.
Истомилась я сегодня
В тишине.
Ни одна вокруг не лает
Из подруг.
Скучно, страшно замирает
Все вокруг.
В ясных улицах так пусто,
Так мертво.
Не слыхать шагов, ни хруста,
Ничего.
Землю нюхаяв тревоге,
Жду я бед.
Слабо пахнет по дороге
Чей-то след.
Никого нигде не будит
Быстрый шаг.
Жданный путник, кто ж он будет, —
Друг иль враг?
Под холодною луною
Я одна.
Нет, невмочь мне, – я завою
У окна.
Высока луна господня,
Высока.
Грусть томит меня сегодня
И тоска.
Просыпайтесь, нарушайте
Тишину.
Сестры, сестры! войте, лайте
На луну!
Я не потому выписал здесь это стихотворение, что оно должно сделаться классическим, – что Геката всегда будет и будет всегда женщиной; – что меня и в этом не только уверила, но доказала мне это данная пьеса. Нет, я выписал стихи – как комментарий к первым – «отчего и когда мы голосим» и «зачем и по какому праву мы – поэты». Здесь все ответы.
Я сказал также, что Сологуб принюхивается: да, – в запахах для него и точно начало иных поэм:
Порой повеет запах странный,
Его причины не понять, —
Давно померкший, день туманный
Переживается опять.
и т. д. (ibid., с, 34)
Но никнут гробы в тьме всесильной,
Своих покойников храня,
И воздымают смрад могильный
В святыню праздничного дня.
(с. 68)
Дышу дыханьем ранних рос,
Зарею ландышей невинных;
Вдыхаю влажный запах длинных
Русалочьих волос.
(с. 111)
или
И влажным запахом пустынным
Русалкиных волос.
(с. 112)
Я, конечно, пропускаю все строки об ароматах– где скучно было бы отличать элементы псевдолирического, риторики, или просто-напросто клише от подлинного, нового, нутряного лиризма. Я говорю только о запахе, о нюханье, т. е. о болезненной тоске человека, который осмыслил в себе бывшего зверя и хочет и боится им быть, и знает, что не может не быть. После всего сказанного вы не ждете, конечно, что я займусь еще подыскиванием для нашей кардинальной пьесы
Мы плененные звери
каких-нибудь аллегорий.
Хотите – пусть это будут люди, хотите – поэты, хотите – мы перед революцией. Для меня это просто звери, и выстраданные звери.
Я говорил выше о философичности Сологуба и о невозможности для него быть непосредственным, но читатель не заподозрит меня, я думаю, в том, чтобы я хотел навязать его поэтической индивидуальности рассудочность, интеллектуальность.
Напротив, Сологуб эмоционален, даже более – он сенсуален, только его сенсуальность осложнена и как бы даже пригнетена его мистической мечтой – самая мечта его лирики преступна: это Иокаста, оплодотворенная ею же рожденным Эдипом.
Любовь Сологуба похотлива и нежна, но в ней чувствуется что-то гиенье, что-то почти карамазовское, какая-то всегдашняя близость преступления. Где-то высоко караулит Смерть: и все равно Ей – колыбельку или брачное ложе:
Отчетливо и тонко
Я вижу каждый волосок;
Я слышу звонкий голосок
Погибшего ребенка.
Она стонала над водой,
Когда ее любовник бросил,
Ее любовник молодой
На шею камень ей повесил.
(с. 111)
Кто с ними был хоть раз,
Тот их не станет трогать.
Сверкнет зеленый глаз,
Царапнет быстрый коготь.
Прикинется котом
Испуганная нежить,
А что она потом
Затеет? Мучить? Нежить?
(с. 137)
Помните вы эту «Тихую колыбельную»? (с. 37 сл.). Вся из хореев, усеченных на конце нежно открытой рифмой. На ли, ю, ду, на, да, изредка динькающей – день – тень, сон – ленили узкой шепотной – свет – нет.
Сколько в этой элегии чего-то истомленного, придушенного, еле шепчущего, жутко-невыразимо-лунного:
– Сон, ты где был? – За горой.
– Что ты видел? – Лунный свет.
– С кем ты был? – С моей сестрой.
– А сестра пришла к нам? – Нет. —
Я тихонечко пою;
Баю-баюшки-баю.
…… … … …
– Тяжело мне, я больна,
Помоги мне, милый брат. —
…… … … …
– Я косила целый день.
Я устала. Я больна. —
За окном шатнулась тень.
Притаилась у окна.
Я пою-пою-пою:
Баю-баюшки-баю.
(с. 37 сл.)
Нет, я не верю материнству желания, когда оно поет у того же Сологуба:
Я на ротик роз раскрытых росы тихие стряхну,
Глазки светики-цветочки песней тихою сомкну.
(с. 36)
А какая страшная нежность в этой риторике, среди лубочных волхвований -
Любовью легкою играя,
Мы обрели блаженный край.
Вкусили мы веселье рая,
Сладчайшего, чем божий рай.
(с. 167)
И вдруг откуда-то брызнули и полились стеклянные звоны, и чьи-то губы тянутся, дышат, улыбаются, чьи-то розовые губы обещают в вас всю свою сладость перелить. Разберите только, где здесь слова, а где только лилы и качания:
Лила, лила, лила, качала
Два темно-алые стекла,
Белей лилей, алее лала
Бела была ты и ала.
А та – Желтолицая уже здесь, возле, немножко лубочная, но что из этого?..
И в звонах ласково-кристальных
Отраву сладкую тая,
Была милее дев лобзальных
Ты, смерть отрадная моя!
(с. 168)
Воспреемнику Недотыкомки незачем, кажется, были бы стихи, чтобы томить и долить нас новым страхом, новым не только после Вия, но и после пробуждения Раскольникова. Но лирике нашей точно нужен сологубовский единственный страх -
Не трогай в темноте
Того, что незнакомо, —
Быть может, это – те,
Кому привольно дома.
…… … … …
…… … … …
Куда ты ни пойдешь,
Возникнут пусторосли.
(т. е. что-то глупо-кошмарно-дико-разросшееся, вроде назойливо не сказанных и цепких слов, из которых иной раз напрасно ищешь выдраться в истоме ночного ужаса).
Измаешься, заснешь,
Но что же будет после?
Прозрачною щекой
Прильнет к тебе сожитель.
(неотступная близость темноты, уже привычной, странно обыденной даже)
Он серою тоской
Твою затмит обитель,
И будет жуткий страх, —
Так близко, так знакомо, —
Стоять во всех углах
Тоскующего дома.
Мы не прочь верить иногда Сологубу, что наше общее ябыло раньше и Фриной (с. 17 сл.). Но нам ближе в словах его другая Прекрасная Дама, та – нежить, которая пришла соблазнять его в белой рубахе.
Упала белая рубаха
И предо мной, обнажена,
Дрожа от страсти и от страха,
Стоит она…
Только вы не разбирайте здесь слов. Я боюсь даже, что вы найдете их сочетания банальными. А вот лучше сосчитайте-ка, сколько здесь Аи полу-А– посмотрите, как человек воздуху набирает от того, что увидел, как у ведьмы упала белая рубаха? Кто разберет, где тут соблазн? где бессилие? где ужас?
Сологуб прихотливый поэт и капризный, хоть нисколько не педант-эрудит. В нем чаще бывает даже нечто обнаженно-педагогически-ясное.
Но есть и у Сологуба слова-тики, и, уснащая его стихи, они, придают им индивидуальный колорит вроде того, как разные винтелии следовательноотмечают говорку большинства из нас.
У Анри де Ренье недавно констатировали такие точно тики-слова orи mort [7]7
Золото, смерть (фр.).
[Закрыть]. Сологуб злоупотребляет словами: больнойи злой. Все у него больное: дети, лилии, сны и даже долины. Затем у Сологуба-лирика есть и странности в восприятиях. Босые женские ноги, например, в его стихах кажутся чем-то особенно и умилительным, и грешным, – а главное, как-то безмерно телесным.
Иногда Сологуба тешат и звуки. Но это не Вячеслав Иванов, этот визионер средневековья, переживший потом и Возрождение, чтобы стать одним из самых чутких наших современников. Когда Вячеслав Иванов цедит, кромсает и прессует словадля той фаянсовой ступки, где он будет готовить – алхимик – свое слепительное Да, он прежде всего возбуждает в вас интеллектуальное чувство, интерес, даже трепет, пожалуй, перед его знанием и искусством.
Не то Сологуб -
Ты поди некошноюдорогою,
Ты нарви мне ересного зелия
…… … … …
Ты приди ко мне с шальной пошавою
Страшен навийслед…
Горек омегтвой…
(с. 133)
Я перерыл бы все энциклопедии, гоняясь за Вячеславом Ивановым, если бы этот голубоглазый мистик вздумал когда-нибудь прокатиться на Брокен. Но мне решительно неинтересно знать, что там такое бормочет этот шаман – Сологуб, молясь своей ведьме. Да знает ли еще он это и сам, старый елкич!
«Елисавета – Елисавета»…
Целая поэма из этого звукосочетания, и какая поэма! Она захлебывается от слез, может быть, сусальных, но не все ли равно? – когда, читая ее, нам тоже хочется плакать:
Елисавета, Елисавета
Приди ко мне!
Я умираю, Елисавета,
Я весь в огне.
Но нет ответа, мне нет ответа
На страстный зов.
В стране далекой Елисавета.
В стране отцов…
– и т. д. (с. 191 сл.)
В заключение о Сологубе – хорошо бы было сказать мне и о том, как он переводит. Но лучше, пожалуй, не надо. Пусть себе переводит стихи Верлена; это делает не Сологуб-поэт, а другой – внимательный и искусный переводчик. А того, лирика-Сологуба, – и самого нельзя перевести. Разве передашь на каком-нибудь языке хотя бы прелесть этих ритмических вздыманий и падений сологубовски-безрадостного утреннего сна -
Я спал от печали
Тягостным сном.
Чайки кричали
Над моим окном.
Заря возопила:
– Встречай со мной царя.
Я небеса разбудила,
Разбудила, горя. —
И ветер, пылая
Вечной тоской,
Звалменя, пролетая
Над моею рекой.
Но в тяжелой печали
Я безрадостно спал.
О, веселые дали,
Я вас не видал!
(с. 89)
Я, впрочем, рад, что Сологуб прилежно читал Верлена. Если я не ошибаюсь, одна из лучших его пьес, «Чертовы Качели» (с. 73 cл.), навеяна как раз строфою из «Romances sans paroles» (Т. I, p. 155) -
О mourir de cette mort seulette
Que s'en vont, cher amour qui t'épeures
Balançant jeunes et veielles heuresi
O mourir de cette escarpolette!
Сологуб перевел его плохо, а я сам позорно. Не буду я пытаться переводить еще раз это четверостишие. Лучше постараюсь объяснить вам верленовские стихи в их, так сказать, динамике. Представьте себе фарфоровые севрские часы, и на них выжжено красками, как Горы качают Амура. Горы – молодые, но самые часы старинные. И вот поэт под ритм этого одинокого ухождения часов задумался на одну из своих любимых тем о смерти, т. е., конечно, своей смерти. Мягко-монотонное чередование женских рифм никогда бы, кажется, не кончилось, но эту манию разрешает формула рисунка: «Вот от таких бы качелей умереть».
Чтобы скрыть от нас картину, породившую его стихи, Верлен заинтриговал нас, вместо мифологических Гор поставив слово часыс маленькой буквы, и вместо Амура – написав любовь, как чувство.
Не то у Сологуба. Его качели – самые настоящие качели. Это – скрип, это – дерзкое перетирание конопли, это – ситцевая юбка шаром, и ух-ты! Но здесь уже дело не в самом Сологубе, а в свойстве того языка, на котором была когда-то написана и гениальная пушкинская «Телега».
Вот качели Сологуба в выдержке:
Над верхом темной ели
Хохочет голубой:
– Попался на качели,
Качайся, черт с тобой.
В тени косматой ели
Визжат, кружась гурьбой:
– Попался на качели,
Качайся, черт с тобой.
Заметьте, ни малейшей грубости, никакой фамильярности даже в этом черт с тобой– оно лукаво, вот и все.
Ведь качает-то действительно черт. А эти повторяющиеся, эти качальные, эти стонущие рифмы! Нет, Сологуб – не переводчик. Он слишком самв своих, им же самим и созданных превращениях. А главное – его даже и нельзя отравить чужим, потому что он мудро иммунировался.
Проделала эту прививку на свой лад, конечно, ведьма. И проделала жестоко.
– Будут боли, вопли, корчи,
Но не бойся, не умрешь,
Не оставит даже порчи
Изнурительная дрожь.
– Встанешь с пола, худ и зелен,
Под конец другого дня.
В путь пойдешь, который велен
Духом скрытого огня.
– Кое-что умрет, конечно,
У тебя внутри – так что ж?
Что имеешь, ты навечно,
Все равно, не сбережешь.
(с. 139)
Вот каково, может быть, было посвящение Сологуба в пророки. Исайя, как видите, уж ровно не при чем!
Рядом с литературными портретами Брюсова и Сологуба я опускаю портрет Вячеслава Иванова (выступил в 1897 г. – «Кормчие звезды», потом «Прозрачность», 1904 г.), т. к. тот сборник, на основании которого портрет мог бы, кажется, быть сделан, «Cor ardens») еще не вышел. Но, говоря далее об искусстве, я многое еще скажу о поэзии Вячеслава Иванова.