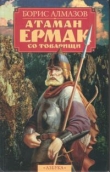Текст книги "Кровавый снег декабря"
Автор книги: Евгений Шалашов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
– А что вы собираетесь делать? – прошептал поражённый Кюхельбекер. – Вы все погибнете здесь. Не лучше ли увести войска?
– Увести, – горько улыбнулся Ермолов, ставший выглядеть ещё старше. – Уйти в Россию, оставив Кавказ, Грузию и всё остальное? Оставив христиан на поругание? Оставив тех из мусульман, которых мы обещали защищать? Нет, голубчик. Уж лучше умереть здесь. Чтобы не видеть того, что будет дальше. Потому что ежели мы сейчас уйдём, то потеряем не только Кавказ и Грузию, а начнём терять и саму Россию. Кавказ – это горловина между мусульманами и христианами. Кубанские казаки без России долго не продержатся. А потом? Крым, который воевали сто лет. Потеряем Азовское, Каспийское и Чёрное моря. Да и, думается мне, это ещё не всё.
– Так точно, – был вынужден признать Вильгельм Карлович. – В Польше неспокойно.
– Вот-вот, господа якобинцы. Из-за вашей революции от матушки-России скоро останутся, как от того козлика, – рожки да ножки. Так что возвращайтесь в Петербург. Провожатых я вам дам. Бумаги выправят, чтобы, не дай бог, ежели с царскими войсками встретитесь, не повесили на первом суку. А всем этим «временщикам» скажете: Ермолов, мол, отказался. Не будет он ни на чьей стороне, потому что иначе не за что вам и воевать друг с другом будет.
– А всё же, Алексей Петрович. Что вы собираетесь делать?
– Что-нибудь да буду. На месте сидеть, ждать, пока Аббас-Мирза придёт да будет русских за Кавказ выгонять – это уж точно не буду. А там – уж как Бог даст!
Часть вторая
ПЛАМЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
КРЕПОСТЬ ПЕТРА И ПАВЛА
Январь – март 1826 года. Санкт-Петербург
По меркам Великой французской революции судить, так в казематах Петропавловской крепости народа сидело немного. В Консьержке в славные дни держали по сто-двести человек в камерах, предназначенных на десятерых. Правда, помещения регулярно освобождались. У нас, слава богу, до этого не дошло. Пока не дошло...
Трибунал, созданный членом Временного правительства подполковником Батеньковым, трудился на совесть. Правда, никого не вешали и не гильотинировали, а лишь арестовывали. В первую очередь задержали тех, кто смалодушничал во время Декабрьской революции: капитана Якубовича и полковника Булатова. На Якубовича был зол председатель правительства – полковник Генерального штаба Трубецкой. Из-за «карбонария» едва не сорвался весь чётко проработанный план восстания. Да и потом, капитана видели то рядом с каре, то среди свиты Николая.
«Кавказец» заключение воспринял болезненно. Его деятельная и кипучая натура не желала мириться с пребыванием в четырёх стенах. Якубович нервничал, оскорблял тюремщиков по-русски и по-французски. Охрана, на языке родных осин ещё и не то слыхала, а по-французски всё равно не понимала. Заскучав, Александр Иванович стал исполнять романсы, в чём (несмотря на полное отсутствие слуха) преуспел. Особой популярностью пользовались грустные «кавказские» и жалостливые каторжные. Благодаря вокальным опытам капитану удалось подружиться с охранниками, которым тоже было скучно. Так как деньги ему были оставлены (не при старом режиме!), то новые друзья поставляли и водку. Напившись, Якубович кричал, что всё равно убил бы царя, но только какая-то скотина опередила! Когда деньги кончились, поили в долг, а потом перестали. В январе вместо штатных тюремщиков в коридорах и караулках появились солдаты лейб-гренадерского полка. Гвардейские офицеры, недавно боготворившие Якубовича, держались холодно и в разговоры не вступали. В результате Александр Иванович впал в чёрную меланхолию и беспокойства никому не доставлял. На допросах, правда, держался уверенно, даже нагло, уверяя, что всегда был более революционен, нежели все революционеры вместе взятые. А то, что он не вывел на площадь флотский экипаж, – роковое стечение обстоятельств... В конце концов от Якубовича отстали, но из камеры не выпустили.
С Александром Булатовым дела обстояли сложнее. Полковник и командир армейского егерского полка, бывший офицер лейб-гренадер, прошедший с ними все дороги войны с Наполеоном, которому ветераны украдкой целовали руки, был не просто подавлен, а смят, как старая тряпка. Во время допроса лепетал что-то о маленьких дочерях. В камере его дважды вынимали из петли. Потом возжелал разбить голову о стену. Когда надзиратели его в очередной раз спасли, то Батеньков под нажимом Трубецкого решил, что для новой России Александр Михайлович Булатов опасности не представляет. Забегая вперёд, скажу, что с этим суждением правители несколько поспешили. Булатов, повидав жену и дочерей, отправился к своим егерям. А так как от должности командира его никто не отстранял, он поднял свой полк и отвёл в Москву, несказанно порадовав императора Михаила. Правда, по просьбе самого Александра Михайловича, император, простивший незадачливого заговорщика, принял его отставку от должности командира полка, но оставил при Главном штабе. Боевые качества Булатова были хорошо известны. А хорошими командирами, как известно, разбрасываться – грех.
В конце декабря 1825 года в Петропавловскую крепость стали свозить более именитых арестантов. Первыми туда попали две вдовствующие императрицы (не хватало третьей, что находилась с телом мужа в Таганроге, но место ей уже приготовили), супруга самозваного императора Михаила, малолетние (и не очень) дети дома Романовых и всё Вюртембергское семейство. Всех удивил Жуковский. Поэт добровольно явился в крепость, заявив, что он, будучи учителем великих княгинь и человеком, которого прочили в наставники цесаревича Александра Николаевича, не может бросить своих подопечных. Поступок хотя и глупый, но благородный. Комендант не стал спорить с поэтом, а просто приказал поселить его в крепости. Естественно, не в каземате, а в помещении для офицеров. Василию Андреевичу было разрешено посещать учеников один раз в день и заниматься с ними изящной словесностью.
В узилище угодил и адмирал Мордвинов. Николай Степанович, хоть и был графом, а также главой Вольного экономического общества и академиком, на предложение войти в правительство ответил так, что позавидовал бы пьяный боцман. По совету хитромудрого Сперанского из списка Временного правительства вычёркивать адмирала не стали, но посадили в одиночную камеру...
В Алексеевский равелин засунули Председателя Государственного совета и Кабинета министров князя Лопухина, Государственного секретаря Оленина, министра двора Волконского (дядюшку Сергея Григорьевича!), командующего войсками внутренней стражи графа Комаровского. В соседней камере находились министр юстиции Лобанов-Ростовский, военный министр Татищев, а также десяток сенаторов, не захотевших смириться с той декоративной ролью, что уготовил Сперанский. Хотя далеко не все лица, попавшие в проскрипционные списки, оказались в казематах. В последний момент было решено оставить в покое адмирала Шишкова. Радетель за чистоту русского языка, министр просвещения был объявлен под домашним арестом. Куда-то исчезли министр иностранных дел Нессельроде, министр финансов Канкрин и начальник Главного штаба Дибич. «Недостачу» возмещали офицерами, которые либо отказывались принимать присягу Временному правительству, либо сражались на стороне свергнутого ныне тирана. Последних, правда, было совсем мало, потому что после революции на офицеров-роялистов устроили настоящую охоту. Солдаты, первоначально спокойно относившиеся к контрреволюционерам (леший их подери, эти незнакомые слова!), постепенно зверели. А так как офицеры мирно сдаваться не хотели, то и живыми их старались не брать. Правда, довольно много их успело уйти. Но, как считал председатель Трибунала подполковник Батеньков: «Кто ушёл – тот ушёл. Не велики птицы. Хуже всего то, что «павлоны» Рыжего Мишку упустили».
Солдаты и офицеры Павловского полка находились в «чёрном» списке. Всё же один батальон «павловцев» выступил за императора, бросив тень на всех остальных...
Совершенно случайно выяснилась судьба генерала Дибича. Оказалось, что бывший начальник Главного штаба был убит при аресте. Но солдаты, испугавшись своего поступка, спрятали труп генерала в снег, не догадавшись снять с него мундир. Дворник, нашедший по весне мертвеца с генеральскими эполетами, сообщил о находке в участок. Выяснить подробности не удалось, потому что никто ничего не записывал.
Офицеры, которых ставили начальниками над «арестными» командами, вначале артачились. Штабс-капитан Преображенского полка Мелехин пытался вызвать на дуэль самого Бистрома. Самое странное, что ему это удалось: Карл Иванович принял картель. Стрелялись во дворе казармы, с пятнадцати шагов. Оба промазали. После этого генерал вызвал во двор караул и приказал арестовать штабс-капитана. Когда Мелехина уводили, Бистром объявил, что в следующий раз он никому не доставит удовлетворения, а будет расстреливать. Генералу поверили. Ну, разумеется, недворянское и неофицерское это дело – арестовывать своих же: пусть не сослуживцев, а собратьев по касте. Кое-кто отказывался, а кто-то и стрелялся от безысходности. Но некоторые втянулись. Особенно те, кто вышел из фельдфебелей. Как ни пытался в своё время император Павел ограничить производство в офицеры солдат из податных сословий, но получилось плохо. Имеющихся в империи дворян постоянно не хватало, чтобы закрыть все вакации. Поэтому, «воленс-ноленс», приходилось брать наилучших из нижних чинов и унтер-офицеров. А «наилучшие» – кто? В армейских, особенно в кавказских, полках в прапорщики производили толковых унтеров, отдавая предпочтение георгиевским кавалерам. В гвардейских полках эполеты цепляли всё тем же взводным унтерам и ротным фельдфебелям, кто умел глотку драть и имел кулаки побольше... Вчерашний унтер-офицер получал неизведанное ранее удовольствие, вламываясь в дома штаб-офицеров и генералов. Видеть недоумение в глазах мужчин и страх женщин, слышать рыдания и проклятия... Опять же различные мелочи вроде серебряных ложек или золотых табакерок, прихваченные в домах арестантов, можно было считать «боевыми» трофеями.
Арестантов было некому допрашивать, потому что допросчики из Министерства внутренних дел либо «болели», либо просто разбегались. Приходилось привлекать младших офицеров. Специально для них в университетской типографии отпечатали вопросник, который напоминал служебный формуляр: когда родился, где крестился, к какому чину и к ордену был представлен. Правда, нужно было ещё перечислить всех родственников (!) с указанием их местонахождения. Заполненные вопросники отвозились в Сенат. Их просматривал лично председатель Трибунала господин Батеньков, а потом передавал служащим своей канцелярии, которую уже стати называть «Тайной экспедицией». Она вначале занимала одну комнату, а потом разрослась на целый этаж. Злые языки говорили, что глава Трибунала занимается не только ловлей контрреволюционеров, а вмешивается в действия столичного полицмейстера, указывая тому, что делать и кого арестовывать. Воспользовавшись суматохой, воцарившейся после ареста Главнокомандующего Отдельного корпуса внутренней стражи генерал-адъютанта Комаровского, Батеньков взял на себя исправление его обязанностей. И хотя корпус, разбросанный по всей России, в большинстве своём нового начальника проигнорировал, однако в реальном подчинении отставного подполковника оказалась бригада в составе Петербургского и Новгородского батальонов и полубригада в Выборге. Кроме того, Гавриил Степанович объявил себя начальником Особой канцелярии, которая занималась военной разведкой. Постепенно Батеньков сосредоточил в своих руках огромную власть. Правда, до поры до времени она уравновешивалась авторитетом Трубецкого, за которым стояли гвардейские полки Бистрома. Все инвалиды Корпуса внутренней стражи не могли соперничать даже с одной ротой гвардейских егерей или преображенцев.
Прапорщики и подпоручики, отряжённые в допросчики, были недовольны полученным приказом, но деваться было некуда. Большинство хорошо знали, что рядом таятся тайные роялисты. Этому, по крайней мере, учил опыт французской революции. Но некоторые офицеры манкировали обязанностями допросчиков. А если и занимались, то без души и задора. Да и нелёгкая это работа, когда неизвестно – что узнавать? Но раз уж человека посадили в крепость, то допросить нужно. А иначе – зачем и сажать было? Были, безусловно, и романтики, которые рвались бороться с роялистами. Вот и сегодня прапорщик лейб-гвардии Финляндского полка Дмитрий Завалихин (не путать с Завалишиным), получив приказ от начальства, очень расстроился. Ему требовалось пойти в крепость и допросить одного из злостных роялистов – Николая Клеопина, который осмелился ослушаться приказа нынешнего военного министра, а тогда – командующего гвардейской пехотой генерала Бистрома. Правда, начальство намекнуло, что допрос – чистейшей воды проформа, потому что тот же Бистром должен был быть у него посаженным отцом на свадьбе. Вот это Дмитрию не нравилось. Как же быть с революционными принципами? Секретарь Робеспьера, например, узнав, что его родной брат имеет связи с шуанами, не колеблясь ни минуты, сообщил об этом в Комитет общественного спасения. Да и сам Робеспьер сумел пожертвовать своим другом Дантоном во имя революции! Ещё прапорщика расстраивало, что ему был передан письменный приказ на имя коменданта крепости об освобождении штабс-капитана из узилища. «Куда правильнее поступали французы! – сетовал Завалихин. – В России же можно и без guillotine обойтись! Делать так, как при императоре Петре, – вешать! Офицеров, в порядке исключения, можно и расстреливать». Но, увы, Дмитрий вновь и вновь с грустью повторял запомнившуюся фразу из модной комедии: «В мои лета не должно сметь своё суждение иметь!»
Нижний чин, стоящий на карауле, дунул в свисток. Из маленькой калитки в огромных воротах появился разводящий унтер-офицер. Унтер вяло глянул в предъявленную бумагу, которую из-за малограмотности читать не стал. И так ясно, что ежели бумага – то всё правильно!
Лейб-гренадерам не позавидуешь. Вот уже два месяца они несут караул при Петропавловской крепости. Офицеров в полку почти не осталось. Те, кто стоял вместе с солдатами в каре, занимаются государственными делами. А те, кто остался с бывшим императором... Их либо уже нет, либо они находятся всё в той же Петропавловке... Но всё же лейб-гренадеры службу знают. Умудрились, в отличие от тех же «преображенцев», не начать беспробудную пьянку, а остаться боеспособными. Они сделали крепость своей казармой, стянув туда имущество, боеприпасы и продовольствие. По слухам, семейные офицеры отправили туда своих жён и детей. Что ж, всё правильно. В случае поражения революции лейб-гренадерам рассчитывать не на что... И правительство уверено в надёжности Петропавловки.
...Николай Клеопин сидел в крепости третий месяц. В самом начале, после ареста, его отвели в казармы, а потом – на гарнизонную гауптвахту. Кормили сносно – по солдатской норме. Конечно, полтора фунта хлеба и треть фунта крупы в день – не изыски парижской кухни. И полфунта солонины с чаркой водки, которые ему полагались как офицеру, – не телятина и шампань от Елисеева. Но в бытность свою офицером Кавказского корпуса бывало и похуже...
Гауптвахта имела одно неоспоримое достоинство: там можно выспаться! Пусть и на деревянных нарах. Говорят, при матушке Екатерине для офицеров полагались ватные тюфяки и меховые одеяла. Но при Павле содержание стало хуже. Но для того, кто хочет спать, жёсткое ложе не помеха.
В ноябре и декабре штабс-капитан хронически недосыпал. Тут те и служебные обязанности, и сватовство. Но теперь возможность отоспаться не радовала. Сон не шёл. А если и шёл, то снилась Алёнка. Снилось, что их ведут в комнату, где вот уже два века подряд жених и невеста рода Клеопиных становились мужем и женой... Проснувшись и обнаружив вместо брачного ложа жёсткие нары, хотелось волком выть... Как там он перевёл из аглицкого – «I had a dream that was not all a dream»?[3]3
«Я видел сон – не всё в нём было сном». Байрон.
[Закрыть] Ho Николай отгонял от себя мрачные мысли, потому что верил, что с Алёнкой ничего страшного не произошло...
Через неделю пребывания на гауптвахте Николая перевели в Петропавловскую крепость. Говорили, что на это есть приказ самого Батенькова.
В цитадели Петра и Павла было хуже. И хотя хлеба и каши давали вволю, но ни солонины, ни чарки не полагалось. Вместо нар, пусть жёстких, но чистых, – прелая позапрошлогодняя солома. Стены, покрытые инеем, зарешеченные окна без стёкол, в которые тянуло холодом Финского залива. Попытка заткнуть окна всё той же соломой привела к тому, что в полутёмной камере стало совсем темно.
Убивали скука и холод. Книг или журналов не выдавали. Да и читать их в темноте было бы сложно. На прогулки не выводили. Пока сидел один, пытался мерить шагами камеру, коротая время и греясь. Через неделю «гулять» стало негде, потому что было уже не протолкнуться от соседей. Камеру набили народом. Тут было и несколько малознакомых полковников, и один престарелый генерал, и с десяток статских. И даже парочка купеческого вида. Несмотря на придавленность и меланхолию завязывались разговоры. По-крайней мере стало не так скучно. И теплее...
Первое время досаждала вонь. Казалось, мерзостные миазмы исходят от стен, от сокамерников и от собственного тела. В баню не водили. Бельё, поддетое под мундир, за два с половиной месяца почти сопрело, став пристанищем для вшей. Мундир и шинель, бывшие одновременно и матрасом, и одеялом, истёрлись. Блестящие некогда эполеты потускнели и стали крошиться.
Помимо вони, исходящей от собственного тела, воняли соседи по камере. Похоже, они пахли ещё хуже... К запаху немытых тел прибавлялся запах из отверстия в полу, которое служило сортиром. Новоприбывшие по первому времени стеснялись прилюдно справлять нужду, но потом свыкались; свыкались и с вонью, принимая её за специфический тюремный запах. Полковник в отставке Неустроев, оказавшийся большим любителем истории, сообщил, что во времена королевы Елизаветы жители Британских островов на зиму зашивались в нательное бельё. По весне расшивались и устраивали стирку...
Вонь, холод и недоедание – это было не самым страшным. Гораздо хуже было другое – полная неопределённость. Благодаря новичкам Николай узнал, что в столице идут аресты. Трупы императорских солдат, виновных в том, что остались верны присяге, были разуты, раздеты и брошены на лёд. На радость бродячим собакам захоронить тела никто не озаботился... Лишь через неделю для обезображенных мертвецов сердобольные сапёры взорвали огромную полынью.
Штабс-капитан узнал, что на другой день после мятежа чернь ринулась грабить богатые дома. Крестьяне из окрестных сёл приезжали обозами, забирая всё, что им понравилось. От пожара выгорела почти вся Галерная улица, том числе и дом, где Щербатовы снимали этаж. Увёз ли Харитон Егорович семью из петербургского имения в Череповецкий уезд, неизвестно. Сокамерник-генерал, знакомый с родственниками Щербатовых, носившими ту же фамилию и княжеский титул, говорил, что потомков историка новая власть не трогала. Один из заключённых, тот самый, купеческого вида, оказался владельцем одного из трактиров. За то, что не захотел бесплатно выставить вино нижним чинам Преображенского полка, был бит и отправлен в заключение. Трактир был разгромлен и подожжён. Теперь трактирщик переживал – а как там его жена и трое детей? Второй купец был известным судовладельцем, в вину которому было поставлено то, что в ночь с 14 на 15 декабря он приютил в своём доме двух молоденьких офицеров конной гвардии. Офицеров удалось благополучно переправить в Москву, а на спасителя донёс собственный приказчик. Теперь иуде отошёл дом в столице и судоверфи в Петербурге и Архангельске. Согласно новому распоряжению Временного правительства движимое имущество «врагов революции» переходило в собственность «лояльных» граждан.
По всему Петербургу не осталось ни одного целого кабака. В разгромленном винном погребе братьев Конделакис дорогое греческое вино черпали не то что ковшами или горстями, а шапками и вонючими сапогами. «Угоревших» от вина мастеровых выносили из подвала и складывали прямо на улице. Напрочь выгорели казармы лейб-гвардии кавалергардского полка. Команда нестроевых, не успевшая скрыться, была переколота штыками и брошена в костёр.
Целую неделю город был в руках черни. Только благодаря решительным действиям подполковника Батенькова, который сумел собрать отряд из старослужащих и унтер-офицеров гвардейских полков, удалось покончить с грабителями и мародёрами. Однако в последние дни не то что обыватели, но даже офицеры боялись выйти на улицы, потому что там свирепствовали разбойничьи банды. Вести были страшные. Но для сидевших в тюремной камере хватало собственных переживаний, которые сводили с ума. Спасало только одно – надежда. Надежда на то, что рано или поздно всё закончится.
Сегодня мало кто признал бы в Клеопине некогда блестящего офицера лейб-гвардии. Вот и прапорщик Завалихин открыл было рот, чтобы прикрикнуть на караульных, но, присмотревшись, понял, что стоявший перед ним бородатый и вонючий мужик – не кто иной, как нужный ему штабс-капитан.
– Садитесь, господин штабс-капитан, – приторно вежливо предложил прапорщик, указывая на тяжёлый табурет, вмурованный в пол. Потом, не удержавшись, добавил. – А вид у вас не очень-то...
– Знаете, прапорщик, – мрачно заметил Николай, усаживаясь, – посидите с моё, так и вы будете выглядеть... не комильфо!
– Надеюсь, господин Клеопин, этого не случится, – важно заметил Завалихин, доставая из шёлкового (трофейного!) портфеля бумагу и карандаш.
– Как знать, прапорщик, как знать. Слышали народную мудрость: «От тюрьмы да от сумы – не зарекайся»?
– Глупости и суеверия. Честный человек попасть в тюрьму не может, – безапелляционно заявил прапорщик.
Клеопин внимательно посмотрел на собеседника. С сомнением покачал головой:
– Знаете, юноша, а ведь я имею право вызвать вас на дуэль.
– ???
– Вы поставили под сомнение мою честность.
– Простите, я вовсе не имел в виду именно вас, – слегка смутился Завалихин. – Во всяком случае, не хотел вас обидеть.
– Полноте, – усмехнулся Клеопин. – Заключённому не пристало обижаться на тюремщика.
– Господин штабс-капитан, – сквозь зубы проговорил прапорщик, – извольте взять свои слова обратно. Я не тюремщик, а гвардейский офицер.
– С каких это пор, милостивый государь, гвардейские офицеры приходят допрашивать заключённых? Или кто там должен заниматься допросами – жандармы? Так что выбирайте, юноша: либо вы – жандарм, либо – тюремный надзиратель.
Нежная кожица на лице прапорщика покрылась багровыми пятнами.
– Штабс-капитан Клеопин, – нервно вскинулся он. – Вы хотели вызвать меня на дуэль? Так вот, я принимаю ваш вызов.
– О, нет, юноша, – рассмеялся Николай. – Я-то как раз и передумал. Гвардейский офицер не может драться с тюремщиком.
Завалихин, хоть и с огромным трудом, но всё же сумел взять себя в руки.
– Хорошо, господин штабс-капитан. Мы решим этот вопрос в другое время и в другом месте, – с трудом выговорил он. – А пока потрудитесь объяснить, почему вы отказались выполнить приказ господина военного министра?
– Какой именно? – продолжал издеваться Клеопин над прапорщиком. – Того, что требовал от меня и моей роты дать присягу императору Константину? Или того, что требовал от меня присягнуть императору Николаю? Оба приказа господина Татищева я выполнил. Других приказов я выполнить не мог, потому что не получал оных.
– Господин военный министр, – упрямо настаивал прапорщик, – приказал лейб-гвардии егерскому полку идти в атаку на войска узурпатора. Вы – единственный офицер, отказавшийся выполнить приказ.
– Прапорщик, повторяю ещё раз. Военный министр не отдавал такого приказа.
– Господин Клеопин, перестаньте паясничать! Вас арестовали за невыполнение приказа военного министра, его Высокопревосходительства Бистрома.
– А, во-от оно что! – протянул Клеопин, делая вид, что до него только сейчас дошло, а кто, собственно-то говоря, является министром. – На тот момент Карл Иванович был командующим корпуса гвардейской пехоты, а не военным министром. И он приказал не идти в атаку на войска узурпатора, а ударить в спину нашим же братьям. Генерал приказал нарушить присягу императору. Заметьте, прапорщик, – тому самому императору, которому мы присягали утром. Построением же егерей на присягу, кстати, командовал Ваш нынешний военный министр.
– Тем не менее вы нарушили приказ, – продолжал гнуть свою линию Завалихин. – Единственный из полка. Как вы это объясните?
– Просто, – пожал плечами Николай. – Это означает, что в гвардейские полки – хоть в лейб-гвардии егерский, хоть в ваш, лейб-гвардии Финляндский, – набирают всякую сволочь, для которых нет ни чести, ни совести.
Произнеся эти слова, Клеопин взял со стола лист бумаги, заготовленный прапорщиком для ведения допроса, скомкал его и бросил в лицо Завалихину. Тот, взбешённый до крайности, выхватил из ножен саблю и ударил ею по голове арестанта. Штабс-капитан упал. К счастью, удар пришёлся вскользь, поэтому прапорщик не убил, а только оглушил Николая, сорвав при этом изрядный кусок кожи с головы.
Вид окровавленного тела привёл прапорщика в ещё большую ярость. Он стал наносить по телу лежащего Николая беспорядочные удары. И, возможно, осатаневший Завалихин убил бы арестанта, но на шум прибежал лейб-гренадер. Солдат отворил дверь и, увидев лежащего в луже крови офицера, стал громко звать на помощь. Потом, не дожидаясь подмоги, нижний чин бросился отбивать узника. В допросную камеру вбежал ещё один солдат и дежурный офицер в чине поручика. Общими усилиями прапорщика оттащили в сторону. Кажется, только сейчас Завалихин понял, что же он натворил!
– Господи, – в ужасе прошептал прапорщик, глядя на дело своих рук. Потом он упал на пол и зарыдал, как истеричная барышня.
Поручик лейб-гренадер был человеком решительным. Обнаружив, что Клеопин жив, немедленно отправил одного из солдат за тюремным врачом. С помощью оставшегося караульного вытащил Николая из допросной и понёс его в караулку. Штабс-капитана уложили на топчан и стали раздевать. Все старательно прикрывали носы от «амбре», источаемого арестантом. Один из солдат принёс ведро воды и стал отмывать тело от крови. В это время подошёл лекарь. Обнаружилось, что хотя сабля прапорщика и причинила штабс-капитану множество ранений, но существенного вреда не нанесла. Правда, он потерял много крови. Лекарь зашил самые глубокие раны, а другие щедро залил сулемой. Потом сделал перевязку и глубокомысленно сказал:
– Что ж, господа, я сделал всё, что мог. Теперь всё в руках Божьих!
Два солдата подняли на руки Николая и отнесли в помещение, которое гордо именовалось «лазаретом». От камеры его отличали кровати да застеклённые окна. Дежурный поручик отправился к Завалихину, которого оставили в допросной. Лейб-гренадеру было противно смотреть в глаза человеку, который поднял саблю на безоружного человека и, вдобавок ко всему, арестанта. Разговаривать с ним тоже не хотелось, но пришлось.
– Прапорщик, – подчёркнуто холодно обратился к Дмитрию дежурный. – Извольте привести себя в порядок и объяснить своё поведение. Ну-с?
Завалихин, всхлипывая и вытирая слёзы, пробормотал что-то невнятное.
– Да возьмите же себя в руки, – разозлился поручик. – Вы же офицер, а не тряпка!
– Я вынужден был защищаться, – выдавил наконец прапорщик. – Государственный преступник пытался вырвать у меня оружие.
– Ух, ты, – насмешливо просвистел лейб-гренадер. – Штабс-капитан пытается вырвать оружие, а храбрый прапор отбивается. Не смешите меня, милостивый государь. Я ведь, чай, в одном корпусе с Клеопиным служу.
– Служил-с, – попытался поправить Завалихин, но был оборван на полуслове.
– Да нет, молодой человек, – серьёзно сказал поручик, который был старше не более чем на три-четыре года. – Клеопина чинов и званий никто не лишал. Так вот, прапор. Вы для меня – человек неизвестный. А Николай Клеопин – другое дело. Штабс-капитан в гвардию с Кавказа переведён. «Анну» с «Владимиром» за храбрость имеет. Если бы он захотел у вас оружие вырвать, то, будьте уверены, отобрал бы. К сожалению, у меня нет права арестовать вас, но я вынужден буду задержать вас до приезда дежурного офицера вашего полка. Прошу сдать саблю и рассказать, какие вещи имеются в ваших карманах.
По сложившейся традиции личные вещи заключённых и задержанных не изымались. Но дежурный офицер имел подробную опись того, что имелось в наличии.
– Вот, – слепо глядя в одну точку, стал опустошать карманы Завалихин. – Портмоне, сигаретница, огниво и бумага.
– Что в ней? – равнодушно поинтересовался поручик. – Если любовное послание, можете оставить себе. Даже арестантам, хм... бумага иногда нужна бывает.
– Это приказ об освобождении штабс-капитана Клеопина из-под стражи.
– Что?! – гневно вскричал поручик и требовательно протянул руку. – Дайте приказ.
– Приказ предназначен для коменданта крепости, генерал-майора Сукина, – позволил себе снисходительно улыбнуться прапорщик, который уже окончательно успокоился.
– Прапорщик, – раздражённо сказал гренадер, – комендант в данный момент отсутствует. Его обязанности автоматически переходят к дежурному офицеру – то есть ко мне.
Дмитрию пришлось подчиниться. Поручик, не чинясь, отодрал облатку, заменявшую сургучную печать (экономия!) и стал читать. Дочитав до конца, он усмехнулся:
– Знаете, прапорщик, вы совершили нападение не на государственного преступника, а на отставного штабс-капитана. Извольте, процитирую: «Штабс-капитана Клеопина, бывшего ротного командира лейб-гвардии егерского полка выпустить из-под стражи с отобранием у него подписки о неучастии в борьбе с революцией с оружием в руках и непримыкании к контрреволюции. Буде же оный штабс-капитан откажется дать сию расписку, то объявить ему о невозможности пребывания в столице, кою он должен покинуть в течение календарных суток». Словом, в переводе с суконного языка, Клеопин должен дать подписку, что не будет воевать против нас. Если даст – то может оставаться в Петербурге и делать то, что ему заблагорассудится. Думаю, что его и обратно в ротные командиры могут взять. А при сегодняшних вакациях – то и на батальон. Ну, а если подписку дать не захочет – то выставят из города в двадцать четыре часа.
Прапорщик Завалихин был удивлён столь мягким приговором.
– Странно, – поделился он своими соображениями с гренадером. – Выпустить государственного преступника и разрешить ему свободное передвижение... Думаю, что следовало отправить Клеопина в арестантские роты...
– Знаете, прапорщик, – сдержанно сказал поручик, – говорить о человеке «государственный преступник» или преступник вообще можно только после решения Августейшей особы или суда. Особы у нас нет, поэтому требуется решение суда. Или же вы, милейший, плохо читали «Уложение о наказаниях Российской империи»? Его ведь до сих пор никто не отменял. Подумати бы лучше – как лично вам не оказаться в арестантских ротах. А теперь – сдайте оружие!