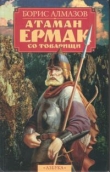Текст книги "Кровавый снег декабря"
Автор книги: Евгений Шалашов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
Мальчишек привели к Паскевичу. Главнокомандующий русскими вооружёнными силами, посмотрев на стрелков, коротко распорядился:
– Повесить на окнах ратуши.
– Ваше Высокопревосходительство, – попытался вмешаться начальник штаба армии Киселёв. – Это же дети! Выпороть – и дело с концом.
– Вы, господин генерал, слишком гуманны, – процедил сквозь зубы Паскевич. – А ваш гуманизм к добру не приведёт. Этих смутьянов нужно повесить в назидание другим.
– Повесить детей без суда и следствия? – побледнел Киселёв. – Что-то новое в законодательстве Российской империи.
– Генерал, – отмахнулся Паскевич, – будучи главнокомандующим, я сам решаю, какие законы в Российской империи есть, а каких нет.
Когда полковые палачи приготовили верёвку, один из мальчишек заплакал. Зато второй, гордо подняв голову, запел: «Ещё Польска не сгинела!»
– Вот так, – сказал главнокомандующий, глядя на два тела, обвисших на верёвках, пропущенных из окон ратуши. – Теперь эти мерзавцы будут знать, КАК стрелять в русского солдата. А эти двое на виселице – наилучший урок.
– Эти двое, – печально сказал Киселёв, – теперь стали юными мучениками свободы, ждущими отмщения. Право, Иван Фёдорович, лучшей услуги мятежникам вы оказать не могли.
– Генерал-адъютант Киселёв! Я уже говорил вам, что ваша мягкотелость до добра не доведёт. Помнится, докладывали вам и о Пестеле, и о братьях Муравьёвых-Апостолах. Вы – либеральничали, а нужно было меры принимать. Я, генерал, вами очень недоволен.
– В таком случае, Ваше Высокопревосходительство, примите мою отставку. Я боевой генерал, а не палач.
– С удовольствием. Однако сие в воле императора. Но я отстраняю вас от начальствования над штабом, приказываю сдать дела, а потом – вернуться в Тульчин. После завершения кампании я доложу государю о вашем проступке.
Потеряв всякий интерес к Киселёву, Паскевич обернулся к адъютанту: «Немедленно езжайте за полковником Гебелем. Скажите, что главнокомандующий назначает его временным начальником штаба армии».
Услышав, кого Паскевич прочит на его место, Киселёв глухо застонал. Дело было даже не в том, что на генеральскую должность ставят полковника, обойдя более видные фигуры. В истории русской армии и не то бывало. Но худшей кандидатуры, нежели бывший командир Черниговского полка, сыскать было нельзя. Единственно, чем он отличился, так только тем, что вступил в схватку с мятежниками, не побоявшись их количества, и был тяжело ранен. В остальном же Гебель был глуп как пробка, слабо представляя, чем тактика отличается от стратегии. А чтение карты, как помнил генерал, приводило Гебеля в состояние прострации. Однажды на летних манёврах командир полка перепутал дороги и едва не увёл весь полк вместо Белой Церкви в Житомир. Честь «черниговцев» спас тогда подполковник Муравьёв-Апостол, который сумел убедить командира поставить его батальон головным.
Но пререкаться было поздно. Поэтому бывший начальник штаба 2-й армии Павел Дмитриевич Киселёв сел в возок и стал дожидаться приезда полковника Гебеля, чтобы передать тому все штабные документы, карты и предварительные наработки по кампании. Правда, сумеет ли новоиспечённый начальник штаба армии их использовать?
Утром оба тела исчезли. Верёвки были перерезаны. Часовой, выставленный у ратуши, ничего не видел и не слышал. На всякий случай караульному назначили полторы тысячи палок. А вскоре обнаружилось, что бесследно исчезли пятеро солдат. Возможно – убиты. Но вероятней всего – дезертировали, потому что пропавшие нижние чины были католиками и уроженцами западной части Малороссии. Паскевич тем не менее решил, что их убили. Посему после выхода основных войск из города в Люблине был оставлен Шухтовский пехотный полк для проведения акции «устрашение». Саму операцию приказано было возглавить начальнику штаба полковнику Гебелю.
Гебель был наслышан о методах, коими генерал Ермолов пользовался на Кавказе. Он приказал первому батальону немедленно занять ратушу, костёлы и окружить наиболее богатые дома. Второй и третий батальоны проводили обыски, разыскивая оружие. Тех из горожан, у кого оное находилось, выводили на площадь.
За три часа было обнаружено около тысячи охотничьих и сотни две армейских ружей, штук двадцать карабинов столетней давности, десяток штуцеров аглицкой работы и великое множество сабель. Большая часть оружия либо не имела боеприпасов, либо была негодной. Но полковника это не смущало. Из толпы, собранной на площади, он приказал отобрать мужчин от двадцати до сорока лет для проведения экзекуции. Их оказалось не так уж много – человек двадцать. Возможно, это были люди, которые по каким-то причинам не ушли в армию.
Поляки не были похожи на невинных овечек. Они пререкались с солдатами, ругались и пытались сопротивляться. Особенно шумно вели себя женщины. Они плевали в лицо пехотинцам и норовили бросить в них чем-нибудь, подвернувшимся под руку. «Шухтовцы» постепенно стали заводиться. Одна из паненок, у которой уводили мужа, кричала на солдат, а потом вцепилась ногтями в лицо унтер-офицера. От удара разъярённого унтера женщина упала, а подол её юбки задрался, обнажив красивые ноги. Муж, бросившийся на выручку, получил удар прикладом в голову.
Возможно, изначально никто и не хотел бесчестить женщину, но вид красивых ножек бросил унтера в дрожь. Он навалился на женщину и стал задирать ей подол на голову. Бедняжка пыталась сопротивляться, но этим только распаляла насильника. Как назло, рядом не было ни одного офицера, который прекратил бы подобную мерзость, а нижние чины, похохатывая, схватили несчастную за ноги и руки. Унтер, приспустив штаны, даже не сняв ни кивера, ни тяжёлых патронных сумок, стал насиловать жертву. Потом уступил место своему солдату...
Обезумевшая от боли и стыда женщина каким-то чудом сумела вырваться из рук насильников и выбежала на улицу. С разбитым лицом, в разорванной одежде она побежала прямо на площадь, где в оцеплении пехоты стояли горожане. Толпа поругивалась, но стояла спокойно. Никто из горожан не ожидал ничего плохого. Но когда народ увидел женщину с окровавленным лицом, которая пыталась запахнуть на себе изорванную одежду, то толпа зашлась в гневном крике и как один человек бросилась на штыки. Оцепление было перебито за несколько минут. Люблинцы (любляне?) захватили ружья и стали стрелять. Но перевес был на стороне солдат. Все три батальона быстро подбежали к площади и открыли беглый огонь по толпе. Когда вся площадь покрылась ранеными и умирающими, солдаты словно озверели. Казалось, что вошли не в мирный городок, а ворвались во вражескую крепость, отданную на разграбление...
Первым запылал замок. Горожане, согнанные в него, пытались вырваться, но натыкались либо на пули, либо на штыки. Затем загорелась древняя ратуша, построенная ещё во времена крестоносцев. Всюду метались обезумевшие от страха и гнева жители. Плакали женщины, попавшие в руки насильников. Рыдали матери, на глазах у которых убивали детей. Солдаты грабили дома, набивая походные ранцы всем, что приглянулось. Мужчинам нечем было сражаться. Но всё же поляки брали в руки лопаты, топоры и колья и дрались так яростно, что не один пехотинец поплатился жизнью. В ответ на это солдаты убивали уже не только мужчин, но и женщин. Попытки офицеров успокоить солдат натолкнулись на окрики полковника, который требовал убивать!
Командир второй роты первого батальона, не сумев остановить солдат, отошёл к одному из зданий и выстрелил себе в сердце. Офицеры, пытавшиеся увещевать начальника штаба, получали в ответ ругательства. Казалось, что Гебелю нравилось смотреть на гибнущий Люблин...
Наконец безумие стало спадать. Нашлись и несколько офицеров, которые сумели собрать небольшую команду из старослужащих и начали утихомиривать разбушевавшихся солдат. Где словом, а где ударами, но батальоны были построены. Гебель, вспомнивший, что его ждёт главнокомандующий, скомандовал «выход».
Полк уходил молча, без положенного разворачивания знамён и барабанного боя. Солдатам и офицерам было смертельно стыдно за миг безумия. Командиры мечтали об одном – быстрее завершить эту кампанию, начавшуюся так позорно. А потом – вызвать на дуэль господина начальника штаба. Ежели он откажет дать удовлетворение, то просто пристрелить как собаку. А потом – застрелиться, как это сделал их однополчанин! Сзади горел славянский город Люблин. Его уцелевшие жители проклинали русских солдат...
Паскевич, узнав из рапорта, что «Горожане, поднявшие руку на солдат армии Его Императорского Величества, подверглись примерному устрашению», остался доволен. Поляки должны бояться!
К несчастью, отметить чином или орденом деяния полковника он не мог. Писать же рапорт его Императорскому Величеству было ещё рано. Но Паскевич не предполагал, что император узнает обо всём в самые ближайшие сроки...
Павел Дмитриевич Киселёв возвращался в ставку 2-й армии в смятении. Что-то угнетало талантливого штабиста. Нет, не отстранение. Прежде всего – поспешность, с которой началась кампания. Составление плана предстоящего похода – задача не из лёгких. Смущало, что Главнокомандующий, вернувшись из Москвы, не ознакомил ни его, ни остальных генералов с картами маршрутов. Кроме того, фельдмаршал не попытался уточнить, насколько имевшиеся в его распоряжении карты соответствуют действительности. И даже тот факт, что ему, начальнику штаба 2-й армии, пришлось исполнять обязанности главного начальника штаба, наводил на определённые размышления. Паскевич не уточнил задачи командиров корпусов. Всё свелось к определению общего направления двух армий. Странно. Далее – Главнокомандующий не озаботился запастись провиантом и боеприпасом. Провиант в расчёте на десять дней – это ещё понятно. Можно рассчитывать на местное население. Но боеприпасы для солдат, а картечь? В начале кампании Киселёв пытался обратить на это внимание и Вигтенштейна, и самого Паскевича, но тщетно. Обиженный командующий армией, отстранённый от руководства, сказался больным. Паскевич не захотел и слушать, сказав, что десять дней – это даже много. Разгромить «полячишек», по мнению генерал-фельдмаршала, можно и за пять дней.
Служебное положение Киселёва в Тульчине и раньше было тяжёлым. Он имел много врагов, которые старались на каждом шагу вредить ему. Главной причиной этому были нововведения, например, смягчение телесных наказаний, которые Киселёв предпринимал во второй армии и которые не нравились многим, в том числе Аракчееву. Из-за происков военного министра император едва не сместил его с должности. Но после смотра, которым остался доволен, Александр пожаловал Киселёва в генерал-адъютанты. Это лишь добавило завистников. А будущее тоже не сулило ничего хорошего.
Генерал Киселёв был по-своему честолюбивым человеком. Но кто из носящих эполеты не честолюбив? Прапорщик мечтает стать подпоручиком. Полковник – генерал-майором. А иначе лучше уходить в отставку и заводить образцовое хозяйство или просто глушить наливку с соседями и заваливать по кустам податливых девок.
У генерал-адъютанта было качество, за которое его уважали даже недоброжелатели. Он был человеком дела. «Ну, назначьте вы на должность начальника штаба кого-то другого, – думал генерал. – Есть и более достойные кандидатуры, чем этот солдафон». Павлу Дмитриевичу иногда казалось, что полковник Скалозуб был списан господином Грибоедовым с полковника Гебеля.
Приехав в Тульчин, Киселёв решил не останавливаться, а отправиться прямо в Москву, к императору. Он, разумеется, нарушал приказ непосредственного начальника. Но нарушая приказ, будучи начальником штаба (пусть и отстранённым), Павел Дмитриевич оставался генерал-адъютантом Свиты Его Императорского Величества, поэтому в этом качестве был вправе прибыть ко двору. У кого же ещё искать правды, как не у императора?
...Иван Фёдорович Паскевич был хорошим военачальником. Но даже самый хороший военачальник иногда делает непростительные промахи. Главной ошибкой генерал-фельдмаршала стал Люблин. И первой потерей в армии стал тот пехотный полк, что «усмирял» мирный город.
Среди военных, как в плохой деревне, слухи распространяются быстро. И никто не знал – кто распространял слухи о сожжённом городе и судьбе его жителей. Полк стал изгоем. Конечно, во время похода нет ни офицерских собраний, ни балов, ни пирушек нижних чинов. Полки двигаются в составе дивизий, не смешиваясь и почти не общаясь друг с другом. Но всё же, всё же... Шухтовский полк – от последнего нестроевого до командира полка, – чувствовали себя примерно так же, как человек, которого только что вывозили в дерьме. Вот только в отличие от обычного дерьма, которое, пусть и с трудом, но смывается водой, от этого было не отмыться и не очиститься. Люди шли понуро. Офицеры даже не пытались хоть как-то взбодрить подчинённых. Очень скоро пехотинцы стали выбрасывать трофеи, набранные в Люблине. Обочина дороги была усеяна столовым серебром, шёлковым бельём и туфельками. То тут, то там можно было увидеть нижнего чина, который в спешке высыпал содержимое своего ранца. Впопыхах выпадали и чёрные солдатские сухари, и подштанники – вперемежку с дорогой посудой и женскими украшениями. А на первом же привале один из взводов, с молчаливого согласия ротного офицера, привёл фуры с маркитантами.
Повозки маркитантов и маркитанток следовали за полком давно. Торговцы как шакалы набрасывались на каждую тряпку, выброшенную из ранца и представляющую хоть какую-то ценность. А уж сколько они заполучили в Люблине, не хотелось и думать! Но сейчас обвинять торговцев в мародёрстве ни у кого не хватало совести. Поэтому из фур вытащили весь запас водки и разлили его в походные баклажки. То, что в баклажки не вместилось, выпили прямо на месте. Офицеры, которым фляги не полагались, заполнили водкой медные чайники, которые тащили денщики. После привала жизнь показалась не такой уж и поганой. Но всё же все понимали, что когда опьянение пройдёт, будет ещё хуже. Поэтому во время всего пути Шухтовский полк упорно «надирался». А когда адъютант Паскевича, объезжавший войска, попытался выразить своё недоумение полковому командиру – подполковнику Алферову, – то был отправлен по известному всем адресу. От изумления адъютант не то что на дуэль подполковника не вызвал, но даже забыл доложить о беспорядках главнокомандующему. Повторюсь, что полки на марше почти не взаимодействуют друг с другом. Но вот этого «почти» хватило на то, что вся дивизия 2-го корпуса, узнав о пьянке сослуживцев, пожала плечами и последовала их примеру. Благо найти водку было несложно. Маркитанты следовали не только за Шухтовским полком. И уже к вечеру вся дивизия, за исключением разве что старших командиров, была в стельку пьяной.
Командование корпуса, которое узнало об инциденте гораздо раньше Паскевича, предпринять уже ничего не могло. Единственное, что сделал корпусный начальник барон Розен, – приказал оставить солдат на днёвке ещё на один день, а командиру дивизии и командирам полков сделал внушение. По мнению генерала, за это время господа офицеры вкупе с унтерами должны привести подчинённых в более-менее пристойный вид. Удивительно, но барон даже не пытался ни ругаться, ни угрожать подчинённым ему офицерам. Все разборы было решено оставить «на потом». Потом кого-то можно и чином обнести, и к ордену не представить. Но, как справедливо полагал барон, после случившегося в Люблине офицеры не будут особо гнаться за регалиями и наградами. Дивизия, находящаяся на днёвке в военное время, представляет собой меньшую опасность, нежели в походной колонне или в самом начале боевой позиции. Дивизия пьяная – ещё меньшую угрозу. Но всё же – даже деревенский мужик бывает опасен в пьяной агрессии. И ещё более опасен, нежели в его руках кол или топор. А дивизия в составе двух бригад, каждая из которых состоит из двух полков? И если учесть, что в каждом полку находится по две тысячи вооружённых людей. Да и к тому же, не могла вся дивизия упиться целиком и полностью. А батальонное каре, в которое русский пехотинец встанет в любом состоянии? Тут уж, наверное, всякий противник подумает: а стоит ли атаковать дивизию, имея сил раз в пять меньше?
Командир кавалерийской бригады Завишевский, числивший среди своих предков самого Завишу Чёрного, гонористый шляхтич, но толковый командир, имел в строю только три тысячи сабель и одну неполную конную батарею из трёх лёгких орудий. И будь это в другое время, он, безусловно, не рискнул бы атаковать русскую пехоту. Если бы один из его эскадронов не побывал в Люблине сразу же после ухода Шухтовского пехотного полка. Посему, когда бригадные разъезды наткнулись на нетрезвых русских солдат, он счёл случившееся подарком судьбы. По приказу полковника горнист дал сигнал к атаке. В бой были отправлены три эскадрона. Один из эскадронов и батарею командир оставил в резерве. Польские уланы напали со стороны заходящего солнца, мешающего пехоте целиться. Кавалерия, раскинувшись веером, рубила и колола. Пехота, сбиваясь в кучки, огрызалась короткими залпами и штыковыми ударами. Один из батальонов, более вменяемых, нежели остальные, сумел построить каре. К нему стали отходить и группами, и порознь. Ещё немного – и удача повернулась бы лицом к русским: пехотинцы, вливаясь в плотный строй, усиливали и расширяли каре, превращая его в живую крепость. И ещё бы чуть-чуть – рядом с первым встало бы второе каре. А потом, ведя плотный огонь, пехота легко перейдёт к атаке и опрокинет кавалерию. Но Завишевский, предвидя подобную ситуацию, выдвинул артиллерию. Все три орудия дали картечный залп в ребро живого квадрата. В образовавшуюся брешь немедленно устремился резервный эскадрон, вырубая не успевшую опомниться пехоту.
Через несколько минут началось самое страшное – паника. Русские солдаты бросали ружья и разбегались. Офицеры, пытавшиеся их остановить, оказывались вовлечёнными в общий поток беглецов. Уланы в азарте боя преследовали солдат и рубили, рубили...
Бой прекратился только тогда, когда солнце уже полностью зашло. Ночью, при факелах, по полю ходили местные крестьяне, добивая раненых и уцелевших. Из семнадцати тысяч спаслись немногие. Кому-то посчастливилось дойти до расположения основных сил. Кого-то укрыли монахи ближайшего монастыря, не смутившиеся, что прячут иноверцев. Кое-кто, сумев укрыться, сменил военную форму на мужицкую свитку, подался в дезертиры или в войско батьки Кармалюка. Русская армия несмотря на потери ещё оставалась достаточно сильной. По численности она по-прежнему превосходила польскую. Но она уже проиграла кампанию. Лучшее, что мог сделать генерал-фельдмаршал Паскевич, – это увести людей обратно. Но он этого не сделал, тем самым обрекая на гибель и позор четыре корпуса.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
ЗВЁЗДЫ ЗАКАВКАЗЬЯ
Весна-лето 1826 года
Аббас-Мирза начал выступление, едва дождавшись, пока реки вернутся в отведённые на то русла. Сорокатысячное войско, остриём которого был отряд Самсон-хана, с ходу форсировало реку Араке и вторглось в Карабах. Реденькие казачьи разъезды и отряды Эриванского наместника были смяты и уничтожены. Почти без боя была захвачена Нахичевань. Второй, двадцатитысячный отряд, под командой грузинского царевича (беглого!) Александра Ираклиевича, которого теперь звали Искандер-сардар, устремился к Эривани. Третий отряд выступил на Ленкорань.
Аббас-Мирза настойчиво двигался к Елисаветполю. Но на его пути встретился небольшой городок Шуша. Полковник Реут, находившийся с частью своего 42-го пехотного полка и ротой егерей в этом городке, сумел дать отпор. В жестоком бою егеря меткой стрельбой расстроили первые атаки сарбазов, а ударившие в штыковую пехотинцы сумели обратить неприятеля в бегство. Однако подключившаяся к делу персидская кавалерия остановила русских и заставила их попятиться. Пехота, создавшая каре, неспешно возвратилась под прикрытие городских стен.
Аббас-Мирза даже не попытался захватить городок, а «обтёк» его и устремился дальше, в направлении Елисаветполя. Его почему-то не взволновало, что в тылу оказался форпост противника.
Весь Кавказский корпус мог выставить против шестидесяти тысяч персов не более тридцати пехотных рот и нескольких казачьих сотен. Ермолов, назначив в командование русского авангарда генерала Мадатова, определил левый фланг под начало Вельяминова. Сам же, взяв на себя сравнительно спокойный (пока!) правый фланг, проходящий по линии Тифлис—Эриван, прилагал максимум усилий для сколачивания войск.
Под ружьё были поставлены все молодые мужчины-христиане. Мужчины постарше вливались в армию как волонтёры. Они, в отличие от молодёжи, хорошо помнили поход основателя династии – Каджаров Ага Мохаммед-хана, вырезавшего добрую четверть христианского населения. И прекрасно знали, что Аббас-Мирза не уступит в жестокости своему дедушке.
Хотя армия собралась внушительная, использовать её в бою с противником было пока нельзя. Её ещё нужно было обучить воинским премудростям. Поэтому главнокомандующий приказал отходить к Александрополю. По замыслу Алексея Петровича, бывший городок Гюмры, получивший имя императора Александра, должен был стать закавказским Смоленском и Тарутиным.
Генерал Вельяминов, командующий левым флангом, уже успел получить второе ранение (к счастью, оба пришлись по касательной). Весь фланг с огромным трудом удерживал одну злосчастную Ленкорань. Сарбазы, многие из которых ещё помнили падение города тринадцать лет назад, жаждали реванша.
В первый день осады персы штурмовали очень рьяно. Фашины заполнили почти весь ров. Со всех сторон волокли штурмовые лестницы. Сарбазы штурмовали по старинке, не обращая внимания на потери. Казалось, они готовы засыпать собственными трупами не только ров вокруг города, но и омывавшее его Каспийское море. Для полной картины не хватало осадных башен, катапульт и тарана.
Однако трупами засыпать не стали. Осадных башен и таранов гоже не наблюдалось. Напротив, уже через день началась довольно правильная осада. Со всех окрестных кишлаков были согнаны крестьяне, которых заставили копать траншеи. Работы велись и днём, и ночью. Для порядка крепостная артиллерия постреливала по копателям. Но толку от этого было мало. Палить картечью – слишком далеко. А ядрами и гранатами – как по воробьям. И, кроме того, глядя на оборванных и запуганных местных мужичков, трудившихся под пристальным надзором солдат, стрелять было даже и неловко. Казаки, правда, сделали в одну из ночей вылазку и даже умудрились перерезать охрану. Но и это было больше от безысходности: сбежавших вернули, а охрану усилили. Из полсотни казаков, ходивших «в ночное», вернулись меньше половины.
За неделю окопы опоясали город со всех сторон, кроме Каспия, а траншеи приблизились к городу едва ли не на сотню сажень. Вот тут уж пришлось садить картечью безо всякой жалости к сарбазам, мирным жителям. А сапёры – те вообще сбились с ног, высматривая, а не ведут ли персы «тихую» сану? В конце концов нашли подозрительную траншею. Несмотря на умелую маскировку узрели приметное место – где заканчивается траншея и начинается подкоп. Чтобы не мучиться с контрминой и не копать самим, попросили «поработать» артиллерию.
Главный «артиллерийский бог» – подполковник Двиняев, лично навёл пудового «единорога» и... всадил ядро в землю. Пока прислуга банила ствол, все с нетерпением глядели: а что же будет? Сапёры оказались молодцами: земля провалилась, что означало – место «сапы» вычислено правильно! Двиняев, не мешкая ни минуты, засадил в образовавшуюся ямину брандкугель – ядро с зажигательной смесью. Эффект, право слово, был поразительный. Чувствовалось, что пороха на мину не пожалели...
Но радоваться, как выяснилось, было рановато. Через несколько дней к городку была подтащена осадная артиллерия. После установки орудий и пристрелки Двиняев определил: пушки аглицкие, хоть и устаревшие. Англичане оставались верны себе. В 1812 году союзники по борьбе с Наполеоном поставили России пятьдесят тысяч ружей, большая часть которых имела ржавые стволы и разбитые приклады. Правда, это потом не помешало Джону Булю выставить счёт за все ружья...
Всё же устаревшие пушки оставались орудиями, способными хоть и медленно, но верно разрушать стены города и метать ядра в глинобитные крыши домов. В течение дня для осадных орудий были вырыты окопы и насыпаны земляные рвы, прикрывавшие прислугу от залпов оборонявшихся. И очень скверно, что пушек было много. А если персы сумеют правильно организовать ведение огня и сконцентрировать его в одну точку, то участь города будет решена за несколько дней. Чувствовалось, что за всеми приготовлениями стоит опытный в осадном деле человек. Возможно, европеец...
Генерал Вельяминов, полжизни отдавший различным войнам, вынужден был принять единственно правильное решение – начинать эвакуацию. Предполагалось, что уходить придётся морем. И нужно-то выгребать вдоль берега всего пятьдесят вёрст. По прямой. А потом, сушей, вёрст полтораста до Джалилабада. А уже оттуда идти на соединение с главными силами. Но в первую очередь следовало уводить население.
Из сорокатысячной Ленкорани остаться решили не более десятой части. Это те, что имели свои виды на войско шаха. Другие не ждали ничего хорошего. Мужчин убьют. Женщин изнасилуют и продадут в рабство.
Было «реквизировано» всё, что плавает: фелюги контрабандистов, шаланды и плоскодонки рыбаков. Не пожалели даже прогулочной яхты местного князя. Но лодок всё равно не хватало. Солдаты и казаки с большим трудом выискивали дерево: подбирали плавник, разбирали караван-сараи и лафеты разбитых пушек, вырубали абрикосы и яблони. Из этого хлама вязались плоты. Для улучшения плавучести к плотам привязывали глиняные кувшины с крышками или бурдюки из-под воды.
Поручик-артиллерист Клюев, наблюдавший за работами по строительству плотов, высматривал: какой уже годен для плавания? Завидев таковой и проверив на предмет прочности и плавучести, кричал кому-нибудь из местных волонтёров: «Ведите следующих». Волонтёры бежали к мазанкам и приводили очередную семью.
Визгливые азербайджанские женщины, мрачные мужчины и шумные дети норовили набить плоты всем, что удавалось захватить с собой. Страшные усатые старухи пытались тащить с собой даже коз. Первое время Клюев пытался объяснять, что излишнее добро на плоту не поместится, но куда там! Потом он просто плюнул: сами выбросят.
Семью усаживали на плот, показывали (на всякий случай), как правильно грести, и выводили с помощью баркаса подальше. Там плоты сбивали в караван – до сорока-пятидесяти штук. А уже потом, в сопровождении парусника, плоты отправлялись по Каспию. И пусть жители молятся (мусульмане – Аллаху, а христиане – Николаю Угоднику), чтобы Каспийское море не разыгралось весенним штормом!
Поручик матерился про себя: его, боевого офицера, сняли с бастиона и отправили заниматься тем, с чем мог бы справиться хороший унтер! Но с приказом не поспоришь.
С трудом, но к концу недели мирные жители были вывезены. На армию плотов почти не осталось (никто же не позаботился вернуть их обратно). И, как на грех, только что бывшее спокойным море стало штормить. Соваться туда было бессмысленно. Не то что рыбацкие баркасы, но и океанские фрегаты не рискнули бы идти по разбушевавшемуся Каспию.
Генерал Вельяминов созвал совещание старших офицеров.
– Итак, господа, – негромко начал он, – нам противостоит неприятель, численность которого превышает наши войска в семь, а то и в девять раз. Какие будут предложения и мнения?
За долгие годы, проведённые рядом с Ермоловым, генерал-майор сам стал чем-то походить на Алексея Петровича: поворотом ли головы, манерой ли держаться. Правда, в отличие от небрежного в одежде и причёске Главнокомандующего, Вельяминов был настоящим аккуратистом: гладко зачёсанные волосы, застёгнутый на все пуговицы мундир. Не зная, что Алексей Алексеевич происходит из старинного боярского рода, занимавшего важнейшие посты при первых князьях московских, можно было подумать, что перед вами остзейский немец. Однако речь генерала была спокойная, даже мягкая, в отличие от рокочущих звуков того же Ермолова.
Как и положено, первыми высказывались младшие по званию. Майор Потапов, командовавший егерями, предложил переждать шторм, а потом отправиться морем. По его мнению, плоты можно вязать из кустарника. Командир драгун подполковник Сумкин настаивал на атаках и причинении максимального урона неприятелю. Казаки предлагали прорыв. Было, правда, мнение о том, что нужно сидеть в осаде, дожидаясь подхода основных сил. Командующий артиллерией Двиняев вообще отмолчался, сообщив, что он – как решит большинство.
Выслушав офицеров, генерал подвёл черту:
– Итак, господа. Продовольствия в городе из-за ухода жителей предостаточно. Питьевая вода есть. На оборону города наших сил хватит. Но! Главная беда – у нас нет необходимого количества пороха и картечи. Так, Семён Михайлович?
Сидевший в углу Двиняев молча кивнул. Потом немного подумал и сказал:
– Так точно! Всю неделю отбивали атаки только за счёт пороха, изъятого у населения.
– На сколько хватит запаса? – спросил командир егерей.
– В лучшем случае – на три-четыре дня.
Офицеры замолчали. Нет, конечно, все знали, что с порохом дела обстоят скверно. Но чтобы так скверно! Отбивать атаки персов удавалось только благодаря плотному огню, который Двиняев мастерски сумел организовать. Палить же со стен из ружей по атакующим... Уж лучше по старинке – сбрасывать камни и лить кипяток.
– Вот так, господа. Думаю, что с порохом для ружей – не лучше.
Все офицеры кивнули.
– Итак, – продолжил генерал. – Раз мы не можем остаться и не можем уйти морем, остаётся только один путь – на прорыв. Помощи нам ждать неоткуда, потому что командующий не имеет резервов. Посему приказываю: идти на прорыв завтра, с утра. План прорыва и систему взаимодействия каждый получит тотчас же. Но первый приказ господину подполковнику Двиняеву: готовить орудия к атаке. Пороха должно хватить на неделю. Все старые и ветхие пушки – уничтожить. Брать только те, что можно утащить. И вот ещё что. Кому-то из ваших офицеров придётся остаться в арьергарде вместе с казаками. Лучше, если это будет волонтёр. Да и расчёты лучше создать из добровольцев. Сами понимаете... Думаю, Семён Михайлович, вы лучше меня знаете, как и что готовить. Поэтому, господин подполковник, прошу вас немедленно заняться артиллерией. Господ офицеров прошу подойти к карте.
Утром следующего дня персы уже толпились около стен. Видимо, они тоже предполагали, что боеприпасы осаждённых на исходе. Да что предполагать, если сочувствующие персам местные жители каждую ночь спускались со стен и бежали во враждебный лагерь. Масла в огонь добавили и артиллеристы – всю ночь на бастионах взрывались пушки. Вернее, не сами пушки, а казённики. Двиняев, оценив ситуацию, решил взять на прорыв только восемь орудий. Впрочем, все остальные, принадлежавшие к крепостной артиллерии, вывезти было просто невозможно. Со стен они ещё худо-бедно палили. Но вытаскивать этих монстров, оставшихся в наследство с прошлой войны, смысла не было. На стенах имелись даже мортиры, которые в русской армии были забыты ещё до царя Алексея. Но и оставлять их в «подарок» не хотелось. Кто знает, а не придётся ли опять штурмовать этот злосчастный город? Вот чего Двиняеву было искренне жаль – так это настоящей мадфы, помнившей, наверное, ещё Тамерлана. Толку от этого полуружья-полупушки, стрелявшей камушками, не было никакого, но зато можно было бы украсить ею Оружейную палату. Посему мадфу подполковник приказал закопать до лучших времён. Хотя будут ли лучшие времена?