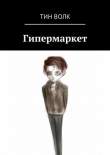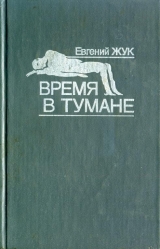
Текст книги "Время в тумане"
Автор книги: Евгений Жук
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Они пошли почти теми же улицами, которыми гуляли каждый вечер, но он не брал ее руки́, может, потому, что было еще светло, а может, жег стыд от того, что забыл сходить на могилу отца.
Они шли молча, пока не показалось кладбище, и тогда он, мучаясь, сказал:
– Не знаю, как ты, но мне надо сходить на кладбище… к отцу. – Ему показалось, что она не понимает его, и он добавил: – Я не был… не успел… словом, надо сходить.
– Так идем же, идем. – Анна сама взяла его руку, и он почувствовал, что стыд проходит, что в этом есть даже смысл – он с Анной пойдет на могилу отца.
Он чувствовал что-то еще, неясное даже самому себе, и это было от ее порывистых слов, твердого пожатия руки и ее глаз, смотревших чисто, все понимающе и чуть печально.
Он не помнит, что они делали у могилы отца. Наверное, просто стояли и Анна подправила что-нибудь.
– Ты помнишь своего отца, когда была совсем маленькой? – спросил он.
– Помню. Я не помню его лица или еще что-нибудь – помню руки. Наверное, он поднимал и носил меня.
– А я ничего не помню. – Он вздохнул. – Был слишком мал или слишком глуп.
– Но все равно, – она улыбнулась. – Он и брал и целовал тебя. Все так делают.
Он представил, как отец наклоняется к нему, берет и целует его, и от этого отец вдруг перестал быть тем, кем был до сих пор: неизвестным, непонятным, строго смотревшим с фотографии довоенных лет. Он был родным и близким – вот как Водолаз Анне. Он смотрел на сына и Анну, как бы одобряя и его выбор, и то, что они вместе пришли к нему. И Крашев, невероятно загрустив, пожалел, что завтра надо куда-то ехать, оставлять мать, Анну, расставаться с городком. Но это был лишь миг, и от тут же, взяв себя в руки, начал почти нашептывать себе в сознание короткие, приказывающие фразы: «Все это нежности, – вбивал он в свое «первое» полушарие. – Ты поедешь в Москву! И сдашь экзамены! Мать сама этого хочет. И Анна приедет. И мы будем вместе».
Он вбивал в себя это несколько минут. Потом еще раз посмотрел на могилу отца, взял руку Анны и решительно пошел в конец кладбища, бездумно разглядывая кресты и памятники.
Длинный, невероятно жаркий день конца июля кончился… В темноте они шли по узкой тропинке к морю, и громадные кусты ежевики не кололи их – он их просто не замечал, да и сама тропинка была короткой, и они быстро вышли к морю.
Море было тихо и пустынно. Светила луна. Лишь иногда небольшая волна накатывалась на старый, позеленевший мол – тогда слышался тихий шелест, и волна дробилась, образуя рябь и множество маленьких лун.
Анна молча смотрела на море, а он, решительный и веселый, говорил:
– Я сегодня весь в долгах. Должен и должен. Пошел к тебе, а потом на кладбище, а мать одна и я, вроде как, должен быть с ней. Вот пришел к морю, вспомнил, что теперь целый год не смогу хотя бы окунуться, и опять должен… Но с морем я спорить не стану – морю я долг отдам… – И он решительно и быстро разделся, хлюпая, пробежал по молу, бросился в воду, и мягкая, ошеломляюще мягкая, чуть прохладная, иная стихия окутала его. Он долго, очень долго, раскрыв глаза, плыл среди мерцающей воды, вначале у дна, где было прохладнее и были видны песок, водоросли и какие-то расщелины, а потом дно резко ушло вниз, и он уже ничего, кроме плотного тумана, не видел и, забывшись, чуть не ударился о подводную скалу, сплошь покрытую таким же зеленым мхом, как и мол. Он хорошо знал эту скалу и встал на нее. Вода была ему по грудь и здесь, в верхнем слое – теплой-теплой, он вовсе не замечал ее. Отдышавшись, он поплыл назад, к молу, вначале тихо, еще глубоко дыша – на спине, потом тихим брассом, чуть разводя руками, и потом резко и быстро – кролем.
Застыв у мола, он положил руки на мягкий мох и посмотрел на Анну. Анна, сняв туфли, стояла на берегу.
– Раздевайся, – он с шумом ударил по воде. – Парное молоко.
Анна не решалась. Потом, сбросив платье, медленно пошла в воду.
– Ну, нет, – он знал, что Анна, как, впрочем, и все девчушки их городка, плавала и ныряла не хуже его. – Не пойдет. Ты что, на отдых приехала? Иди сюда. – И он зашлепал руками по зеленому мху.
Анна покрутила головой, все так же медленно шагая недалеко от берега.
– Ну, сейчас… – сильно оттолкнувшись, он сделал несколько мощных гребков, а потом, когда ноги ударились о песок прибрежного мелководья, вскочил и с шумом побежал к Анне.
Совсем не по-местному, неуклюже, Анна плюхнулась в воду.
– Ну, даешь. Еще утонешь. – Он, смеясь, подбежал, полуобнял поднявшуюся Анну, и вдруг рука его вместо купальника ощутила что-то мягкое, кисейное, теперь мокрое, совсем не как купальник, охватывающее ее фигурку. Руки его отдернулись сами собой. Но, как недавно на кладбище, короткими, приказывающими, произнесенными про себя фразами он заставил свои руки опять обнять Анну. Потом он поднял ее и понес к берегу. У него было чувство, что все это делает не он, а тот, которому он это приказывает. И тот, другой, с Анной на руках, вышел на берег. Песок на берегу был еще очень теплый и пальцы ног мягко вошли в него…
Глава 13
…Ему захотелось сесть, вернее, он уже не мог стоять, и он сел, придвинув к голове колени, опустив руки на сухой, холодный песок. И пальцы рук мягко вошли в него…
Так, скрючившись и оцепенев, Крашев сидел долго. Накатывались на берег волны и, тихо прошептав что-то свое – мудрое и грустное, – исчезали навсегда. Огромным, сонным, навечно связанным с берегом, неведомым морским зверем темнел под водой совсем просевший мол. Но пустынно, как много лет назад, здесь уже не было: холодный, струившийся по верхушкам волн свет от громадных гостиниц, расставленных на другом берегу, дотекал и сюда, наполняя забытый пляж и прибрежные заросли неясным мерцающим сумраком. Оттуда же неслась музыка, теряясь в тихой бухточке и отдаваясь здесь лишь мерным буханьем нижних тонов.
Песок вбирал его тепло, и, наконец, его большому телу стало до дрожи холодно. Оцепенение проходило. Но той твердости и бодрости духа, при которых он мог всегда управлять собой, приказывать себе, не было. Крашев оглянулся назад, на кусты и тропинку, по которой прибежал сюда.
Ночь была свежа, но все еще по-южному нежна и тиха. Над тропинкой, над кустами ежевики и дальше, над кладбищем мерцали крупные звезды. Привидевшиеся ему тени, их голоса еще ясно звучали в нем. Но суда над ним не было. Да и не могло быть – подсказывала ему трезвая часть его сознания. Но, прибежав к этому берегу, он уже смирился с тенями, с их укорами и с будущим судом над ним. Сейчас же, кроме огромного, охватившего его чувства неопределенности, не было ничего. Это было настолько противно его натуре, долгие годы жившей конкретными вещами, что, не вынося этого, Крашев встал, зачерпнул ладошкой воду, ополоснул лицо и медленно пошел по берегу, как бы проверяя, что вокруг все есть и все конкретно: соленая вода в море, холодный песок на берегу, сила тяжести под ногами, припахивающий йодом воздух… Все это было: и море, и упругая земля, и свежий воздух. И все было вечно и прекрасно. Но внутри него самого было так пусто! И это несоответствие родило вдруг такое отчаяние и тоску, что Крашев задохнулся от нахлынувших чувств и, не умом, но инстинктом чувствуя в этом спасение, свернул от берега с равнодушным, вечным морем и побрел к теплым огням родного городка…
Без всяких мыслей Крашев пробрел несколько плохо освещенных окраинных улиц. Потом пошли улицы со столбами-торшерами, изливающими бледно-белый, неживой свет, и Крашеву казалось, что он плывет в этом холодном, мертвящем свете.
За школой – странно-тихой, как будто отдыхающей от шумного, крикливого дня, уличные фонари опять были разбросаны как попало и лили обычный желтый, живой свет, и у одного из них, висевшего на деревянном, дряхлом столбе, Крашев застыл – круг замкнулся, фонарь полуосвещал дом, где жила Анна и когда-то жил ее отец…
Он их предал, забыл… Хотя сейчас он все еще находился в оцепенении и мысли его были вялы и неуправляемы, он вспомнил, наконец, и это последнее…
Он вспомнил маленький перрон их франтоватого вокзала. Его провожали мать и Анна. Школьный друг Ширя, уже став мастером спорта, боролся на очередном чемпионате.
За десять минут до подхода поезда мать, решив что-то еще прикупить ему в дорогу, ушла в вокзальный буфет, и он остался наедине с Анной. Он опять говорил ей о Москве, московских родственниках, о том, что год пробежит быстро и они будут вместе, но чувствовал, что с каждой фразой становится от Анны все дальше и дальше.
Подошла мать и, вызывая чувство стыда и досады, толкала ему в сумку ненужные пирожки. Ему казалось это и мелким и глупым. И опять перед его глазами равнодушно и уверенно заскользил танкер, плывущий куда-то далеко-далеко, и опять ему нестерпимо захотелось уплыть, улететь, уехать…
Перед самым отходом сердце у него все же дрогнуло. Обычно поезда не задерживались у их вокзальчика, а, постояв две-три минуты, катили дальше. Но в тот раз что-то случилось, и он к концу долгой десятой минуты с удивлением обнаружил, что мать и Анна чаще смотрят не на него, а друг на друга, и мать улыбается, а Анна смеется… Ему казалось, что они еле знакомы, и вот… Они опять о чем-то говорили и смеялись и смотрели не на него – уезжавшего, и впервые чувство одиночества маленькой холодной льдинкой прикоснулось к его сердцу.
Ровно за два мига до отхода – он уже был в вагоне – непонятно откуда свалился Ширя. Невысокого роста, с переливающимися мышцами мускулов, силу и ярость которых не мог скрыть новенький белый джинсовый костюм, Ширя подскакивал на своих кривоватых ногах, что-то кричал и показывал на пальцах. Крашев ничего не слышал – вагонные окна на их вокзальчике всегда закрывали (впереди было два тоннеля), но сам вид Шири говорил больше, чем надо. Здесь было все: и радость от встречи, и известие о том, что он – Ширя – опять победитель, и даже то, чтобы Крашев знал: скоро Ширя доберется до Всесоюзного чемпионата, до Москвы, а уж там он себя и покажет…
Но вот вагон дернулся, глаза матери и Анны устремились к нему, с каждым мгновением отдаляясь дальше и дальше; еще неистовей запрыгал перед окном Ширя, все еще что-то доказывая и объясняя; и вот уже не стало видно слез на щеках матери, все дальше уплывало погрустневшее лицо Анны, застыл, широко и тяжело расставив ноги, Ширя; а потом все они превратились во что-то единое, провожающее его, и он долго-долго, пока поезд огибал бухточку, видел слитые вместе фигуры… А потом вагон, часто звякая по стыкам, влетел во тьму первого тоннеля, и все: городок, синяя бухточка, вокзал и уже неразличимые мать, Анна, Ширя – все пропало…
…Крашев смотрел на ветхий, совсем старый дом, ветхость и старость которого уже не могли скрыть ни ухоженный чистый двор, ни ставшие, кажется, еще пышнее кусты роз, ни весь его когда-то импозантный, а теперь жалкий вид. Он вглядывался в дряхлые, дощатые стены, в закрытые ставнями окна, словно надеясь, что старый дом расскажет об Анне. Но дом молчал…
Часть II. КРАШЕВ
Глава 1
Ночь оказалась для него много тяжелей, чем он ожидал. Лишь вялые, чуть бродившие мысли, свернувшись в рыхлые, неуклюжие клубки, замирали в нем, он тут же оказывался на кладбище, у могил отца и школьного учителя. Какие-то неведомые ему силы влекли его в конец кладбища, к калитке. Он уже видел заросшую ежевикой тропку; нависая над кладбищем, с укором смотрели на него тени, и тут же ледяной, какой-то космический ужас пеленал его душу и тело, и Крашев просыпался…
После пятого или шестого раза испытанный им страх был так велик, что ему стало все равно. Заснуть и увидеть страшный сон он уже не боялся, но не было самого сна.
Его мысли стали опять четки и ясны… «Так отчего же этот страх?» – спросил он себя. И отчего тени, и лоб, покрытый липким потом после бега по короткой тропке к морю, и отчего он не может заснуть в эту тихую осеннюю ночь?
Он вспомнил когда-то читанный рассказ Шукшина «Осень» и суетного Филиппа, по глупости не женившегося на Марье. И вот прошла жизнь, Марья умерла, и Филипп, у которого и жена и дети, на старости лет понимает, что единственный родной человек у него – это Марья, а жизнь… жизнь прошла… Отчего он запомнил этот маленький рассказ? Неужели и он все эти годы любил и любит Анну? А кто же у него, кроме матери, родной человек? Жена?
…Они учились в одной группе, и она стала его женой на пятом курсе, когда вдруг все пятикурсники бросились жениться и выходить замуж. Кому-то надо было остаться в Москве; кто-то вдруг понял, что не может жить без кого-то; кто-то привез жену после последней практики из далекого Норильска; кого-то пробила ностальгия по родному селу и по девчушке-соседке, совсем уже выросшей; у кого-то от привольной жизни появилось время и на любовь…
Они не искали друг друга. Они заметили друг друга с самого первого курса. Бежало время… Летели институтские годы… Они учились, ходили в походы, работали в стройотрядах, влюблялись в других, целовались с другими, взрослели, но всегда помнили друг о друге… Он никогда не пытался за ней ухаживать, никогда не провожал ее домой, не покупал билеты в кино, в театр; не интересовался, как она провела лето или с кем ходила на нашумевший спектакль.
Но они были «парой». Они были той «парой», о которых бабы в деревнях говорят, что они «подходят друг к другу», а в небольших городках и плохих фильмах – «созданы друг для друга». Наверное, она так не думала, и Крашев так не думал. Но они всегда помнили друг о друге.
И все случилось просто и быстро…
На одной из студенческих вечеринок, зимой, когда уже большая половина их группы переженилась и повыходила замуж, он подошел к ней и пригласил на танец. Это было медленное танго, странным образом вдруг вклинившееся в ревущие шейки и начавшие опять возрождаться роки.
Они почти пять лет знали друг друга и, наверное, много раз танцевали друг с другом, и, может быть, даже вот такое же танго. И в таком же танго они обнимали друг друга и медленно плыли по институтскому танц-залу или же толкались в тесной комнатке общежития. А потом расходились и забывали и о танц-зале, и о комнатке, и о самом медленном танго.
Но в ту вечеринку все было по-другому. Может, слишком порывисто он пригласил ее или были слишком податливы ее плечи и руки. Но после медленного, показавшегося длинным-длинным танго, которое они протанцевали молча, как совсем зеленые первокурсники, оба вдруг поняли: теперь они единое целое. И в ту же зимнюю, запуржившую ночь в неуютной комнатке мужского общежития она стала его женой.
И вот они прожили двадцать лет. Она была хорошей женой. Просто замечательной. За двадцать лет они ни разу по-настоящему так и не поссорились.
Они и в самом деле оказались прекрасной парой, а, вернее, тандемом. И в этом тандеме было все, что надо: знание дороги и цели; своих способностей и способностей партнера; были даже чуткость, внимание, забота друг о друге; иногда были знойные ночи и периоды влюбленности друг в друга. Было все, кроме одного: простой человеческой любви, которая не горит, не клокочет – она просто есть и ты знаешь: будет всегда, что бы ни случилось в тебе или окружающем мире.
Но для такой любви нужен перекос, чья-то слабость, может быть, нужность одного в другом. Но они были слишком сильны, горды, умны и независимы для этого. И, странным образом, похожи друг на друга. Даже внешне. Тогда, на пятом курсе, она была высокой, длинноногой, очень красивой, с черными, почти такими же, как у него, волнистыми волосами. Часто, не зная, их принимали за брата и сестру. И только речь отличала их, да и то вначале, и она смеялась над его «кофэ», и «любов», а он – над ее замоскворецким говорком. Но уже через несколько лет там, на Урале, сгладилось и это.
«Глупому шукшинскому Филиппу было легче, – горько усмехнулся Крашев. – Его жена была злой, сварливой. А почему же я не люблю свою жену и почему она меня не любит? Оттого, что знаем: случись с нами что – и тандем распадется? Почему моя жена ни разу не забылась? Почему за два десятка лет я не услышал ни одного, только для меня сказанного простого, нежного слова? А ведь я знаю – они есть. И говорила мне их Анна…»
Крашев дотянулся до картонки, которую нашел вчера. Озеро в горах, грустные буки – их, наверное, уже нет, плотина, кладка, стремительной стрелой соединившая два каменных берега, и Анна с букетом розовых цветов… Прошлого не изменить… Вот сейчас он подойдет и поцелует ее. И Анна охнет, а потом обнимет его. И будет неудержимое чувство счастья. И они полезут на гору. И перед ними разверзнется громада моря, их маленький городок, налепленный на берегу, и вдали – танкер, уверенно уплывающий далеко-далеко.
«Нет, – подумал он, – ничто не могло остановить меня тогда. Еще губы не остыли от поцелуя и мы стояли рядом, но она оставалась, а я уже жадно и ненасытно уносился, уезжал, улетал, уплывал».
И кому было труднее? Ей, окончившей школу, поступившей в областной пединститут на заочное отделение и благополучно ездившей два раза в год за сорок километров на сессии, или ему, попавшему в громадный город, выдержавшему высокий конкурс, жившему первый год на частной квартире (к московским родственникам он так и не пошел), под разными предлогами отказывающемуся от материнских денег (ему стыдно было брать у матери деньги почти в двадцать лет) и работающему, работающему, работающему…
Учеба – это тоже работа, муторная и временами неблагодарная. Крашев имел неплохую память, когда нужно, он бывал и усидчив, но иногда и он еле выдерживал институтский крутеж. Особенно первые три курса. Иногда ему казалось, что он участник какого-то гигантского сверхдлинного марафона и бегут они не по твердой асфальтовой, а тем более зелененькой дорожке, а по зыбкой, то и дело осыпающейся под ногами рыхлой земле. А в конце длинного круга – препятствия в виде семестровых заданий, курсовых, сессий. Это потом, где-то на третьем курсе, отдышавшись и приглядевшись друг к другу, у них появилось и время и желание помогать, советовать, дружить, иногда любить, но это уже была вторая половина пути. А на первой? Вот бежит рядом с тобой какой-нибудь Сидоров. И стартовал он хорошо, и вид у него спортивный. Но вот поворот – конец первого круга, впереди препятствия, и вот ты видишь: Сидоров, который еще румян и боевит, уже не тот Сидоров, чуть-чуть прихрамывает, а потом и явно хромает; и не успеваешь узнать, какие же задания по начертательной геометрии не сделал Сидоров, а его уже нет – исчез с горизонта. А вот исчез Петров, а там Иванов. И лишь к концу третьего курса, когда от их группы осталось чуть больше половины, они перевели дыхание и посмотрели друг на друга уже внимательно, с уважением, уверенные в том, что в таком составе добегут (а кое-кто добредет, а кое-кого и дотащат) до конца.
Были и еще проблемы – квартирные, когда то он не подходил хозяевам, то хозяева – ему; денежные, когда отказаться-то от материнской помощи он отказался (хотя мать упорно продолжала слать небольшие суммы), надеясь где-нибудь подзаработать, но денег от его желаний и надежд не прибавлялось; постоянно работать, в суете первых курсов, он не смог, и потом, много лет спустя, вспоминая первую московскую зиму, он всегда удивлялся. Удивлялся тому, что, не имея никакой теплой одежды, проходив, вернее, пробегав зиму в легкой куртке, спортивной шапочке и туфлях, не замерз, не заболел менингитом, не побежал на Курский вокзал, не купил на последние деньги билет и не уехал домой.
А кто-то рядом не выдерживал, кто-то переходил на заочное, кто-то – на вечернее, просто бросал учиться и потом, через пять-шесть лет, имея жену, детей, квартиру, хороший заработок, вспоминал об институтском марафоне как о какой-то нелепости в своей жизни и улыбался, жалея и уже не понимая бывших сокурсников в конце этого сверхдлинного марафона, не имеющих ничего, кроме диплома в кармане и неопределенных знаний в голове.
Но он выплыл, добежал, умудряясь сдавать экзамены на пятерки. Никогда не подводившая его интуиция шептала, что все изменится, что надо держаться. И он держался, хотя иногда нестерпимо хотелось все бросить, уехать и забыть и московские морозы, скрючивающие в три погибели тело, и хлюпкие весны с вечно промокшими ногами, и постоянное полуголодное существование. Но он держался. Он даже ни разу не попросил у матери побольше денег, писал ей, что устроился работать ночным сторожем, что получает деньги и что все хорошо.
К концу первого учебного года и в самом деле все стало меняться. Изменялся он сам: его уже не ошеломляла, а потом и не раздражала гулкая карусель московских улиц; он перестал стыдиться легкой, не по сезону одежды, он увидел, что вокруг немало таких, как он, «бедных студентов»; он даже придумал себе маску – ко всему равнодушный, закаленный полуспортсмен-полустудент. Маска оказалась удачной, и он долго – чуть ли не до конца второго курса – пользовался ею. Возникающий было комплекс по поводу одежды прошел; экзаменаторы, вначале чуть пренебрежительно глядевшие на высокого, в полуспортивной одежде студента, берущего билет, потом, – при ответе, удивившись некоторым знаниям и здравым рассуждениям по поводу этих знаний, – непроизвольно шли навстречу, а тренеры и «жучки» от спорта, разглядев в нем, восемнадцатилетнем, какие-то таланты, манили славной и сладкой жизнью чемпиона. В институтской спортивной жизни он участвовал охотно, но осторожно, не во вред основному марафону, хотя и его соблазняли эти предложения, но не в виде отдаленной славы и совсем уж неопределенной сладкой жизни, а в виде конкретных сборов и соревнований, где, несмотря ни на что, был отдых, было чье-то участие в тебе и бесплатные талоны в профессорскую столовую…
А потом? Это он, именно он, организовал студенческий строительный отряд в далекую Коми АССР. Конечно, они поехали не одни, а в составе институтского отряда. Конечно, им помогали. Материалами, советами. Но все это не главное. И был риск… А мог бы поехать домой. И поработать рядом с матерью. И заработать верных две-три сотни рублей. А рядом зреют вишни, сливы… И виноград. Но он поехал в Коми… И привез оттуда тысячу рублей. И всего за сорок рабочих смен.
Если бы у него сейчас спросили: «Вот ты, Крашев, ставший в сорок лет заместителем начальника Главка, где же ты начался как руководитель?», он бы ответил: «В стройотрядах, а, вернее, в том, в первом – в Коми…»
Глава 2
Да, он привез из Коми тысячу рублей. И заработал он их, руководя маленьким – в двадцать человек – отрядом неопытных студентов – вчерашних первокурсников. И за сорок рабочих двенадцатичасовых смен он понял и многое другое: понял, что значит иметь власть над другим человеком и уметь этой властью пользоваться по делу; понял, что значит отвечать за людей тебе подчиненных, иных из которых ты любишь, иных терпишь, а иных совсем не любишь, но знаешь, что они нужны общему делу; он понял, наконец, что же значит это заманчивое и пугающее слово – руководитель…
А когда они приехали, то их было тридцать и первые три дня они убирали строительный мусор в цехах недостроенного завода, на фасаде которого горел транспарант: «Ударная комсомольская стройка».
Может быть, вначале это и была комсомольская стройка, но в тот год, когда все сроки сдачи завода прошли, то стройка стала обыкновенной и работали здесь и военные строители, и занесенные теплым летним ветром «бичи», и «химики» из расставленных недалеко бараков, а иногда «узкие специалисты» – сварщики, жестянщики из расположенной рядом тюрьмы.
И свое, и местное начальство знало, что такое вчерашние первокурсники. И их поставили убирать строительный мусор. Первые три дня у него даже отняли звание командира отряда. Он стал просто старшим, старшим тридцати неопытных студентов.
А руководил ими мастер. Это был миловидный, невысокий, худощавый парень лет двадцати пяти.
Когда после трех дней грязной и пыльной работы они убрали весь громадный второй этаж, то Крашев спросил у паренька, сколько же они заработали.
– Да нисколько, – ответил тот, Они сидели в маленьком, довольно уютном вагончике для мастеров. – Вот ЕНИР, – парень достал из стола тонкую книжицу. – Единые нормы и расценки. Погрузочно-разгрузочные работы. Ищем: переноска грузов на носилках. Берем объем, множим на расценку… Вас тридцать? – Крашев кивнул. – Получается по полтора рубля; в день – по полтиннику, на добрый обед не хватит. Вот так…
– Но погоди. – Для Крашева это был удар. – Ведь так мы ничего не заработаем…
– Ну почему? – парень улыбнулся. – Что-нибудь нарисуют. За ваше усердие, безотказность; за то, что пашете с утра до вечера; за то, что вы студенты, наконец.
– И сколько же нарисуют? – Крашев сидел на прочной деревянной лавке за массивным двухтумбовым столом, но чувствовал, что и лавка и стол как-то ускользают из-под него. Его опять ждала суровая московская зима, беганье в курточке и жалкое существование на стипендию.
– Ну, рублей по двести нарисуют.
– По двести? Но наши отряды работают здесь не первый год. И привозили, то есть зарабатывали, и больше… Так почему же мы?.. – В его груди было одно отчаяние, и слов тогда ему явно не хватало.
– Почему?.. – Парень улыбался, и улыбался так широко, так аппетитно, что Крашеву показалось: парень радуется их неудаче, и его охватило не то чтобы злость, а какое-то бешеное упрямство – разгадать, узнать этот секрет, секрет больших заработков. А парень подошел к открытой двери, посмотрел на громадный заводской корпус, помахал ему отчего-то рукой, опять прошел к столу, пошарил в дальней тумбе и достал бутылку водки.
– Все, – сказал он с картинным вздохом, посмотрев на часы. – Конец «химии». Жора Гробовский – опять свободный человек. Вот за это надо выпить. А деньги… – он махнул рукой. – Деньги – навоз. Главное – свобода.
…В старую школу, где разместили их отряд, Крашев пришел далеко за полночь. Его немного жег стыд за то, что он нарушил «сухой закон», но в душе у него крепла уверенность. И уверенность эта была не оттого, что Жора Гробовский – одессит (почти земляк!) – раскрыл ему глаза на многие вещи: на смету стройки и на процент заработной платы в этой смете, на выгодные и невыгодные работы, на ЕНИРы и на множество коэффициентов в этих ЕНИРах, на форму № 2, на наряды и бог весть еще на что – всего он, Крашев, захмелевший, и не смог бы запомнить. Из всего этого он сделал важнейший вывод: стройка, тем более такая, как эта, затянувшаяся, уже трижды съевшая свою смету, – это такой вертеп, где все можно. И заработать и нет…
Уверенность приходила и от другого. У Крашева был нюх на людей. Может быть, та же интуиция. Он всегда чувствовал, хорош человек или плох. Вот тогда он сидел с «химиком», пил запрещенную и ему, и «химику» водку, но чувствовал, что все это надо. Надо для дела. Под вторую бутылку Жора рассказывал ему о своей жизни. И вначале Крашев усмехался про себя: он уже знал цену таким исповедям. Но история жизни Жоры и в самом деле оказалась удивительной. Он был подкидышем. Его подкинули совсем маленьким (родителей он не знал) злой и сварливой старухе, а та сдала его в приют. Когда ему было шесть лет, его взяла к себе одинокая добрая вдова. Эти годы он всегда вспоминал с грустью. Он уже привык называть вдову мамой. Мама отправила его в первый класс. Но во второй класс он пошел опять из детдома – мама умерла.
Из детдома он бегал постоянно. И до мамы, и после… С грехом пополам закончил семь классов, а потом, не дожидаясь, когда его пошлют в «ремеслуху», выкрал документы, сбежал вовсе, поселился в заброшенном подвале и, как ни странно, поступил в строительный техникум.
– И как же ты жил? – покрутил головой Крашев. – На одну стипендию?..
– Какая там стипендия? – Жора усмехнулся. – У меня тройка была на экзамене… Взять-то взяли, да условно – весь первый курс стипендия только снилась. Директор детдома – пес, – Жора сжал свой маленький кулак, – дознался-таки, что я в техникуме, письмецо официальное накатал прокурору, мол, должен в «ремеслуху», а техникума недостоин. Ну, вызвал прокурор… Я думал оттого, что документы спер, ну и еще кой-какие дела были. Оказался, хороший старик. А, может, и не старик. – Жора опять печально улыбнулся. – Какой старик? Лет сорок ему, наверное, было… Говорит: у меня пацан тоже семь классов окончил и, балбес, учиться не хочет, а ты, мол, один, а учишься, ну и так далее. Короче, отстал от меня этот пес-директор, я и бегал-то из-за него, и стипендию за первый год всю выплатили – детдомовский потому что.
– Ну, а все же на что ты жил? – допытывался Крашев.
– Да, жил, – махнул рукой Жора. – Случалось, и воровал. Так… Всякую мелочь. Белье вместе с веревками снимал. Из общественных туалетов краны выкручивал – дефицитные были. Однажды из детдомовского все повыкрутил… Ну, и знакомому, а он – на барахолку, все торговал. А однажды коврик упер…
– Из детдома?
– Ну, нет. Там таких ковров не держат. Хошь верь, хошь нет – из райисполкома. Знакомый кореш – да у меня пол-Одессы в знакомых – шофером работал. Сговорились мы. Въехал он во двор, а я через парадное – вовнутрь. В фойе еврей сидит – старый, седой, газетку отложил, из-под очков на меня смотрит, спрашивает: «Молодой человек, ви куда?» Я ему тоже вежливо: «Папенька у меня здесь работает». Покосился еврей на мой задрипанный пиджачок, ни слова не сказал, пропустил. Высмотрел я на третьем этаже хар-р-роший такой ковер, окно подраскрыл, а машина далеко. И ковер тяжелый – к другому окну не дотянуть. Махал, махал корешу – ничего не видит, а кричать нехорошо. Сбегал во двор – показал окно и опять наверх – кричу еврею, что забыл еще что-то сказать папеньке. Прибежал, осмотрелся – никого, заседают. Скатал ковер, еле к окну подтянул, бух! – в кузов и пулей вниз. Старику ручкой помахал. Вот так и жил…
– Но могли поймать. Не страшно? – По ходу Жориного рассказа у Крашева зрела мысль, еще не до конца понятая даже им самим.
– Страшно – не страшно, а было… Отлежался немного коврик и туда же – на барахолку. Летом по садам лазил, по огородам. Фарцевал потихоньку. Одесса не Коми – прожить легче.
– А за что же ты на «химию» попал? – Крашеву стало вдруг легко. Он понял, что́ сейчас предложит этому Жоре из Одессы, этому детдомовцу, учащемуся техникума, мастеру-«химику» бывшей ударной комсомольской стройки.
– Это уже отдельная история, – сказал Жора. – Но воровство здесь ни при чем. Да и воровать я после этого прокурора бросил. Думаю, попаду к нему – умру со стыда. А там и стипендия за год, на второй курс хватило. Подрабатывал… А потом практики пошли – тогда были такие длинные практики… Преддипломная – девять месяцев, и деньги платили. На преддипломной мне уже восемнадцать стукнуло, я женился, а потом и на «химию» попал.