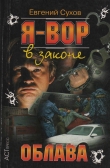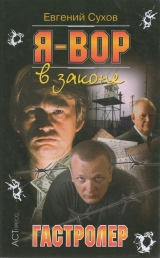
Текст книги "Гастролер"
Автор книги: Евгений Сухов
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
Глава 13
Егор Нестеренко стоял на платформе Московского вокзала и утюжил внимательным взглядом толпу пассажиров, вывалившихся из московского поезда.
– Извините, уважаемый, – обратился к нему кто-то сзади. – Как мне выйти к Невскому проспекту. Я в Ленинграде в первый раз…
– Идите прямо на выход. Там будет площадь, а от нее Невский сразу и увидите, – почти не поворачивая головы, ответил Нестеренко.
– Ты что, Егор, не узнаешь?
Тот резко обернулся и увидел перед собой невысокого прилично одетого рыжебородого мужчину с небольшим аккуратным чемоданчиком в руке, всем своим видом смахивающего на вольного художника откуда-нибудь с периферии, впервые вырвавшегося взглянуть на красоты и достопримечательности северной столицы.
– Ну, Егор Сергеевич, видно, сильно я изменился… – усмехнулся Медведь, и Нестеренко по широкой белозубой улыбке тут же узнал своего давнишнего друга по Соловецкому лагерю особого назначения Геру Медведева, с которым они не виделись четыре года.
– Так ты что же рыжий-то весь такой стал? – только и успел выговорить удивленно Егор, и они душевно обнялись.
Последний раз они виделись больше четырех лет назад, когда Медведь, забросив за плечо узел со своими скудными пожитками, в лагерной серой телогреечке и заломленной на затылок ушаночке махнул ему на прощание рукой и низко севшая в воду соловецкая баржа с освобождаемыми дернулась на волне и нехотя поплыла к материку.
Хотя у Медведя и был адресок на Васильевском острове да в кармане лежало письмишко от Нинели для будущей квартирной хозяйки, Егор зазвал Геру к себе домой.
Жил Нестеренко вблизи Невского, в переулке у Аничкова моста, в старом доме, который когда-то весь занимала семья его отца. Сели за накрытый стол, почаевничали, побалакали о том о сем. Больше рассказывал о себе Егор. Он успел за эти годы наверстать упущенное время, защитил кандидатскую диссертацию по экономике, как и мечтал еще на зоне, преподавал в педагогическом институте имени Герцена. Правда, пошутил, что работает в женской гимназии, так как институт этот до революции был женским педагогическим. И еще собирал материал для докторской, задуманной все там же, на Соловках.
Егор не стал пытать Медведя о его московском житье-бытье, только и спросил: мол, живешь прежним ремеслом? И, услышав утвердительный ответ, все, кажется, и так понял с полуслова.
Хоть Нестеренко и был сильно загружен в институте, они виделись почти через день, то вечерами прогуливаясь по Невскому, то сидя за чаепитием у Нестеренко дома.
* * *
– Ну и что думаешь дальше делать? Все сейфы ломать? Так ведь рано или поздно зашухаришься и снова сядешь. Дадут тебе десять, в лучшем случае выйдешь через восемь, а там опять сядешь! И уж четвертного не миновать! Неужели, Гера, не жалко тебе так жизнь профукивать? Это же как белка в колесе – бег без цели!
В эти минуты Егор так горячился, как будто они обсуждали его собственную судьбу.
– Но я другой жизни для себя, кроме воровской, не представляю, – степенно говорил Медведь. – А для вора жизнь что на воле, что на зоне – все едино. Да, на Соловках тяжко было, но ведь не подох, выжил. А вот есть такой молодой вор – татарин Мулла. Так он с пятнадцати лет по зонам живет. Выйдет на полгодика – и обратно в дом родной. Хоть и татарин, а среди урок в большом авторитете, как сейчас принято говорить. Он на зоне и прокурор, и судья, и адвокат. Он наведет порядок на любой зоне лучше, чем рота красноармейцев с «максимами».
– Так ведь было бы больше пользы для вас, воров, – возражал Егор, – если бы такой авторитетный, как ты говоришь, вор не за колючей проволокой в тьмутаракани сидел, а на воле был, ездил бы по стране да наводил этот самый порядок. Или взять тебя – я же помню, каким ты на Соловках был… Тоже все порядок старался установить. За это тебя, мальчишку двадцатидвухлетнего, даже старые урки уважали! Так если ты сам такой правильный вор, дай пример другим. Я тут интереснейшую книжку раздобыл… – Егор в возбуждении встал от стола, подошел к книжному стеллажу, поковырялся там и выудил из-за батареи стареньких потрепанных томов толстенный фолиант в коричневом переплете. – Это по-итальянски. История сицилийской мафии. Есть на юге Италии такая тайная организация. В начале нынешнего века мафия пустила корни и в Америке, ее туда привезли итальянские эмигранты. Вот, скажу тебе, Гера, идеальная модель организации.
– Они тоже воры? – заинтересовался Медведь.
– Не только. Не просто воры. То есть начинали-то все они как простые уличные карманники. Но это долгая история. Как-нибудь при более удобном случае я тебе про сицилийскую мафию много чего расскажу. Но поверь мне: в наших условиях мафия – это оптимальный вариант наведения порядка сначала в воровском мире, а потом, возможно, и в масштабах всей страны.
– А куда же ты денешь молодых красивых пацанов в синих милицейских фуражках? – усмехнулся Медведь.
– За ними дело не станет. В Сицилии местной мафии удалось подмять под себя полицию, городские власти, суды… Все, дорогой мой Гера, можно купить. Неподкупными чиновники бывают только тогда, когда их пытаются купить задешево. Купить можно кого угодно – хоть председателя Совнаркома. Была бы цена настоящая! Вот у нас сейчас что при Ягоде, что при Ежове, что при этом нынешнем товарище Берии людей ломают, надеясь таким образом что-то выжать из общества полезное. А людей не надо ломать, не надо расстреливать, не надо сажать в СЛОН. Их можно тихо купить – и тогда все будут делать то, что от них требуется…
– А несогласных? – серьезно спросил Медведь.
– Несогласных, вернее, отмороженных, конечно, надо устранять. Даже не потому, что они не согласны. А для того, чтобы они не мутили воду, не сбивали с панталыку других, более сговорчивых.
– Что ж, тактика неплохая, – поразмыслив, согласился Медведь. – Но ведь на это уйдут годы.
– Рим не сразу построили, – улыбнулся Нестеренко. – История сицилийской мафии насчитывает пять веков. Но… – поспешно добавил он, заметив, как Медведь закатил глаза. – В Североамериканских Соединенных Штатах итальянцы сколотили эффективную мафию за двадцать лег. И кстати, опробовать эту тактику в России следует прежде всего на вас, на ворах. Вы более или менее объединены – воровским законом, воровской идеей, назови это как хочешь. У вас есть признанные авторитетные лидеры – тот же Мулла, о котором ты мне тут говорил. И ты, я знаю, тоже в авторитете. Так начинайте действовать! Под лозунгом «Воры всего Советского Союза, объединяйтесь!» – Нестеренко засмеялся, но продолжал уже на полном серьезе: – У вас есть жесткий тюремный и лагерный закон, но нужно, чтобы эти законы работали и на свободе. Но этим законам не хватает гибкости… Вот смотри… Вору нельзя жениться! Глупость полная! Вор что же, католический священник или черный монах? Нельзя иметь свой дом, свое имущество – тоже полная чушь, какая-то коммунистическая утопия. Человек по своей биологической психологии не отличается от любого животного – ведь даже мышка роет себе норку, даже ворона строит себе гнездо. Нельзя ломать заложенного природой!
Потом они еще много раз говорили на эту тему. Но Медведь мотал на ус доводы Нестеренко, а сам делал по-своему. Хотя, надо сказать, мало-помалу убеждался в правоте этого ученого умника, мечтавшего сколотить русскую мафию…
Нинель приехала проведать Медведя, как и обещала, на майские. Была она свеженькая и аппетитная, как обычно, вот только глаза ее смотрели как-то тревожно и все бегали по сторонам. Георгий насторожился, хотя не мог понять произошедшей в ней перемены. Нинель переночевала, подарив ему, как всегда, долгие минуты сладостного наслаждения, разбудив своими страстными стонами и криками половину дома, и наутро торопливо укатила в Москву, сославшись на неотложные дела.
А потом он вдруг стал замечать по утрам около дома грузовик с надписью «ХЛЕБ» на серой стенке фургона. Рядом с домом находилась ночная булочная, и появление хлебного фургона под окнами не слишком удивило его сначала. Но сомнение заскреблось в душе опытного чуткого вора.
А в июне объявилась Катерина. В последние два месяца еще до отъезда в Ленинград между ними произошло некоторое охлаждение – то ли вследствие той ссоры под Новый год, из-за которой он загулял с Наиной, то ли оттого, что он так долго был погружен в свои проблемы с Рогожкиным. Словом, за эти несколько месяцев он ей черкнул всего одно письмецо, она сухо ответила. И все. А две недели назад вдруг прислала длинное послание, в котором писала, что мама внезапно скончалась от неизвестной скоротечной болезни, что осталась она в Москве совсем одна, и просила разрешения к нему приехать, добавив, что у нее для него есть важное сообщение.
Он сразу почему-то понял, о чем речь. И, странное дело, не огорчился, не обозлился, а, наоборот, сильно обрадовался такой новости.
На вокзал поехал задолго до прибытия поезда, все ходил по перрону с цветами, нервно курил. А когда увидал Катю с уже довольно заметным животом, бросился к ней, обнял, расцеловал.
– Который уже месяц?
– Пятый на исходе, – со счастливой улыбкой ответила Катя и прижалась к нему прямо при всем честном вокзальном народе. – В декабре, перед Новым годом зачали…
Приезд Кати и ее уже не столь отдаленные роды заставили Медведя крепко задуматься о своем будущем. Он по-прежнему продолжал заниматься своим привычным делом: выезжал «гастролировать» в Красное Село или в Комарове – шерстил местную зажиточную публику из состоятельных дачников из Ленсовета, новый советский директорат. Но делал это как-то без настроения, автоматически. После рождения сына, которого они с Катей назвали Макаром, решил провернуть что-то посерьезнее да понаваристее. Что называется, оторваться в честь новорожденного.
Но тут-то у него и случился облом.
Фаршманулся Медведь на пустяке, когда задумал, после долгой и тщательной подготовки, взять кассу Речфлота накануне выдачи очередной получки, после того как в сейф завезли несколько мешков с наличностью.
Работал в ту ноябрьскую морозную ночь тридцать девятого года он один, не взяв в помощь никого, даже стоять на стреме. И казалось бы, все предусмотрел заранее, а вот такого пустяка, как освещенное окно на третьем этаже в здании «Лентрансинжстроя» напротив, где в конструкторском бюро допоздна работал какой-то недобитый стахановец-чертежник, Медведь предусмотреть не смог. Зоркий инженеришка знал, что, сидя за своей чертежной доской, он взглядом упирается аккурат в окна бухгалтерии управления речного пароходства города, ну и заметил, что там среди ночи происходит что-то подозрительное. И сразу позвонил куда следует.
Взяли ничего не подозревавшего Медведя на выходе из здания – прямо у канализационного люка, которым он по привычке воспользовался для проникновения в подвал. Повезли в «следственную» на Гороховой, что рядом с управлением НКВД. Всю ночь его допрашивали, а под утро оформили. В камеру он вошел и, как полагается, со всеми с порога поздоровался, представился Володей Постновым. Ему не было смысла ломать из себя опытного урку, тем более он уже знал, что эта камера «крашеная» и в ней в основном сидели записные энкавэдэшные стукачи, и ему не имело смысла представляться своим настоящим именем.
– Слыхали, ты наш торговый флот кинул на десять тыщ, – не то спросил, не то сообщил кто-то из сокамерников. – Иль брешут все?
– Собаки брешут, птички На хвосте носят, а истина ровно посередине. Да только кто знает, где она, эта середина? – отшутился хмуро Медведь, складывая вещи на свободную шконку. – Были деньги под рукой… да только звон от них и остался. Все в Азовском банке заложено…
Ему сразу не понравился смахивающий на прижимистого кулачка крепкий мужик, засевший в этой камере паханом, но он решил занять выжидательную позицию в надежде получить позднее более полную информацию о своей камере.
– А ты, видать, из прикинутых… Полтавой нас кормишь, – наседал мужичок. – Чего стрематься-то, ясное дело, что покатишь от «семь восьмых». Червонцем пахнет, не меньше.
Смолчать – значит накликать беду, решил Медведь. А лишний хипиш ему был не нужен, особенно сейчас.
– Почему же червонец? – просто, но со знанием дела ответил Медведь. – Мне если и дадут десяточку, то пятак сразу и сбросят. Денежки-то все в целости и сохранности, а подельников у меня не было. Самое большее, моя фаршма лет на пяток и тянет, а то и три протрем… – Он сплюнул. – Тьфу, чтоб не сглазить!
– Да ты, видать, из блатняка, коли заливаешь о своем деле со знанием! – продолжал наезжать любознательный мужик.
– Из блатняка, не из блатняка, это прокурор скажет, – закруглил разговор с мужиком Медведь. – Да только я мир повидать успел.
– И сколько же у тебя, блатной, ходок? – все донимал расспросами пахан, видно, ему очень хотелось сразу же выяснить, с кем он имеет дело: с опытным медвежатником или с приблатненным фраерком, сдуру решившим взять серьезную кассу.
– Сколько было, все мои, – ответил Медведь и, сбросив на нары тюремную тужурку, просто выдохнул: – На, читай!
На груди у него еще со времен Соловков была набита Богородица с младенцем среди облаков, а из-за спины ее выглядывали лучи огромного православного креста с парящими над ним ангелами; на правом плече вышагивал большой лиловый медведь со связкой ключей в зубах, а под ключицей лучилась восьмиконечная воровская звезда.
Кто-то от удивления присвистнул, кто-то взялся считать «луковки» на спине, а кто-то вперился в связку ключей и со знанием дела и удивленно заметил:
– Во те на! Братва, так это ж медвежатник! Одних ключей не меньше двух десятков!
Конечно, Медведь наколками не хотел бравировать, но, подумав, решил все же своих регалий не скрывать: все равно ведь узнают; сидеть ему тут предстоит долго, заголяться пред любопытными зенками все равно придется.
Мужик, затеявший Медведю допрос, сразу как-то сник и замолк. А через пару дней на прогулке Георгий поговорил с ним, как говорят, «по душам, без дураков». И предложил тому оставаться паханом, но с условием: чтобы тот помог ему перебраться в другую хату.
– Я знаю, что ваша камера «крашеная», – сразу ляпнул Медведь, огорошив мужика. – Поэтому, если кто под меня будет здесь рыть… скажу прямо, без угроз, отвечать придется и тебе лично. Поэтому давай так: ты мне – я тебе… и разбежались. Ну, как расклад? Устраивает?
…На вскорости состоявшемся суде Медведь шел по своему нынешнему паспорту – как Владимир Георгиевич Постнов. Во всяком случае, опера, проводившие с ним допросы, почему-то не настаивали, чтобы он сообщил свое подлинное «фио». Может, в Ленинграде про московского медвежатника по кличке Медведь мало что слышали, а может, не признали во Владимире Постнове Георгия Медведева. А может, и не хотели по каким причинам признавать.
В зале суда среди многочисленных присутствующих сидела незаметно Катерина, с бледным, осунувшимся от долгих бессонных ночей, заплаканным лицом.
После объявления приговора – десять лет лагерей строгого режима – Медведь в последний раз бросил в ее сторону прощальный взгляд, прикрыл на секунду глаза, будто запечатлевая ее черты в своей памяти. С трудом он, уже через неделю после суда, накануне отправки по этапу, сумел сбросить Кате маляву, в которой просил у нее прощения, просил ждать его и растить Макарку. В конце приписал адрес Нестеренко и наказал обратиться к нему за помощью, назвавшись его, Геры Медведева, женой. И еще три словечка важных добавил: «Поищи под половиком». Там, в общей прихожей, под стоптанным старым ковриком одна половица была отодрана и под ней вырыта им собственноручно изрядная дыра, в которой он хранил свой неприкосновенный запас – царские золотые десятирублевые монеты да два бриллиантовых кольца, добытых еще в Москве в двадцать седьмом году, во время одной особо удачной ходки вместе со Славиком. Если с умом эти цацки толкнуть, можно было на вырученные деньги прожить целый год, а там уж и он сумеет ей что-то с зоны передать…
Перед тем как его вывели под конвоем из зала судебных заседаний, Медведь глянул на людей, и ему почудилось, что в толпе мелькнуло знакомое лицо мужика в энкавэдэшной форме. Волосы светлые, гладко зачесанные назад, глазки маленькие, черненькие… У него аж сердце захолонуло – никак Женька Калистратов! Но мозг упрямо отказывался верить в это. Наверное, почудилось, подумал Медведь и снова вонзил взгляд в толпу, чтобы получше рассмотреть светловолосого. Да два дюжих охранника уже тыкали кулаками в спину, подталкивая осужденного к двери.
Медведя отправили по этапу в старые знакомые места в Кемперраспредпункт, что под Кемью, где он уже в январе тридцатого ошивался. А там вписали «по рябой» в полосатые, и пошел он в особняк.
Во время войны пришлось Медведю не сладко, хоть и ходил он в авторитетах, потому что, оказавшись в лагере, уже не стал таиться и раскрылся перед урками, кто он есть на самом деле. Весть о том, что в Кемь доставлен знаменитый московский медвежатник, тут же облетела зону и по воровскому телеграфу была разнесена во все концы бескрайнего лагерного архипелага. На работы Медведь не выходил, поэтому его частенько крутили через матрас, регулярно через неделю сажая в ШИЗО, но он не сдавался, стойко держал воровскую масть. В конец лета сорок первого несколько раз по лагерю прокатывалось известие, что всех блатных скоро заберут в штрафной батальон и перебросят на передовую. Но всякий раз выходило так, что с переброской запаздывали, а в это время наши оставляли то Харьков, то Смоленск, то Псков. А потом его с самыми упрямыми отрицалами отправили на Северный Урал, на страшную зону, где лютовал начальничек Тимофей Беспалый, сам из бывших урок, зверь в человечьем облике, мечтавший перековать воров своими собственными изуверскими методами. Одна радость для Медведя была там – он встретился наконец лично и сильно закорешился со знаменитым Муллой, который тянул на зоне у Беспалого двадцатипятилетний срок.
Но лагерные испытания, о которых Медведь впоследствии не любил вспоминать, только закаляли его душу. Единственно, о чем он тогда жалел, так это о том, что совсем потерял связь с внешним миром, с милой его женой Катериной, с другом своим Егором Нестеренко, а больше всего печалился о невозможности увидеть сына Макарку, потрогать его атласные ручонки, услышать его цыплячье гульканье. На зоне известно стало зэкам что-то о блокаде Ленинграда, и о Дороге жизни, проложенной по замерзшему Ладожскому озеру, и о том, что на пустых улицах оголодавшие собирают трупы, а дома едят человечину… Но все это были какие-то невнятные слухи, пересказы с чужих слов, потому как во время войны отказывала даже надежная воровская почта.
Нет ничего хуже неведения, оно изнуряет и изматывает душу, с годами съедая память, высасывая, выгладывая досуха воспоминания даже о самых светлых днях жизни, оставляя немую пустоту тупого равнодушия. Жизнь тает во мраке беспамятства, и кажется, что все это было так давно – так давно, что и не стоит об этом помнить.
Часть II
Глава 14
28 сентября
10:10
Варяг прикрыл усталые глаза, помассировал веки кончиками пальцев и посмотрел на старенький будильник «Слава» на колченогой тумбочке около кушетки: десять минут одиннадцатого. Как же медленно тянется время! И тут противно заголосил квартирный телефон. Владислав спокойно дождался, когда после второго звонка аппарат умолк, и потом после нового сигнала снял трубку.
В трубке послышался долгожданный голос Сержанта. Не дожидаясь доклада, Варяг встретил Юрьева вопросом:
– Степа, ты в Кусково направил людей?
– Обижаешь, начальник! – с притворной досадой отрезал Сержант. – Ребята Чижевского там порядок навели по полной…
– Они обыскали убитых? – нетерпеливо спросил Владислав.
– Опять обижаешь. Первое, что сделали, обшмонали их с ног до головы. Но на тех двух пацанах документов при себе никаких не обнаружено.
– Что с Семеном Павловичем?
– Да Семеном Палычем уже люди Закира занимаются… – Степан сделал многозначительное ударение на слове «занимаются», давая понять Варягу, что Закир Большой выполнил просьбу смотрящего и все хлопоты с похоронами дяди Семы взял на себя.
– Хорошо, Степа, давай ближе к делу… Что с третьим? Как идут поиски?
– Мне удалось кое-что узнать, – устало докладывал Степан. – Хорошо, зрение вчера не подвело. Я ведь номер той «газелыси» запомнил. В общем, сегодня удалось установить владельца… Не знаю, который из трех: тот ли, что сбежал, или один из этих двух, которых я там завалил.
– Неужели фургон приписан к автобазе какой-то телефонной компании? – Варяг вспомнил вчерашний короткий рассказ Сержанта: он говорил, что на борту у «Газели» была надпись «Московская телефонная сеть» или что-то в таком духе.
– Хрен-то! Это все липа, Влад! Списанная «Газель», которая якобы работала на одну из коммерческих телефонных компаний, в настоящее время находится в частном владении гражданина Сухарева Александра Дмитриевича. Навел я справки про этого Сухарева – за что отдельное спасибо бойцам Чижевского. Так вот, Сухарев – бывший боец внутренних войск. Сейчас частный предприниматель, на своей «газельке» занимается грузоперевозками… Установили его домашний адрес. Прописан по улице Шаболовка, дом номер… ну и так далее… все известно. Представляешь? Был я там, порасспрашивал соседей под видом следователя по особо важным… Народ наш очень разговорчивым становится при виде красненькой книжечки… Так вот, по словам его соседки снизу, вчера ночевать гражданин Сухарев не приходил. И «газельку» его, которая, по ее же словам, часто стоит во дворе около дома, тоже ни вчера, ни сегодня утром никто не видел. Правда, пока не ясно, то ли этот Сухарев – один из тех двоих, кого я вчера в коридорчике там завалил, и тогда нет ничего удивительного, что он не ночевал дома, то ли это тот самый долговязый, которого я ранил в руку и который чемодан бросил. Судя по описаниям соседки, вроде он, долговязый. А коли так – то он-то уж точно жив. А коли жив, значит, будем искать… Это пока все.
– Ладно, Степан, молодец, действуй. Теперь только на тебя одна надежда!
– Теперь одна надежда на то, что в Кускове действовали московские домушники, а не какие-нибудь гастролеры из солнечного Магадана! – буркнул Сержант. – Если, не дай бог, гастролеры, хрен мы их возьмем!
Положив трубку, Варяг усмехнулся. Гастролеры… Степан будто ему через плечо заглядывал в рукопись дяди Семы.
Слов «завязал» или «отошел от дел» у настоящего вора не существует. Но Георгий Медведев и не собирался ни с чем завязывать – не в его правилах было ставить осла в стойло. Не помышлял он об этом, когда в августе пятьдесят третьего откинулся с зоны, просидев по разным лагерям ровно тринадцать лет, потому как к той десяточке, что дали ему в Ленинграде за кассу Речфлота, в колонии накинули еще пятерик да по амнистии Лаврентия Палыча Берии скостили два годика – вот и получилась чертова дюжина.
Весной пятьдесят третьего, уже когда вышел указ об амнистии, Медведя перевели в Тобольский централ – настоящую кузницу воровской элиты. В своей последней ходке Медведь повстречался со многими знакомцами, кого знал и на воле, и по лагерям. Вообще, в год амнистии в Тобольском централе урожай на законников был богатый. Можно сказать, собрался воровской высший свет. Здесь обретались Кирза из Новосибирска и Гром из Кемерово, Саша Уральский. Были люди со Ставрополья и Кубани, из Грузии и Армении. Но особенно запало ему в душу знакомство с сибирскими ворами. Задушевные разговоры с ними снова навели его на мысль о пользе крепкой сплоченной организации по типу той, о которой толковал Егор Нестеренко, – о крепкой «всесоюзной воровской артели», чтобы можно было держать в узде отпетых и внести порядок в нестройные уркаганские ряды. Не раз сталкиваясь на зоне с коварством и подлостью осоветившихся, или, как принято было говорить, ссучившихся, воров, Медведь внутренне принимал правоту Егора, в нем крепло убеждение, что пришло время серьезного разговора, пришла пора провести в среде российских воров серьезный шмон, большую чистку: кого на место поставить, кому указать на несоответствие, кого наказать по заслугам, а кого-то поддержать и оценить по достоинству. Смутно, в наметках, эта мысль у Медведя появилась еще до войны, продолжая все эти тринадцать лет заключения точить его душу. А перед скорым выходом на волю вновь всколыхнулись воспоминания о Егоре, об их долгих беседах в тихой ленинградской квартире да во время долгих прогулок по вечернему городу.
Администрация Тобольского централа, наслышанная о похождениях и подвигах Медведя, долго присматриваться к нему не стала: буквально через два дня после его прибытия загремел новоприбывший вор в карцер на десять суток за неподчинение начальнику отряда (а вернее, за непокорный взгляд, косо брошенный в его сторону). Подобная процедура здесь была не внове, а повод для наказания мог быть легко высосан из пальца. Но на этот раз дежурный по карцеру, имея негласное разрешение начальства, намеренно и весьма существенно превысил штрафную дозу: здоровенный мордатый вертухай, которому до коликов в животе не понравился новый вор, решил проучить этого степенного, уверенного в себе, гордого зэка, ведущего себя так, будто он здесь главный, а охрана не более чем его прислуга.
По истечении десяти суток Медведь потребовал воли, но на его сдержанное: «А ну, начальник, открывай калитку, пора сматывать удочки!» – вертухай ничего не ответил, а лишь ухмыльнулся и продержал вора в голоде и холоде на одном хлебе и воде, в нечеловеческих условиях еще неделю.
Когда Медведя стали выводить из карцера, он не скрывал своего возмущения произволом, а потому тут же был определен на новые, еще более суровые испытания карцером. И так в общей сложности продолжалось несколько раз, пока непрерывный карцерный срок Медведя не перевалил за сто двадцать дней – абсолютный рекорд, о котором долго помнили потом заключенные централа, удивляясь, как этот невзрачный с виду, сухощавый, неброский, тщедушный человек мог выдержать все муки, лишения, пытки, издевательства, сохранив себя, свой человеческий облик, достоинство.
Тобольский централ, имевший на своем веку огромный опыт содержания заключенных, славившийся особенно жестоким режимом содержания, умевший сломить волю любого непокорного, на сей раз не смог противопоставить ничего упорству одного человека. Медведь вернулся в общую камеру. Его авторитет в глазах зэков вырос невероятно, а администрация централа, находясь в крайнем раздражении, стала изощренно свирепствовать: запрещался громкий разговор, лежать разрешалось только после отбоя, ночью и по несколько раз в день вертухаи врывались в камеры и учиняли тотальный шмон. Охранники постоянно менялись в коридорах и на этажах, затрудняя таким образом любые контакты с блатарями. Борьба велась и с воровской почтой – единственным каналом связи между заключенными. В карцер стали бросать за самые ничтожные провинности: за накорябанную ногтем надпись на кирпичной стене, за выкрик в окно или шепоток во время прогулки.
Однако такие в общем-то ничтожные невзгоды тюрзака Медведя не задевали. Наоборот, он стал замечать, что они лишь сплачивают зэков между собой. Так, у Медведя в этих условиях появились новые верные товарищи, настоящие крепкие воры, на которых он всегда мог положиться. Конечно, если бы тогда он не встретил столько надежных людей среди законников-сибиряков, он бы, конечно, все равно пошел бы своим путем, которым вела его воровская судьба, да только был бы этот путь куда извилистее и длиннее.
Сблизился он за эти годы и с московскими ворами, среди которых были такие серьезные люди, как Захар, не устававший восхвалять свою родную Марьину Рощу – колыбель чести, мужества и справедливости, Михалыч с Арбата, не раз выручавший Медведя в дальнейшем. А еще Тимофей Веревка, Башмак, Бабай, Горбатый – всех и не перечислишь…
Хотя по выходе определили освободившемуся гражданину Медведеву города проживания за восточным склоном Урала, настрого запретив появляться в сорока городах европейской части Союза, он, понятное дело, запретом тут же пренебрег. Пересидев пару месяцев в крохотном поселке Малоуралец, втихаря отправился окольным путем в северную столицу, где его с радостью приняли и дали кров верные люди. А еще через несколько дней он с корабля на бал, как говорится, попал на большой воровской сходняк, на котором должны были решаться важные вопросы, накопившиеся у ленинградских воров.
Уважаемые люди собрались в полуразрушенном здании разбомбленной во время блокады и до сих пор не восстановленной аптеки, оставив шестерок и подручных на шухере снаружи. В центре комнатушки из ящиков был наспех сооружен импровизированный стол. – Сидели вокруг кто на чем: кому достался колченогий стул, кому табуреты, принесенные из разоренных квартир, кто примостился на ящике из-под водки, а кто просто так присел на корточках. Как обычно, разговор о наболевшем не начинали, прежде чем предварительно не выпили для бодрости по одной-две рюмке и хорошо не закусили. За столом сидели питерские и ленинградские воры в законе. Именно так: питерские и ленинградские, потому как питерскими считались те, кто успел летом сорок первого смотаться вовремя из города, а те, кто здесь провел, голодая, всю блокаду – а их осталось достаточно мало, – считались ленинградскими. Они сидели отдельно.
– Вот что, люди, мы попросили вас здесь собраться, чтобы дельно потолковать о том, как жить теперь, при новой жизни, – взял при общем молчании слово один из ленинградских воров. – Есть и еще вопрос, довольно щекотливый… – начал говоривший и остановился, подбирая правильные слова, ибо в воровской среде необдуманно сказанное слово могло обернуться для говоруна серьезными неприятностями, а порой и пером под сердце.
– А ты вываливай! – бросил кто-то, видя, что вор слегка замялся. – Мы, чай, не девочки, от щекотки не заверещим!
Воры заулыбались. Послышались подбадривающие голоса.
– Давай! Вали! Выкладывай!
– Тут такое дело, люди, все мы здесь в основном питерские. Многие здесь родились и выросли… – Вор опять остановился.
– Да ты резину не тяни, не на партийном собрании, чай, – помог своему один из ленинградцев.
– Хорошо! В общем, братва, надо что-то делать с ширмачами да форточниками, из молодых да ранних, кто хапает последнее у переживших блокаду и лагеря людей. Я знаю тройку таких шакалов, которые еще во время блокады крали у стариков продкарточки, да и теперь шакалят, не имея ни чести, ни совести, отнимают порой даже последнюю, как говорится, рубаху. С такими крысами нужно разбираться.
Воры сидели понурив головы. Нет, не из-за того, что они сами были к этому причастны, а из-за того, что многие знали тех, о ком сейчас им толкует этот старый блокадник, но закрывали глаза на их подлые дела.