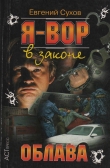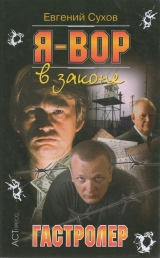
Текст книги "Гастролер"
Автор книги: Евгений Сухов
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)
Глава 4
…В первый раз взяли меня в канун двенадцатой годовщины Октябрьской революции. Погорел я, как и многие московские воры в самом конце нэпа, на массовой облаве. Мусора устроили по Москве большой шмон, брали окраинные малины шумно, с перестрелкой, под визг марух и пьяные крики жиганов. На одной из таких поднятых малин в Сокольниках я заливал водочкой горе – поминая безвременно ушедшего моего учителя, ставшего мне и отцом родным, и подельником, и лучшим другом. Да, схоронил я три дня назад Славика Самуйлова…
В ту ночь я так и не понял, кто его выследил и пристрелил, а сам я, уж не знаю почему, по непонятной для меня причине остался целехонек. Только потом скумекал, что энкавэдэшные были стрелки…
За годы нэпа мы со Славиком немало поездили по Советской России, все больше по Поволжью и югам – от Углича и Рыбинска, знакомых мне сызмальства как пять пальцев, до Астрахани и Новочеркасска. Славик всегда меня брал на «гастроли» – поначалу я или просто на стреме стоял, или выполнял малую подготовительную работенку: в форточки лазал, открывая для него дверь или окно, куда он впрыгивал со всем своим инструментом – тяжеленным саквояжем с фомками, заточками да набором отмычек – и за час-полтора «разбивал» загодя намеченный сейф…
Деньжата, которые мы с ним таким вот образом добывали, тратили на жратву да на одежду. Славик любил вкусно поесть, сладко попить, одевался со вкусом и меня к сытой щегольской жизни приучал. А я и радовался – обрыдло мне мое сиротское голодное и чумазое детство, вот я, спасибо Славику, и с охотой восполнял недополученное. Он научил меня многому из того, что я потом воспринимал как данное мне от природы: если спать – то на чистой простынке, если есть и пить – то не на вчерашней газете, а за покрытым крахмальной скатертью столом, и если насморк, то сморкаться не в кулак, а в душистый носовой платок. Потом мне вся эта самуйловская наука сильно помогла в жизни, не позволила в лагерях да зонах оскотиниться, и благодаря этой его науке я сумел держать свое человеческое достоинство, а значит – и воровскую масть…
Отъездив со Славиком пару лет подмастерьем, я потом и сам втянулся в дело. Он сначала как бы сквозь зубы, а потом все охотнее мне это позволял – если, понятное дело, сейфик оказывался не больно заковыристый. Так я довольно скоро набил руку и впрямь стал заправским медвежатником – чуть не на зависть самому Самуйлову. Дошло до того, что где-то к двадцать седьмому году, когда здоровье Славика пошатнулось – ибо годков-то ему в ту пору было уже под шестьдесят, и его шебутная разгульная жизнь аукнулась вдруг ворохом нутряных хворей, – он разрешал мне гастролировать самостоятельно, без его сопровождения, хотя верный адресок я всегда получал по его наколке…
А в тот ноябрьский вечер двадцать девятого года мы по заведенной Славиком привычке вывалились из нашей хаты на Стромынке и рванули в центр пройтись по Страстному бульвару в сторону Никитской, а на обратном пути решили заскочить в ресторан-бильярдную «Англетер» возле сада «Эрмитаж». В этой бильярдной собиралась довольно разношерстная приблатненная компания, но Славик всегда имел там свой маленький отдельный кабинетик возле окна, занавешенный тяжелым кретоновым занавесом. В этом «номере» мы частенько с ним ужинали.
Славик, хоть и вор по жизни – или, как потом стали говорить, «в законе», – был образованный и интеллигентный, просто джентльмен, и, даже старея, он любил элегантно и красиво одеться, чтобы прогуляться по оживленным местам города, а потом плотно отобедать. Он умел заказать так, что официанты, которых он по старинке называл «половыми», подобострастно выслушивали его замысловатый заказ и спешили исполнить все очень быстро и аккуратно, млея от его щедрости. Славик знал толк в дорогих европейских винах, хотя предпочитал все же русскую водку – «хлебное вино», не признавая никаких других крепких напитков, – но водочки пил мало: одну рюмку ледяной под салатик оливье; затем еще одну под зернистую икорочку с расстегайчиками – для вкуса перед основными блюдами; и последнюю, как он выражался, «дижестивную», которую любил закусить соленым грибком. Особенно я любил бывать с ним тут после удачной «гастроли», когда Славик, празднуя успех, готов был спустить чуть не половину добычи: в эти вечера на стол нам всякий раз подавались обильные холодные закуски: то копченая осетрина с хреном, то розовая семга с кружками лимона, то буженина тонко нарезанными, бумажной толщины, ломтиками, янтарный, с отливом, осетровый балычок, после чего суп раковый или селянка рыбная, а в финале – жареный молочный поросенок с хрустящей корочкой…
Но с недавних пор мы вместе приходили сюда не только вкусно отужинать. Именно в этом укромном кабинетике «Англетера» Славик обучал меня многим воровским и житейским премудростям, от игры в шмендефер до умения наблюдать за окружающими людьми, да всего и не перечесть…
– Вот смотри на эту пару, видишь, у тротуара? – кивал мне Славик, глядя в окно. – Смотри внимательней – что о них скажешь?
– Ну, дама: статная, упитанная, лет эдак сорока с хвостиком, юбка из темно-синего атласа, вязаный жакет с меховой опушкой, вернее всего – крашеная кошка, а выглядит точно норка, бархатная шляпка с коротким павлиньим пером, браслетик на правой руке золотой… Вот браслетик явно с ней не вяжется, если это и впрямь золото, а не латунь самоварная… Теперь хахаль ейный: полтинник, хоть и молодящийся, в недешевом габардиновом пальто, возможно, днем ходит с тростью для форсу – вон как пустой правой рукой вытанцовывает… Похоже, пара оперившихся мелких совслужащих.
– Что ж, все хорошо тобой подмечено, – хвалил меня Славик. – Но ты, брат, лишь слегка коснулся истинной подоплеки их скромного, но все еще элегантного вида. А надо угадать всю их суть внутреннюю по их внешнему виду – как содержание души, так и, естественно, содержание их карманов. И поэтому, я думаю, эта парочка – не бухгалтера из Наркомата тяжмаша и не мелкие кооператоры, а как раз наш с тобой, Гриня, контингент – из бывших, оставшихся на плаву и затаившихся. И как бы ни хотелось им выглядеть сейчас поскромнее да незаметнее в толпе прогуливающихся москвичей, никакая дама из бывших не избежит искушения щегольнуть фамильными украшениями – так что браслетик-то, я думаю, все же старинный и настоящий, от бабушки Каролины Леопольдовны ей доставшийся…
Так же, гуляя по Москве, мы развлекались той же забавой. А порой эти развлечения приводили нас к зажиточному дому. И спустя какое-то время мы брали заваленные различным барахлом хаты кооператоров и совфункционеров. В двадцатых годах не было ни одного человека, который бы верил в то, что придуманный хитрыми большевиками нэп – всерьез и надолго, как клялся их лысый вождь. Был тогда такой Всероссийский совет народного хозяйства – ВСНХ сокращенно. Так ушлый наш российский народ придумал свою расшифровку этому сокращению: «Воруй смелее – нет хозяев!» И воровали… Многие воровали. Не только мы, воры, но и совслужащие, стараясь надуть начальство, друг дружку и пролетарское государство. Хотя понимали, что время всеобщего хапания и обмана не может длиться долго. Но об этом после…
Итак, благодаря нашему общему ремеслу, мы со Славиком всегда жили на широкую ногу, в деньгах никогда нужды не испытывали и часто после ужина в каком-нибудь роскошном коммерческом ресторане гуляли по ночной Москве, лениво и сыто рассуждая о жизни. Самуйлов любил в такие часы слегка пофилософствовать, наставить меня, хоть и опытного уже, но еще желторотого, напарника, на путь истинный.
Однажды вот так мы шли по ночному Каретному – стареющий философ и его молодой ученик, трепетно внимающий речам своего ментора, – и Славик Смуров сказал мне:
– Пора тебе, Гришка, самому браться за серьезное дело! И щипач из тебя неплохой, и ширмач ты ловкий, и форточник лихой, но, скажем честно, на фартового ты не тянешь – в толпе тебя всегда эмоции выдают. Но зато у тебя, Гришка, есть замечательное качество – острый слух, зоркое зрение, мгновенная реакция, и, главное, ловок ты, как цирковой гимнаст, ей-бо! Это великий дар! Скажу тебе честно, стать уличным вором может каждый! А вот сейфовый замок ломануть – это не всякому дано.
Такие всегда и везде в почете – и на малине, и на нарах. Медвежатник всегда вызывает уважение. Тебе, Гришка, на роду написано стать знатным «медвежатником». Да и фамилия велит. Мед-ве-дев! Только не иди в шнифера, а то талант свой загубишь! – Славик как-то печально усмехнулся про себя, а потом с грустцой бросил: – Чую, пришло мне время, Гришка, завязывать. Пора на покой уходить…
Мы прошли Каретный Ряд, спустились по Петровскому бульвару, и тут почти у самого перекрестка на Неглинной из темной подворотни навстречу нам вышмыгнули двое. Было там темно, и одинокий фонарь на перекрестке светил тускло. Лиц их я не разглядел.
Оба подвалили с двух сторон, и один с хрипотцой в голосе проскрежетал:
– Если не ошибаюсь, Ростислав Самуйлов?
Я почуял, как дернулся Славик.
– Он самый. Чего изволите? – Голос у него был спокойный, размеренный, но сам весь напрягся. Похоже, он сразу понял, в чем дело.
Спросивший молча вынул руку из кармана, поднял быстро – в руке блеснул наган – и трижды выстрелил Славику в грудь.
– Тебя же предупреждали, гнида воровская, чтоб ты не зарился на чужое! – злобно прохрипел он. Второй, тот, что с ним был, даже не шевельнулся. Убийца молча развернулся, и оба порысили в сторону Трубной. А на меня даже не взглянули.
Я присел на корточки, приподнял истекающего кровью Ростислава, а тот слабо улыбнулся и, будто извиняясь, прошептал:
– Вот ведь как бывает… – И уже еле слышно: – Может, оно и к лучшему… Старческих болезней избегу…
– Что с тобой, Славик? – вскрикнул я, разволновавшись. – Что он тебе сказал? Кто это такие?
Он захрипел, и горлом у него хлынула кровь.
– Это все грехи мои тяжкие… – прошелестел смертельно раненный вор. – После сам узнаешь, если Бог даст… Запомни, Гриша, не повторяй моей ошибки, с энкавэдэ не вздумай хороводиться… Этих не перешуткуешь… Я же тебе не раз повторял, помнишь: из куска говна конфетку не вылепишь!
И с этими словами Славик затих навсегда.
А после, уже спустя многие годы после выхода на волю, н докумекал, что же такое стряслось с Ростиславом Самуйювым, потому что и сам угодил в липкую паутину НКВД и с трудом из нее выбрался – к счастью, живым…
Но это было потом. А пока, значит, сижу я у себя на хате на Стромынке, пью горькую… Вдруг стук в дверь, потом сразу без предупреждения ввалились в коридор человек мять в сапогах да в форме, с винтарями да наганами наперевес – и прямехонько в мою каморку. Я и глазом не успел моргнуть, даже не успел спросить у молодцов, за что да по какому такому праву, – заломили руки за спину и повели. Затолкали меня в какой-то фургон типа хлебного, без окошек, на конной тяге. Я спьяну споткнулся, упал на какую-то вонючую мягкую кучу, которая издала злобный визг – то ли женский, то ли звериный, и фургон покатился, подпрыгивая на дорожных колдобинах.
А через час я уже сидел в камере предварительного заключения в компании галдящих гопников.
Глава 5
Тюрьмы пухли от прирастающего населения тесных камер. Бутырка и Лефортово были забиты под завязку. Чекисты и мусора широкой сетью залавливали «нэпманов» – кооператоров и единоличников, перекупщиков и лавочников, а также воров всех мастей, как будто торопились перевыполнить план к новому, 1930, году. Меня, как и многих других московских воров, повязанных в ходе суровой ноябрьской облавы, отправили в Пресненскую пересыльную тюрьму, перестроенную из старых Казарм инженерного полка.
Это была моя первая ходка за время почти что десятилетней воровской карьеры. За десять лет ни разу не попасться в руки угро – это, надо сказать, случай редкий и почти невероятный, чему многие мои тюремные и лагерные кореша отказывались верить…
Здесь, на пересылке, у меня обнаружилось немало знакомых. Хотя Пресненская и была плотно забита, и в камеру насовали уже сорок пять человек, для меня сразу же нашлось удобное место на нарах в дальнем конце камеры-казармы, где обитали урки.
Только лязгнул засов и скрежетнул ключ в замке, как из многоголосицы камеры раздалось:
– Опа! Еще одни шерстяные подштанники идут…
Но тот, кто это выкрикнул, ошибся. В камеру я вошел первым. Еще полупьяненький, взятый из-за стола тепленьким, но четко понимающий, куда я попал. За мной следом ввалились в камеру несколько мелких воров и жиганов. Встав у порога и оглядевшись, я повернулся к ворам и чинно со всеми поздоровался.
– Будьте здравы, люди. Примите земной поклон с воли, – сказал я, – приютите гостей не званых, но добрых…
– Оба-на! – услышал я вдруг знакомый голос. – Какие люди на верблюде! Так это ж Гришка Медведев! Привет, Медведь! Вали сюда! Мужики, это наш шниферок! Славика подельник! К тому же я Гриню еще с Волги знаю! Здорово, Гришуня!
Это орал с дальних нар бывший самарский беспризорник, а теперь знатный московский щипач Гешка Жмур, одновременно сгоняя с соседних нар какое-то мелкое «дупло», что ходило у него в шестерках. Никак нельзя было представить, что этот растолстевший и грузный битюг двадцати с небольшим лет был знаменитым на всю Москву карманником, да не простым, а экстра-класса, марвихером. Но именно его обманчивая внешность вкупе с артистичностью давала ему возможность разводить разгульных нэпманов и выглядеть этаким невинным увальнем-простачком перед мусорьем. Начинал он в годы военного коммунизма «прополи» вместе с рыночными трясунами, которые, ввинтившись в толпу у лотков, резкими и точными ударами выбивали бумажники из карманов зазевавшихся лохов и незаметно ему сбрасывали. Взяли его весной двадцать первого на кармане, при первой же – неудачной – попытке сработать самолично. Переодетые гэпэушники скрутили его и кинули Жмура по этапу, где прошел он за все начисленные ему три года всю хитрую школу воровского мастерства. Больше Жмур ни разу до конца двадцатых не попадался. Про него ходили слухи, будто он самого товарища Ягоду, нынешнего председателя ОГПУ, «ломанул» в фойе Большого театра, но сам он этот факт отрицал, хотя и был большой любитель потрепать языком да прихвастнуть. Впрочем, что правда, то правда: Жмур был заядлым театралом, не в смысле того, что любил ходить на спектакли, а в смысле работы по театральным фойе. Одевался он всегда хорошо, со вкусом, за что братва полушутя-полууважительно величала его «барчуком», и свистел, будто его мать была швеей вольных нравов и переспала со всеми городскими филерами, а те любили элегантно одеться.
– А ты-то как вмазался, браток? – удивился я, присаживаясь возле старого кореша.
– Да очень просто – как и эти вон гниды! – указал Жмур на молчаливую кучку кооператоров, тихо сидевших на нарах, – гэпэу гребло всех подряд. Прямо из ресторации взяли всех скопом, кто там был, и баб тоже! Представляешь! Я им, гадам, ору: за что, суки? А они мне прикладом в ухо, – продолжал он, показывая свое распухшее ухо с остатками запекшейся крови. – И тут я сразу все усек. Ха! Ну меня-то ладно, а этих толстомясых-то за что? Ужель кончилась эта лафа, обещанная Владимиром свет Ильичем всерьез и надолго? От, бля, как оно у нас на Руси бывает надолго – глазом моргнуть не успеешь, а уж то власть поменялась, то политиццкий курс сменился… Эх, масть шелупеневская? Смех, да и только! Ты знаешь, Гриня, а все ж таки жаль, сколько еще придется ждать, пока эта новая шваль наркомовская себе деньгу поднакопит. Хотя, – заключил он, – видно по всем статьям, срок подождать нам дадут. Эх! Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал!
Жмур веселился, как будто вовсе не в камеру попал, а был тамадой на похоронах у циркового клоуна.
Через час лязгнула амбразура, и коридорный пупкарь, упершись подбородком в крышку, пробасил:
– Принимай, народ, новый товар. Свежачок незалежалый!
Можно было подумать, что он купцует на рынке, а не трудится охранником в тюрьме. Пупкарь со скрипом открыл дверь, и в камеру пугливо втиснулись трое крупных деляг в солидных бобровых и волчьих шубах.
С дальних нар вскочил приблатненный жиган лет двадцати трех – двадцати пяти, со светлыми, гладко зачесанными назад длинными волосами:
– О! Еще «китайцев» привезли! – с придыхом выдавил он, продвигаясь развинченным пританцовывающим походнячком к скучившимся у входа арестантам. – Ну что сощурилась, китайса, а ну скидавай свои малахаи, чай, не у себя дома, а в гостях, – ерничал он и, достав из рукава обломок бритвы, уже грубо предлагал: – Да и шубейки подайте сюда, у нас тут натоплено.
Никто из обитателей камеры не стал вмешиваться в учиненный гопником расклад: видно было, что его очередь приспела крутить свежак. Жиганам было без разницы, где гоп-стопить и обувать советскую лямлю. Они хоть и умели владеть ножичком и бритвой, как королевские мушкетеры шпагой, но были вспыльчивы и азартны, а потому все ими награбленное легко перекочевывало к башковитым и рукастым ворам.
На воле воры считали западло якшаться с жиганами, но в тюрьме их объединяло взаимное презрение к делягам и рвачам из совслужащих и попутчиков, глубоко пропитавшимся тлетворным духом бюрократических нравов.
К тому же приблатненные жиганы в охотку соглашались перекинуться в картишки, и благодаря таким, как они, лихим каталам долгие дни в КПЗ тянулись не так тоскливо.
На второй день моего пребывания в Пресненской пересылке ко мне подвалил тот самый светловолосый жиган.
– Ну что, мелюзга, соорудим банчок? – деловито осведомился он, пятерней взъерошив свою соломенную копну волос и откидывая чуб со лба. – Больно мне твоя жилеточка по нраву пришлась! У меня и колотушки новенькие есть.
Эти колотушки оказались довольно примитивными картами, сляпанными из газетных и книжных листов, – точно такие же, изготовленные на мыле и по вырезным трафаретам, ходили по всей тюрьме. Я, памятуя об уроках карточной игры, взятых мной у покойного Славика, сразу согласился. Играли в стос, начав по маленькой – бросив на ставку по папироске. Стос игра быстрая, и вскоре наглый жиган проигрался подчистую. Спустив все экспроприированное у нэпманов, он не сдавался, в азарте трясясь над каждой картой и требуя продолжать игру «под ответ».
– Давай! Давай еще! Ща отыграюсь! – торопливо, будто опаздывая на поезд, залопотал жиган.
Но законы карточной игры для всех одинаковы. И через час жиган сидел на верхних нарах и кричал: «Ку-ка-ре-ку». И это ему было не западло. Таков закон: умей вовремя остановиться…
Я простил противнику остальное. А тому было не жаль проигрыша, и он вроде как даже обрадовался благородству и великодушию молодого урки, зная, что не каждый жиган пойдет на то, чтобы скостить долг.
– Знатный из тебя игрок, – восторгался жиган с деланым удовольствием. – Подучи меня малость – может, и я не хуже тебя смогу катать. Я наших тут всех обыгрываю. – Он сделал вид, что малость застеснялся, когда протянул пятерню. – Ну, будем знакомы: Калистратов моя фамилия, а звать Евгением. Кликуха у меня Копейка – это оттого, что по малолетке любил в трясучку играть по копеечке. Ну что, берешь меня в подмастерья?
Посмеялся я тогда и пожал плечами: мол, поглядим… Знал бы я, какой чудной фортель выкинет судьба и в какие азартные игры мне придется потом еще играть с Евгением Калистратовым!
* * *
Суда надо мной никакого не было. Тройка лобастых, в новеньких френчах с кубарями в петлицах огэпэушников прошлась по камерам, зачитала по списку напротив фамилий, кому по сколько назначено отсидки, – и весь сказ. Потом гноили осужденных в Пресненской пересылке до весны, а в первых числах марта загрузили всех в столыпинские вагоны и погнали состав на север.
– Куда везут-то? – тревожно спросил какой-то первоходок, едва вагон забили под завязку и замки щелкнули.
– А тебе не все равно? – ответили ему незлобиво из дальнего угла. – Привезут, тогда и узнаешь!
Хотя в приговоре скорого большевистского суда и не было четко определено, куда именно, я знал, что назначили нас в один из северных острогов, а по-новому выражаясь, концентрационных лагерей. Разгружали наш состав через трое суток под усиленной охраной мурманского конвоя. Потом вели пехом от Кеми через дамбу до самого Белого моря и погрузили на старые проржавленные баржи-лесовозы. Был март на исходе, но погода стояла по-зимнему морозная.
«Вот я, как в детстве, опять на барже, – с невеселой усмешкой подумал я, – и насовали нас как селедок в бочку. Все возвращается на круги своя…»
Соловецкий лагерь особого назначения, или сокращенно СЛОН, куда определили наш этап, находился на Соловецких островах. О далеком СЛОНе среди воров ходило множество сплетен, и трудно было понять, где в этих сплетнях правда, а где ложь. Одно знали точно: проклятое было место. Лагерь стоял на гигантском каменистом острове посреди бескрайнего угрюмого моря, на территории бывшего Соловецкого монастыря. Зэков селили большими смешанными ротами в бараках, наспех склоченных рядом с полуразвалившимися монастырскими постройками. Со всех сторон зона была ограждена несколькими рядами колючей проволоки, а сторожевые вышки, торчащие по углам, напоминали исполинских вертухаев, застывших в вечном карауле. Этим страшным лагерем пугали несознательных граждан Страны Советов с момента возникновения этой самой страны. На Соловках большевики учинили самый строгий режим, и именно сюда отправляли сначала наиболее вредоносных противников нового строя, а потом, когда коса репрессий пошла махать вовсю, сгребали всех подряд – антипартийцев, раскулаченных, простых воров и непокорных заключенных. Хватало проведенной здесь недели, чтобы понять: любой другой из сотен концлагерей, раскиданных по всей матушке-России, – просто курорт по сравнению с Соловками.
Разношерстная толпа зэков постоянно пополнялась, но население лагеря росло не шибко быстро: ведь в расход шло немало лагерников. Расстрелы были тут делом обыденным, которое исполнялось по-революционному решительно и споро. Малейшее неповиновение каралось смертью или долгой отсидкой в РУРе, без воды и хлеба, что было равносильно расстрелу.
Правил бал здесь Марк Кудряшов, бывший комиссар ВЧК, сосланный на Соловки за массовое изнасилование. Он любил похвастать, как весной 1918-го в Екатеринодаре, будучи комиссаром РККА, подписал декрет «о социализации девиц от 16 до 25 лет» и одним из первых получил на это дело мандат губернского ревкома. После дневных и ночных забав с беззащитными дворянскими и купеческими дочками красноармейцы сбрасывали под гогот и улюлюканье с высокого скалистого берега в реку Кубань изуродованные тела. Самых красивых привязывали голыми в раскорячку к «андреевским» крестам из двух досок и тыкали им внутрь штыками, замеряя глубину – у какой из девок глубже. А потом, забив прикладом между ног пустую бутылку, били по пузу, называя это артиллерией. От его рассказов у всех, не только у заключенного здесь духовенства, вставали дыбом волосы, а он смеялся. Смеялся весело, заливисто, как нашаливший маленький ребенок. Кудря, как прозвали его соловецкие зэки, в СЛОНе был царь и бог, «и Совнарком и НКВД, вместе взятые», как он любил шутить. А свою безраздельную вотчину Кудря называл Кремлем.
В конце 1928 года на Соловках поднялся бунт. Заключенные потребовали сокращения рабочего дня, нормального питания, еще просили убрать стукачей и дать гарантию, что не будет вертухаями обстрела с вышек без предупреждения. Поговаривали, что у восставших был план по зиме освободить лагерников, а потом двинуться через море на «материк». Возможно, из этой акции что-нибудь и получилось бы, если бы две враждующие группировки воров не вспомнили старые обиды и не принялись резать друг друга с хладнокровием мясников, разделывающих свиные туши.
И Кудря не остался в стороне от междоусобицы. По его приказу блоки и казармы были закрыты и вся орущая масса забузивших зэков вывалила на плац перед еще действующим монастырским собором. Не обращая внимания на брань, Кудря вывел на толстые стены соловецкого кремля всю свою псовую команду красноармейцев и приказал им открыть по толпе беглый огонь из «максимов». Скрыться было некуда, и вся орава зэков заметалась по лагерю, ища спасения. А Кудря, взяв в обе руки по нагану, стоял на крепостной стене и палил вниз, ни в кого конкретно не целясь. «Царь и бог» развлекался, как расшалившийся мальчишка, громко и весело смеясь.
Вскоре после того, как я в начале тридцатого года прибыл на острова, в СЛОНе уже начались кое-какие послабления. Летом, то есть уже при мне, на Соловки приезжал с инспекцией великий пролетарский писатель Максим Горький, горячо почитавшийся всеми ворами и зэками за то, что вышел сам из босяков. В большевистской России, во всех концентрационных лагерях, его почитали за страдальца и покровителя всех осужденных. Но что мог сделать для облегчения их участи этот согбенный жизнью и новой властью шестидесятилетний усатый старик, с глазами доброго, но не раз уже битого упрямого осла… Но все же его приезд бросил луч света на беломорские острова, правда, надолго ли, этого не ведал никто, окромя лишь Бога и Кудри… Но, Господь нашел управу на бывшего комиссара: в тридцать втором году его перевели из СЛОНа на материк, где он, как отстучал нам вскоре лагерный телеграф, был арестован и расстрелян за «перегибы».