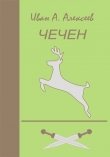Текст книги "Аутодафе"
Автор книги: Эрик Сигал
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 35 страниц)
– Согласен. Это очень сложный вопрос, – поддакнул реб Видаль. – Боюсь, здесь не может быть простых ответов.
Мы пели и ели. И опять пели. Я – громко, чтобы слышала Мириам, а она – так тихо и робко, что мне временами казалось, она только шевелит губами. На протяжении всей трапезы я невольно наблюдал за ее родственниками, которые – включая дядю Эйба! – то и дело обменивались взглядами и одобрительно кивали.
В начале одиннадцатого я нехотя распрощался с Видалями и медленно зашагал с Эйбом к своему временному пристанищу. До полудня я не увижу своей Мириам (Господи, пожалуйста, сделай, чтобы она стала моей!.) – если, конечно, не осмелею настолько, чтобы во время утренней службы посмотреть на женскую галерею в синагоге. На что в данных обстоятельствах я ни за что не решусь.
Оставшись вдовцом много лет назад, Эйб сейчас был рад моему обществу. Мы расположились в гостиной и принялись рассказывать друг другу историю своих семей – хотя, конечно, мою он в общих чертах знал. Он всячески подчеркивал, что Видали являются прямыми потомками Хаима Витала, изучавшего богословие в Святой Земле в шестнадцатом веке вместе с Исааком Луриа.
Их ветвь осела на юге Франции, где в определенных районах, в том числе в Авиньоне и Экс-ан-Провансе, средневековые папы разрешали селиться евреям. Видали были французскими гражданами на протяжении пяти с лишним веков, пока не пришли нацисты и не сочли евреев новой разновидностью печного топлива. Те, кто выжил, не знали ни слова по-английски и потому решили эмигрировать в Квебек. Так они здесь и оказались.
Я рискнул провести небольшое расследование.
– Сколько Мириам лет? – спросил я.
– Восемнадцать, храни ее Господь!
– Почему же тогда она до сих пор не замужем? – Я поспешил добавить: – Мне, конечно, от этого только лучше…
– Ах, – улыбнулся Эйб, – брат говорит, никак не удается подобрать ей достойного жениха. Но если честно, когда ваш младший ребенок – дочка, да еще такой бриллиант, как Мириам, вы не станете спешить выдавать ее замуж. Вообще-то, в последний год или полтора брат все же смирился с неизбежным и потихоньку вел переговоры кое с какими семьями. Мне кажется, один ему даже понравился – сын Десслеров, – но тут взбунтовалась Мириам…
– Как она это мотивировала? – разволновался я, в душе надеясь, что причиной стал не солидный возраст претендента – как у меня.
– Она заявила, что он недостаточно ортодоксален.
Сердце у меня упало. Какая горькая ирония! Пойди я по стопам отца, моя принадлежность к ортодоксальной вере ни у кого не вызывала бы сомнений. А теперь – по крайней мере, в глазах реба Видаля – я «ковбой». Не многим лучше, чем «инопланетянин».
Ночь я провел без сна. Я ворочался, метался, гадал, хватит ли у меня времени исправиться. Даже такой любящий и ревнивый отец, как реб Видаль, не продержит ее в девицах до девятнадцати лет. Времени у меня было в обрез.
На следующее утро в шум я был удостоен особой чести возглашать отрывок из Пророков. Вокальными данными, как у сестры, я, конечно, похвалиться не мог, но зато имел мощные легкие, а я помнил, что компенсировать музыкальный слух громким голосом отнюдь не противоречит нашим традициям. Я пропел и молитвы, и сам отрывок во все горло.
Когда я поднимался на биму, сердце у меня колотилось не меньше, чем в день моей бар-мицвы, а руки вспотели даже сильней. Ибо на самом деле я только теперь становился мужчиной. Забудь я сейчас текст, запнись хоть самую малость – и другой возможности мне уже не представится. Сегодня у меня была одна цель – добиться руки благочестивой Мириам, и я ни секунды не сомневался, что она на балконе будет по книжке следить за каждым пропетым мною словом.
Закончив «исполнение», я услышал, как со всех сторон раздались одобрительные возгласы. Мужчины обменивались комментариями: «Сын рава Луриа…», «Думаю, Видаль сделал удачный выбор…», «Если Мириам, как обычно, откажется, я бы с удовольствием заполучил его для своей дочери…»
Потом, за обедом, случилась удивительная вещь. Хозяин дома рассуждал о части Писания, которая была предыдущей недельной главой, я цитировал Раши и всех прочих толкователей, каких только мог припомнить, и тут мою тарелку из-под супа взял ангел. Это Мириам – а не ее мать, как полагалось бы в такой ситуации – оказалась в непосредственной близости от меня под тем предлогом, что меняет мне тарелку.
Вынести эту близость было почти что выше моих сил. Мне безумно хотелось поближе вглядеться в ее лицо, но я сделал вид, что увлечен философствованиями ее отца. На самом же деле от ощущения ее неземного дыхания на моей щеке сердце у меня так и зашлось.
Закончив еду и прочитав молитву, я вежливо попросил у реба Видаля разрешения прогуляться с его дочерью – не наедине, конечно, а в чьем-нибудь сопровождении.
– Что ж, – заулыбался он, – если моя жена себя достаточно хорошо чувствует… Думаю, немного солнышка никому из нас не повредит.
Перспектива остаться вдвоем с Мириам привела меня в восторг. Ибо на самом деле вполне можно сказать, что мы были вдвоем. Реб Видаль с женой шли нарочито медленно, так что мы с Мириам быстро оказались метров на пятнадцать впереди.
Я опять занервничал и не знал, как начать разговор. Чем я его закончу, я хорошо знал – эта часть у меня была распланирована.
Скоро я обнаружил, что, при всей своей скромности, Мириам отнюдь не страдает робостью. Ее манера держаться чем-то напоминала Дебору. Она взяла инициативу в свои руки.
– Скажите, Дэниэл, – впервые она обращалась непосредственно ко мне, – чем вы конкретно занимаетесь?
– Ну, много чем, – неловко ответил я. – Преимущественно учу. Понимаете, в Новой Англии много евреев, которые живут разбросанно, и их необходимо было как-то организовать. Очень трудно сохранять свои религиозные традиции, когда вокруг деревьев больше, чем людей.
– Они все ортодоксальные евреи? – поинтересовалась она.
– Не совсем, – неуверенно ответил я: мне не хотелось уходить от ответа, но и говорить в пренебрежительном тоне о своей пастве я тоже не хотел. – Прежде чем учиться, людям нужен свет, чтобы читать. Я вижу свою задачу в том, чтобы подготовить их души к тому, чтобы они следовали своей вере в той степени, в какой они сами захотят. Понимаете, о чем я говорю?
– Да. Это новый подход, наверное? Можно сказать, вы помогаете им очиститься.
Хоть я и был безнадежно влюблен, я не мог оставить незамеченной эту завуалированную критику.
– Простите, Мириам, но их единственный грех – это невежество. А это не требует очищения. Когда я начинал в этих краях шесть лет назад, они знали только одно слово: «Аминь». Теперь все они в состоянии осилить хотя бы «Господь наш Бог, и Бог един». Разве это не удивительно?
Она задумалась. Должно быть, она пыталась угадать, что скажут ее наставники о моей радикальной философии. Затем она набралась смелости и спросила:
– Мой вопрос, может быть, покажется вам наивным, Дэнни. Но я бы хотела спросить: вы этому и желаете посвятить свою жизнь?
Вопрос на засыпку. Настоящее минное поле.
– Если говорить честно, Мириам, – я взглянул прямо в ее прекрасные карие глаза, – а мне бы хотелось всегда быть с вами честным, – я в этом не уверен. Понимаете, мой отец хотел, чтобы я стал продолжателем его дела. Но меня одолевали сомнения.
– Вы боялись, что не сумеете соответствовать столь высокому званию?
– Вот именно. Мне было очень страшно, Мириам. А вы? – спросил я. – Чего вы хотите добиться?
– Я ничего не хочу добиться. Я только мечтаю…
– Тогда – о чем вы мечтаете?
– Мечтаю стать хорошей женой – эшес хайиль — благочестивому, образованному человеку.
– И пока что вы не нашли себе достаточно «благочестивого»? – Внутренне я трепетал.
– Кажется, нашла, – ответила она с легким смущением. – Но я говорила о своей мечте…
– И что? – Я ждал от нее откровенности.
Она потупила взор.
– Я всегда надеялась, что найду такого же ученого человека, как мой отец. Который бы умел не только молиться… – Она сделала паузу, после чего продолжила таким тоном, будто в ее словах была какая-то крамола: – Но и смеяться. Потому что в нашей вере столько радости!
Я мысленно сделал кульбит.
– Что ж, мне кажется, смеяться я умею, – заявил я.
– Я это поняла, – ответила она с улыбкой. – В ту самую минуту, как вы пели у нас в магазине, я подумала, что Отец Вселенной неспроста послал вас к нам. От вас исходит такая радость, Дэниэл! Вы весь светитесь, как свеча.
Она одернула себя и залилась краской.
– Ой, я слишком много болтаю!
– Нет, нет! – взмолился я. – Пожалуйста, продолжайте! Говорите, что вы хотели сказать.
Она смущенно улыбнулась и прошептала:
– Теперь не я должна говорить.
Первым делом я попросил разрешения поговорить наедине с ребом Видалем и официально попросил у него руки его дочери. Я ожидал, что он просто скажет «да», но он от радости кинулся меня обнимать. При всех своих сомнениях, я воспринял это как добрый знак.
Затем, горделиво сообщив новость другим членам семьи, он предложил подождать еще часок, дабы звезды уже наверняка взошли и в Нью-Йорке и он мог бы позвонить моему дяде и обсудить с ним брачный контракт.
Дрожащими пальцами я набрал номер. Едва на том конце сняли трубку, как я закричал:
– Это я, Дэнни! У меня отличные новости!
К моему крайнему изумлению, ответом мне была мертвая тишина. Понизив голос, я спросил:
– Мама, это ты? Что случилось?
Меня со всех сторон обступили Видали, взволнованно перешептываясь.
– Ой-ой-ой! – выдохнул я. – Вылетаю первым же рейсом.
Потрясенный, я медленно опустил трубку на рычаг и обратился к собравшимся:
– Боюсь, со свадьбой нам придется повременить. Случилось страшное несчастье.
– Что, Дэнни? – всполошилась Мириам.
– Мой дядя Саул… – пролепетал я. – Они искали меня в Нью-Гэмпшире… В моего дядю Саула стреляли.
Стреляли. Я сам с трудом верил в то, что говорил. Из сбивчивого рассказа мамы я только понял, что Эфраима Химмельфарба, одного из наших старейшин, так возмутило политическое заявление моего дяди в «Нью-Йорк таймс», что, совершенно обезумев, он купил ружье и в упор выстрелил в Саула во время субботней утренней службы.
– И как он? – спросил реб Видаль. Он был потрясен не меньше моего.
– Несколько огнестрельных ранений, – выдавил я. – Одна пуля попала в голову. Сейчас его как раз оперируют, но шансов, что выживет…
– Пятьдесят на пятьдесят? – спросил он с надеждой в голосе.
– Нет, – ответил я, чувствуя, как мою грудь жгут раскаленные угли. – Один на миллион.
В полной растерянности, я был не в силах осмыслить масштабы происшедшего и вдруг обнаружил, что размышляю над тем, как мог Химмельфарб осквернить шабат и нести что-то в руках.
До меня донеслись сочувственные слова реба Видаля:
– Присядьте, Дэнни. Я позвоню и узнаю расписание полетов.
Я окаменел и думал только о моем любимом дяде. О моем мудром, бесстрашном дяде. Перед моими глазами возникла рука Мириам, державшая стакан минеральной воды.
– Вот, Дэниэл, возьмите, – сказала она. – Вам это поможет.
Странно, правда? В тот момент я сделал все, чтобы случайно не коснуться ее руки, хотя если что и могло облегчить мои страдания, так это ее прикосновение.
В комнату медленно вошел реб Видаль.
– Мне очень жаль, Дэниэл, – тихо сказал он. – Первый рейс – завтра в семь утра.
– Нет! – выпалил я. – К тому времени его уже не будет в живых! Я поеду на машине.
– Нет, Дэнни, я вам запрещаю! – Его сильные руки тряхнули меня за плечи. – Бывают трагедии, которые мы не можем ни предотвратить, ни исправить. Я не допущу, чтобы вы ехали в таком состоянии.
Я понимал, что он прав, но я был в таком отчаянии, что ощущал потребность действовать. Я посмотрел на него, и он все понял.
– Хотите пойти в шул помолиться?
Я кивнул.
Он повернулся к жене и дочери:
– Мы идем молиться. Ложитесь без меня.
– Папа, мы тебя дождемся! – взмолилась Мириам. Она бросила на меня нежный взгляд.
Мы оделись. Реб Видаль заметил:
– Дэниэл, я думаю, из нас многие хотели бы сейчас помолиться за зильцского рава. Не возражаете, если я кое-кого оповещу?
– Пожалуйста, – сказал я едва слышно. – Звоните, кому считаете нужным.
В душе я надеялся, что, чем больше в синагоге будет людей, разделяющих мое горе, тем легче мне будет справиться с ним.
Несколько часов мы оставались в небольшой синагоге и пели псалмы. Нас было человек двадцать пять. Никто не уходил, лишь время от времени кто-нибудь отлучался попить. Все молились непрерывно, словно на карту была поставлена судьба целого мира. Я был раздавлен горем и чувством собственной вины.
В день совершеннолетия Эли я сказал слова, которые определили судьбу всей нашей общины. В частном разговоре я втихаря убедил Саула не строить школьного общежития на оккупированных территориях. Но с того момента он принял на себя общественную ответственность, ответственность за всех. Так что сразившая его пуля должна была предназначаться мне.
Все усердно молились, а я прошел к святому ковчегу и упал на колени.
– О Господи, Бог моих отцов, преклоняю свою голову пред Тобой. Сделай так, чтобы Саул остался жить. Не допусти, чтобы пострадали правоверные. Обрати свой гнев на меня. Пожалуйста, услышь меня, и я стану служить Тебе верой и правдой до конца моих дней. Аминь.
Мы пробыли в синагоге до рассвета и после утренних молитв медленно разбрелись по домам, измученные морально и физически. Женщины, тоже молившиеся всю ночь, встретили нас горячим кофе и булочками. Я боялся спросить, не было ли новых известий. Но миссис Видаль заговорила сама:
– Дэнни, звонила ваша мама…
– Да? – У меня перехватило дыхание.
– Ваш дядя… – Она запнулась. – Операция закончилась. Пулю извлекли. Он… жив.
– Что?! – ахнул я.
– Даже врач сказал, что это чудо.
От потрясения я не мог говорить. Мы с ребом Видалем переглянулись. Встретив мой взгляд помутневшими от усталости глазами, он невнятно сказал:
– Порой – даже и тогда, когда наша вера совсем ослабевает, – Отец Вселенной подает нам знак, что наши молитвы услышаны.
Он был прав. Я получил этот знак.
Бегать от своей судьбы я больше не мог.
78
Дэниэл
Мое испытание было нелегким. Дядя позаботился о том, чтобы меня проэкзаменовали не менее четырех авторитетных богословов, представлявших разные направления иудаизма, со всех концов города. Сей совет мудрецов именовался Гедолей Ха-Тора.
Оглядываясь назад, могу сказать, что самое любопытное в этой процедуре было то, что я к испытаниям совсем не готовился. Я не просиживал ночи напролет, освежая в памяти отрывки из Писания и вообще все, что могло произвести наилучшее впечатление на моих почтенных экзаменаторов. На главное испытание своей жизни я шел как лунатик. Меня раздирали противоречивые эмоции. Кошмарное видение: раввин стоит в синагоге возле святого ковчега – и тут раздаются выстрелы. Стреляет кто-то из «своих». В то же время мысль о Мириам переполняла меня безграничной любовью и радостью.
Наконец я мог считать себя настоящим сыном своего отца. Рав Даниил Луриа. Зильцский ребе.
Был четверг, обычный рабочий день, к тому же я приехал на целый час раньше. Тем не менее в синагоге уже было полно народу. Идя по центральному проходу в старом отцовском талите, я видел, как со всех сторон молящиеся поднимались, склоняли головы и кричали слова приветствия: «Яшер-коах!», «Да умножится сила твоя!», «Жить тебе до ста двадцати!»
Я поднялся по трем ступенькам к святому ковчегу и стал молиться.
«Да дойдет до Тебя молитва моя, Господь любящий и милосердный!»
Я повернулся к собравшимся, положил обе ладони на покатый стол и обвел глазами зал. Внизу передо мной было море людей, как мне казалось – сотни и тысячи белых молитвенных шалей. В первом ряду в инвалидной коляске сидел дядя Саул, рядом с ним стоял Эли.
Я поднял глаза на женскую галерею и тотчас перехватил взгляд трех самых дорогих мне людей на земле – матери, сестры и сидящей между ними моей возлюбленной Мириам, которая через три недели станет моей женой.
Я немного помолчал. Потом, набрав побольше воздуху, стал читать самую главную, единственную подходящую к случаю молитву:
«Благословен Ты, Всевышний, Бог наш, Который дал мне дожить, и дал мне существование, и дал мне достичь этого счастливого мига».
Когда вся община отдалась молитве, я закрыл лицо руками и заплакал.
79
Тимоти
В новогоднюю ночь, когда все другие приглашенные, среди которых были рабочие, священники, студенты и просто соседи, разошлись, Хардт повел Тима к себе в кабинет, налил себе и ему по большому стакану жинжиньи и коротко сказал:
– Выпьем!
– За что-нибудь конкретное? – уточнил Тим.
В ответ Хардт выдвинул ящик стола и достал пухлую стопку бумаги. С лучезарной улыбкой он протянул ее Тиму.
– Я закончил. Это та самая книга, которую фон Якоб так жаждет запретить. Вручаю ее тебе в знак нашего братства.
– Не понимаю.
– Она твоя! – настойчиво повторил Хардт. – Можешь сегодня ее прочесть, а утром сжечь. Или прямо сейчас сожги. – После паузы он добавил: – А если хочешь, помоги мне ее напечатать. С Новым годом, дом Тимотео!
Он вышел из комнаты, оставив Тимоти стоять в оцепенении. Потом Тим медленно опустился в кресло у стола и поудобнее приладил тусклую лампу. Сколько же времени понадобилось университетской секретарше Хардта, чтобы все это напечатать, переплести и снабдить заголовком?
«Распятие Любви».
Чтобы уяснить содержание этого труда, Тиму не пришлось детально штудировать все четыреста восемнадцать страниц. Хардт в своей книге писал о том, что половое воздержание духовенства является невозможным и, в его представлении, бессмысленно.
Взрывоопасность книги заключалась в обилии собранных автором фактов. Хардт приводил сведения, случаи, имена и свидетельства бесчисленного множества прелатов святой церкви со всех концов католического мира, которые не только с готовностью ответили на его вопросы, но и дали согласие на оглашение в печати своих имен. Все эти люди продолжали служить Господу и одновременно допускали для себя плотскую связь с женщиной, освященную любовью.
Тим знал, что история церкви насчитывает немало падших священников и даже пап, селивших в Апостольском дворце своих так называемых «племянников». Но перечень подобных случаев, имевших место в Америке, его ошеломил.
Ричард Сайп, психотерапевт из Балтимора, а некогда – монах-бенедиктинец, утверждал, что половина из пятидесяти тысяч католических священников в Соединенных Штатах нарушают обет безбрачия.
И при все этом труд Эрнешту Хардта нельзя было назвать книгой, подрывающей устои церкви. Вернее было бы сказать, что он попытался вернуть честь и достоинство тем, кто, служа Богу, не отказывается и от удовлетворения своих чувственных потребностей.
В половине пятого утра Тим перевернул последнюю страницу.
Было ясно, что доводы Хардта в пользу придания мирским потребностям служителей Бога законного статуса нашли свое самое полное воплощение в жизни самого его бразильского друга.
Утром, за завтраком, хозяин дома, казалось, умышленно избегает говорить о своей книге и все больше обращается к детям. Тим вел ничего не значащую беседу с Изабеллой, но сразу почувствовал, что и она с нетерпением ждет его оценки прочитанного.
В начале девятого она выставила Альберту с Анитой из дома. Дети, с типичной для их возраста неохотой, поплелись в школу, созданную священником из числа рабочих.
Наконец Хардт усмехнулся и заговорщицки спросил:
– Ну, как спалось, брат мой?
Тимоти решил не ходить вокруг да около.
– На мой взгляд, твоя книга носит опасный и бунтарский характер, но значение ее чрезвычайно велико. Я понимаю, почему фон Якоб боится ее публикации.
– Отлично! – Хардт улыбнулся. – Значит, я неплохо поработал.
– И все же я поражен, как тебе удалось самому перепахать такой неимоверный массив информации.
– Да что ты, Тимотео! На обложке, может, и стоит мое имя, но на самом деле у меня буквально сотни соавторов, помогавших мне в сборе данных по всему миру. Как раз на этой неделе ко мне в канцелярию с нарочным был доставлен отчет по Чехословакии. – Он принялся объяснять Тиму, что, поскольку церковь в этой стране так долго была вынуждена действовать в подполье, в том числе тайно проводя посвящение в сан вплоть до епископов, то ныне там сформировался целый орден подпольного духовенства, многие члены которого женаты и имеют семью.
– Думаешь, фон Якобу об этом известно?
Хардт пожал плечами.
– Уверен, что да. Ты удивишься, но, поскольку нам в верховьях Амазонки не хватает священников, папа только что освободил от целибата двоих женатых. И они теперь смогут получить сан и возглавить приход.
Тим был потрясен.
– Как же он может принимать решения, противоречащие тому, что сам он исповедует?
– Папа – реалист, – высказал свое мнение Хардт. – И его долг как викария Христа состоит прежде всего в сохранении святой церкви. В этом смысле мы с ним единомышленники.
– Тогда объясни мне ради бога, что я здесь делаю? – воскликнул Тим.
– А тебе не приходило голову, что Господь избрал тебя не для подавления правды, а для ее возвещения? Скажи мне честно, каковы теперь твои убеждения на этот счет?
Тим с расстановкой ответил:
– Если рассуждать реалистически, – он сделал ударение на этом слове, – то непонятно, почему женатый пастырь может служить церкви в лесах Амазонки и не может этого делать в Ватикане?
Хардт с нежностью улыбнулся Тиму.
– Благодарю тебя, брат мой. Но что ты скажешь в Риме?
В этот момент архиепископ Хоган повел себя неожиданно.
– Я знаю, какого ответа ты от меня ждешь, Эрнешту. Но позволь тебе кое-что сказать. Правда, сколь бы прекрасна она ни была, не всегда лучшее средство для достижения высокой цели. Забудем сейчас обо мне. Предположим, ты издашь свою книгу – и тебя отлучат от церкви.
– Я этого не боюсь! – заявил Хардт.
– Я знаю, брат мой. Но я не хочу, чтобы церковь тебя лишилась.
– Но что ты можешь с этим сделать? Риму, по-моему, наплевать…
– Почему бы нам с тобой не попытаться изменить его точку зрения? Давай, например, построим тут что-нибудь полезное?
– Что, например?
– Для начала – больницу. Самым большим удовлетворением для меня как священника стали обряды крещения, совершенные здесь. – Он сделал небольшую паузу. – А самой большой болью – похороны. Дай мне шанс добыть денег на детскую больницу!
Хардт махнул рукой.
– Пока церковью руководят эти люди, мы с тобой никаких клиник в джунглях не дождемся.
– Эрнешту, если ты дашь мне немного времени, я не только помогу тебе издать твою книгу по-английски, но и сам ее переведу. Я знаком с некоторыми очень богатыми мирянами, которые поддержат наши начинания.
Хардт колебался долю секунды.
– Дом Тимотео, ты сказал «наши начинания». За одно это я готов отложить публикацию.
– На какое время? – уточнил Тим.
– Сколько понадобится. Или до того момента, как ты откажешься от идеи найти деньги.
Вечером накануне своего отлета в Рим печальный Тим стоял с Эрнешту и Изабеллой перед их семейным очагом и подыскивал слова, чтобы выразить переполнявшие его чувства.
Бразильский пастырь держал под мышкой пачку бумаг.
Вдруг он бросил их в огонь.
– Эрнешту, что ты наделал?! – переполошился Тим.
– Теперь тебе не придется лгать папе, – ответил Хардт. – Ты сможешь, не покривив душой, доложить, что своими глазами видел, как я сжег рукопись от первой до последней страницы.
– Но, Эрнешту, я только просил тебя подождать – а не уничтожать ее!
Хардт хмыкнул.
– Боюсь, ты не сможешь объявить в Риме, что я ее «уничтожил». Вообще-то, я тебе к отъезду приготовил прощальный подарок.
Он прошел к столу и принес несколько дискет.
– Ты удивишься, дружище, но в наше время даже в этих джунглях университеты оборудованы компьютерами. Только прежде чем лететь, обязательно заверни в фольгу!
– Но зачем? – удивился Тим. – Зачем ты их мне отдаешь?
– Это мера предосторожности, – объяснил Хардт. – Если со мной что-нибудь случится – или с нашим компьютером, – мне будет спокойней знать, что наша книга в надежных руках. Прощай, Тим. И молись за меня.
Они обнялись.