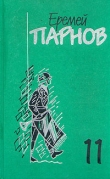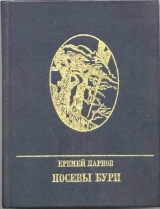
Текст книги "Посевы бури. Повесть о Яне Райнисе"
Автор книги: Еремей Парнов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
– Благодарю, ваше превосходительство. – Плиекшан холодно улыбнулся. – Но не стоит беспокоиться.
– Как же не стоит! – запротестовал Пашков. – Как коллега коллеге…
– Право, не стоит, – осадил его нетерпеливым движением руки Плиекшан. – Сугубо частное дело. – Он уже не участвовал мыслью в этом никчемном разговоре.
Плиекшан не раз встречал подобных Пашкову либеральных вельмож, которые, казалось, сами стыдились своей власти и были готовы по мере сил творить добро. Излучая благожелательность и участие, они даже решались порой на критику существующего порядка – tete-a-tete, разумеется! – и с брезгливой миной, но удивительно настойчиво и последовательно исполняли циркулярные предписания. Вот и господин Пашков взывал ныне к поднадзорному политическому, как к своему коллеге. Эгоистичное, даже несколько наивное лицемерие. Неужели сам он не ощущает неловкости своего поведения? Не понимает, что нет и не может быть взаимопонимания у смертельных врагов, даже если и возникнет между ними непроизвольная симпатия?
Плиекшану вспомнилась клятва, которую он, глотая слезы, принес на Фелькерзамовом пригорке, где так беззаботно игралось ему в далекие детские годы. В то утро кончилось его детство. «Убейте меня! Убейте, добрые люди!» – рычал, катаясь в пыли, батрак Оскар, прозванный бунтарем. Черное от крови лицо и золотистые мухи, облепившие жуткие красные дыры, оставшиеся от ясных насмешливых глаз.
Оскар выбросил из окна пьяного егеря, когда тот при всех полез к батрачке. А на другой день четверо егерей подстерегли Оскара-бунтаря у большака, связали и утащили в лес… Барон замял дело, и виновных, как водится, не нашли. Маленький Янис поклялся тогда, что выучится на адвоката и будет повсюду отстаивать справедливость. Знанием законов и красноречием он надеялся добиться той самой всеобщей справедливости, о которой так мечтал беспокойный Оскар. Годы и годы прошли, и, уже учась на юридическом факультете университета, Ян Плиекшан понял, как может обернуться издевательским фарсом даже самый мудрый закон. Оскар со связанными руками часто снился ему по ночам.
«Убейте, убейте меня, добрые люди!» И всего-то были у парня голубые глаза да тяжелые кулаки…
– Слыхал, что вы работаете над эпической драмой? Это верно? – переменил тему губернатор.
– Верно, – машинально ответил Плиекшан.
– Куда же теперь нацелен ваш гнев? Против псов-рыцарей?.. Чрезвычайно интересная задумка! М-да, история… – Пашков мечтательно воззрился на занавешенное окно. – Как бы она сложилась, не расколошмать Александр Невский орден на Чудском льду! Бог весть… И как продвигается пиеса?
– Продвигается.
– Мне говорили, что вы готовите ее к конкурсу?
– Окончательно еще не решено. Служенье муз, как писал Пушкин, не терпит суеты.
– О, Пушкин! Считаю своим долгом культурного человека помочь вам, Иван Христофорович, в делах искусства. Мы могли бы, скажем, посодействовать в получении премии… О постановке стоит подумать. И вообще, – он довольно потер руки, – не чурайтесь нас.
– Помилуйте, ваше превосходительство, – Плиекшан едва сдержал улыбку. – Вы вскружили мне голову. Не знаю, что и сказать…
– И не надо. Сапиент сум – умному достаточно! Лучше навестите нас как-нибудь в Мариенгофе. Запросто! По-дачному!! – Придя в восторг от своей идеи, Пашков все повышал и повышал голос: – С супругой!! – Он даже закашлялся и, покраснев от натуги, досказал уже без аффектации: – В будущий четверг мы принимаем.
– Благодарю, – Плиекшан наклонил голову.
– Так будете?
– Нет. Наш визит будет наверняка ложно истолкован. Это равно повредит нам обоим.
– Вот так? – Пашков надменно опустил уголки рта.
– Поверьте мне, ваше превосходительство.
– Я удовлетворен, – многозначительно отчеканил губернатор. – И более вопросов не имею. Однако обязан предупредить, согласно полученным инструкциям, что в случае продолжения вами вредной деятельности вы будете вновь высланы из пределов губернии, – почти слово в слово повторил он заключительные слова из письма всесильного директора Департамента полиции Алексея Александровича Лопухина.
– Что вы подразумеваете под вредной деятельностью, ваше превосходительство? Мои литературные занятия?
– Нелегальные собрания, участие в массовых сходках, агитация и распространение противоправительственных листовок, – отчеканил Пашков. – А вы замечены, господин Плиекшан. И не раз! Например, вы участвовали в митинге по случаю Первого мая, который имел быть на территории между побережьем Западной Аа и железной дорогой.
– Я оставил там визитную карточку? – кротко поинтересовался Плиекшан.
– Вы были замечены, – губернатор уже не скрывал раздражения, – когда произносили агитационные речи под красным флагом и дирижировали хором, который распевал вашу песню о сломанных соснах… Станете отрицать?
– Конечно же стану, ваше превосходительство. – Плиекшан потупился, словно на него вдруг снизошло раскаяние. – Что еще прикажете делать? Насколько мне известно, закон обратной силой не обладает. Люди, которые пели мою песню, не могли, мне кажется, предвидеть, что цензура ни с того ни с сего запретит вдруг уже опубликованную книгу.
– Разговор не о них, господин Плиекшан, о вас!
– Тогда все значительно проще, ваше превосходительство. – Плиекшан поднял голову и твердо взглянул губернатору в глаза. – Я не был ни на каком митинге. Но предупреждение ваше к сведению принимаю.
– Очень хорошо-с. Только… – Пашков зябко повел лопатками и крепко сцепил за спиной руки. Он вдруг потерял нить мысли. Скучно засосало под ложечкой.
Ни Волков, ни его агентура на взморье ошибиться тут не могли. Райнис конечно же участвовал в маевке, вопроса нет. Но почему он все отрицает? Как на допросе в охранке! Как в камере прокурора! Впрочем, пусть отрицает. Это в порядке вещей. Но зачем так, с такой ужасающей легкостью полнейшего отчуждения? Ведь не от своего участия в жалкой рабочей маевке – бог с ней – отказывается он сейчас. Его глаза говорят о большем! Он просто не желает поддерживать любые человеческие отношения с ним, Михаилом Алексеевичем Пашковым! С чем он пришел сюда, этот Райнис, с тем и уходит.
«Какой чужой человек», – подумал он, когда Плиекшан повернулся и уже у дверей отдал последний поклон.
Им было суждено увидеться тем же вечером в фойе Русского драматического театра, куда они вышли прогуляться после второго акта горьковских «Мещан». На губернатора эта совершенно непреднамеренная встреча произвела столь тягостное впечатление, что он тут же покинул театр. Сидевший в директорской ложе Горький принял это на свой счет и обрадовался.
– Не угодили губернатору-то, – довольно потирая руки, сказал он, когда занавес в последний раз опустился. – Не досмотрел до конца. Вот оно как!
ГЛАВА 7
По случаю производства в очередной чин капитана второго ранга Рупперт давал «большой круг». После торжественных гуляний в Либаве, когда офицеры гвардейского экипажа обошли все питейные заведения Розовой площади и Шарлотинской улицы, граф отбыл проветриться в Ригу. Кроме непосредственного начальника, Петра Николаевича Зарубина, и вездесущего Коки он прихватил с собой еще одного приятеля, графа фон Цеппелина, подвизавшегося на прусской службе. Но это не имело особого значения, поскольку Ферди приходился Рупперту родственником, так как фрау Цеппелин была урожденная фон Вольф. Ферди слыл человеком не от мира сего. Вечно носился с какими-то полубезумными проектами управляемых воздушных шаров, витал, так сказать, в воздухе.
Капитан первого ранга Зарубин, узнав, что в их интимное увеселительное предприятие ввязался иностранец, да притом еще пожилой, недовольно наморщил нос.
– На кой ляд он тебе сдался? – с флотской прямотой подступил он к своему старшему офицеру. – Неудобно, право. Ведь мы все-таки ведем войну.
– Не с Германией же? – резонно возразил Рупперт и назидательно пояснил: – С лукавым японцем. Кроме того, Ферди – свой парень и ни бельмеса не понимает по-русски.
– Он хоть играет? – спросил Кока.
– Еще как! – Граф Рупперт мечтательно вздохнул. – И не только играет… Если бы вы только видели, какие номера он откалывал в Вене.
– По крайней мере пулька составится, – заключил покладистый Кока. – А, Пьер? Чего там в самом деле? Всего трое суток и в партикулярном платье.
– Черт с ним! – махнул рукой Пьер Зарубин. – Бери. – Он наклонился к Рупперту и с пьяной сентиментальностью заявил: – Я тебя за то люблю, что ты совсем не похож на немца. Широк, подлец, как русский гусар!
– А я и есть русский, – ухмыльнулся Рупперт.
Не успели они войти в сверкающий синим лаком вагон, как сразу же засели за карты. Начали с открытого винта. Играли жестоко: с «присыпкой», «гвоздем» и тройными штрафами. Бесшумный официант в белой курточке принес водку. Цеппелину – он пил залпом и не пьянел, а только стекленел взглядом – бешено везло. После восьмого роббера Кока отдал последний четвертной билет.
– Сколько дадите? – огорченно спросил он, вынимая из бумажника голубую акцию «Ланковского и Ликона». – Теперь они котируются выше номинала. Военные поставки и вообще конъюнктура!
– Tinte? Schriftstück und Verteidigungskrieg?[11]11
Чернила? Канцелярская бумага и оборонительная война? (нем.).
[Закрыть] – удивился Цеппелин, обнаружив, вопреки заверениям Рупперта, явные лингвистические способности.
– Что он понимает? – Кока схватил акцию и зачем-то стал демонстрировать ее на просвет. – А рапорты, – ударение он сделал на флотский манер, – на чем писать? Реляции, сводки?.. Оборонительная война, вишь! Ничего, дай срок, влепим япошкам по первое число! Ты, Ферди, не смотри, что на ней двести пятьдесят написано! Она теперь по три сотни котируется, а в Варшаве даже еще выше. Бери – не пропадешь! Фирма солидная. Большой дивиденд получишь. Вот двинем на азиатов вторую эскадру – доблестный наш Балтфлот. Как поднапрем из Черного моря…
– Господин Истомин! – Зарубин ударил кулаком по столу так, что зазвенели рюмки. – Я па-апрашу!
– Ты чего? – Кока недоуменно уставился на Зарубина.
– Па-апрашу вас на два слова! – Блеклые, обесцвеченные солеными ветрами глаза капера налились кровью. Он схватил Коку за шиворот и стащил с мягкого, обитого малиновым бархатом дивана, пропитанного знакомыми запахами сигар и духов.
Звякнул жалобно латунный клинкет зеркальной двери. Без лишних церемоний, коленом под зад, Зарубин вытолкал незадачливого флагарта в коридор и хлопнул дверью.
– Meine Herrschaften! Господа! – запоздало оправился от изумления Ферди Цеппелин. – Я дам! Gut? Триста? Зегласный!
Зарубин, трясясь от бешенства, поволок хнычущего Коку в тамбур. На тряском железном полу под грохот колес отхлестал его по щекам.
– Ты што, хад? – по-матросски придыхая, спросил он и отшвырнул измочаленного флагарта к стене.
– За что, Пьер? – Кока стукнулся затылком и медленно осел на пол.
– С-спрашиваешь? – Резким рывком Зарубин поднял его. В горячем потном кулаке ломалась накрахмаленная манишка. – С-стратегические планы? А ты с-спрашиваешь?
– Но я же ничего не сказал! – взмолился Кока. – Почти ничего! Пощади меня, Петечка! – Он беззвучно плакал. – Пожалей.
– Капитан первого ранга Истомин! – Зарубин одернул на себе сюртук. – Мы сойдем с вами на ближайшей станции.
– Что ты собираешься делать, Пьер? – прошептал Кока непослушными восковыми губами. – Опомнись!
– Дур-рак! – Зарубин брезгливо поморщился. – Надо немедленно доложить по начальству. У нас просто нет иного выхода. – Он начинал понемногу отходить.
– Но ведь это конец! – Кока истово перекрестился. – Ей-богу, конец! Всей карьере! Но черт со мной! – Он ударил себя кулаком в грудь. – О себе ты подумал? Пе-течка! Петя! Опомнись, пока не поздно.
– Дур-ак, – повторил Зарубин и отвернулся.
– Ладно же! – Кока отер рукавом слезы. – Пусть нам обоим будет плохо. Пусть! Ты ведь тоже замаран, Петечка? Вместе с Гнидой покинул корабль! А это нехорошо, нельзя, брат, не дозволяется.
– Какое же ты редкостное дерьмо! – Зарубин отряхнул с себя бегающие Кокины руки. – С-собирайся. – И решительно направился к своему купе.
Они сошли на ближайшей станции, а оба графа спокойно продолжали веселое путешествие. В отличие от своего командира, новопроизведенный капитан второго ранга надлежащим образом оформил отпуск. После умеренного кутежа в «Петербургской» – Ферди как партнер и в подметки не годился изобретательному Коке – друзья перекочевали на Мариинскую улицу в укромное заведение с женской прислугой. Но и здесь Фердинанд Цеппелин не оправдал ожиданий пылкого не по-остзейски кузена. Может, он постарел и ослаб, а может, пресытившись венскими художествами, он вообще окончательно воспарил душой в облака, обмозговывая проблемы воздухоплавания, точно не известно. Только вышло так, что на другое утро Ферди твердо заявил, что уезжает домой. Не захотел даже заехать в Замок, где осталась часть его гардероба.
– Перешлите с оказией, кузен, – сказал он Рупперту. – Интересно, сколько стоит первый класс до Берлина?
– Точно не знаю, кузен, – ухмыльнулся Рупперт. – Мы обычно ездим из Митавы.
Наедине они соблюдали в отношениях добропорядочную церемонность. Это Коке можно было, не задумываясь, брякнуть, что «Николас Эрсте» не деньги и при таком банке лишняя полсотня рублей – мелочь. Тем более что проиграл-то как раз Кока. Но в разговоре с деревянным, точно в корсет затянутым, Ферди даже легкий намек на столь деликатное обстоятельство был бы неуместен.
– У вас, в России, ассигнации растут прямо из земли, как сорная трава. – Ухмылка кузена не прошла незамеченной. Ферди оказался проницательным стариком. – Будь у меня свободные средства, я бы рискнул вложить их в какое-нибудь дело. Я знаю, что немецкие капиталы сосредоточены в основном в тяжелой индустрии: металл, химия, электротехнические изделия. Пока продлится эта злосчастная война на Дальнем Востоке, прибыли будут расти и расти. Рабочая сила у вас нипочем! Обидно. Можно было бы сделать хорошее дело.
– Кто же вам мешает, кузен? Скажите только слово, и я приобрету для вас любой пакет.
– Не имею права изымать капитал. Воздух – это власть над миром. Сегодня войны разыгрываются на морских просторах, завтра – в облаках. Я слышал, ваш флот потерял отличный крейсер? «Варяг», кажется?
– Не наш, Тихоокеанский, – отмахнулся Рупперт. – Не могу даже вообразить себе, как будет выглядеть воздушный бой. По-моему, это невозможно. Во-первых, ветер обязательно размечет суда в разные стороны; во-вторых, не поставишь минные заграждения… Артиллерия опять же… Как, по-вашему, можно поднять в воздух орудие главного калибра? Нонсенс!
– Вы образцовый флотский офицер, кузен, – Цеппелин потрепал родственника по плечу. – Мне, старому прожектеру, не под силу с вами полемизировать… Ходит слух, что «Унион» начал переговоры о слиянии с АЭГ?
– Война приободрила нашу экономику, – важно кивнул Рупперт. – Всюду ощущается прилив. Даже в текстильной промышленности, как ни странно.
– Чего же тут странного? Солдатское сукно!.. Самое подходящее время вкладывать деньги в промышленность. Впрочем, вам-то чего беспокоиться? Вы и без того, надо думать, миллионер?
– Мы, Вольфы, по традиции вспахиваем свою ниву, – уклончиво заметил Рупперт. – Но это неинтересно. Есть несколько иная область, которая могла бы заинтересовать меня и моих товарищей. Я имею в виду оружие, кузен. – Рупперт помог Ферди застегнуть саквояж.
– Оружие? – Цеппелин зорко оглядел номер: не забыл ли чего – и снял с вешалки пальто. – Какое оружие?
– Винтовки системы «Маузер», револьверы, если возможно, пулеметы.
– Нет смысла. – Цеппелин жестом отмел идею как неподходящую. – Пока наладите производство, война может закончиться. Что тогда станете делать с железным хламом? Заваривать новую кашу?
– Вы не поняли меня, кузен, – попытался объясниться Рупперт.
– Да и зачем России маузеры, когда вся армия оснащена трехлинейками? – Ферди потянулся к звонку, вызвать мальчика.
– Вы абсолютно не поняли, чего я хочу, кузен. Речь идет не о производстве оружия, а лишь о его приобретении. На самых выгодных для партнера условиях.
– Вон оно что! – мгновенно сообразил проницательный Ферди. – Все революции опасаетесь? Знаете, дорогой друг, почему ваша армия потерпела неудачу под Ляояном и на Шахэ?
– Японцы выставили триста тридцать тысяч штыков против сотни тысяч наших!
– Отчего же и вам не выставить столько же? Или Россия вдруг обезлюдела? Нет, мой милый, дело в другом. И генерал Куропаткин тоже, наверное, не так уж сильно уступает маршалу Ойяме. Весь секрет в том, что вы просто парализованы паническим страхом перед революцией. Она для вас ужаснее, чем все ойямы, вместе взятые. Это же надо додуматься, послать на театр военных действий резервистов старших возрастов! Зачем вам оружие, когда и без того лучшая часть армии заморожена в ожидании внутренних беспорядков, превращена в полицейский резерв? Неужели здесь все настолько напуганы доморощенными смутьянами, которых сотня прусских шуцманов могла бы укротить за неделю?
– Нас не волнуют всемирные проблемы, кузен. – Рупперт раздраженно грыз зубочистку. – И всероссийские тоже. Будет революция или не будет, меня заботит другое: собственное имение. Я не потерплю, чтобы жгли мои – понимаете, мои собственные! – экономии. Не желаю жертвовать даже каретным сараем! Поэтому мы с товарищами и хотим должным образом подготовиться. Как генерал рейхсвера вы бы могли помочь нам… Ну, скажем, войти в контакт с интендантством или… – Он прижал палец к губам. – Мне не надо напоминать вам, кузен, что наш разговор строго конфиденциален?
– Я все понимаю, друг мой.
– За ценой, как у нас в России говорится, не постоим. В разумных пределах. Посредники, само собой, получат приличное вознаграждение. Известную сумму уже сейчас можно было бы вложить в какое-нибудь дело. – Рупперт вкрадчиво понизил голос. – Пусть себе понемногу приносит доход.
– А что вы думаете? – Цеппелин требовательно дернул сонетку. – В вашей идее есть резон. Надо будет на досуге хорошенько обмозговать. Вполне возможно, что кого-нибудь она и заинтересует.
Вошел коридорный мальчик, подхватил саквояж, портплед и понес все вниз, где на подъезде уже дожидался извозчик.
Проводив родича, Рупперт решил махнуть в Майоренгоф или Кеммерн. Сезон давно закончился, но игорные клубы и еще кое-какие заведения не позакрывались. Захотелось скоротать ночку в уединенном хаузе, под шум дождя и скрип сосен. Он вдруг почувствовал себя совершенно одиноким и даже несчастным. При воспоминании о неприятном инциденте в купе на душе становилось смутно, тревожно. Что-то такое он все же ощутил тогда, кроме вполне понятной неловкости и удивления. Только вот что? Никак не удавалось припомнить, с чего, собственно, началось. Вроде выходило, что Пьер просто крепко хватил через край. Думать так было легко и успокоительно, но Рупперт не настолько глуп, чтобы удовлетвориться столь немудреным объяснением. Нужно было видеть, как они слезли с поезда! Он слишком хорошо знал обоих. Инцидент, несомненно, еще будет иметь последствия. Весь вопрос в том, насколько они затронут лично его, Рупперта. Вины за собой он не чувствовал. Однако следовало подготовиться к любому повороту событий. Но сперва недурно переключиться.
Лучшего места для отдыха, чем «Файнхайт» за Новым Дуббельном, не найти. Не случайно же заведение носит столь притягательное название: «Нежность». Это единственное, что ему нужно. Пусть почасовая, за плату, зато по крайней мере под шелест дождя. Но нежности не получилось. Ночью уютный павильон на дюнах был разбужен требовательным стуком в дверь:
– Отворите, полиция…
ГЛАВА 8
По приговору боевой организации социалистов-революционеров был убит Вячеслав Константинович фон Плеве: палач «Народной воли», бывший директор Департамента полиции, министерский статс-секретарь Великого княжества Финляндского, министр внутренних дел и шеф жандармского корпуса. Созонова и Сикорского, которых общественное мнение приветствовало как героев, не решились приговорить к смертной казни. Приговоренный к вечной каторге Егор Сергеевич Созонов покончил с собой в Горном Зерентуе в знак протеста против избиения политических заключенных.
Потускнели вороньи перья «безобразной» камарильи. Ни сам Безобразов, ни Абаза, ни даже великий князь Александр Михайлович уже не были властны изменить хоть на самую малость неизбежное течение событий, их роковую взаимосвязь. «Из-за колес небес незримых дракон явил свое чело». Перед грозными очами его бессильны и жалки предстали испытанные некогда меры: расстрел рабочей манифестации, погром в Одессе, тюрьма, ссылка. Кого могли запугать теперь заточение в каземат и бессрочная каторга, если все снизу доверху дышало предчувствием коренного всесокрушающего переворота? В удобренной плотью и кровью мучеников земле влажно набухали семена бури.
Не только великодержавная спесь и дерзость противника толкнули царя на роковую войну. С дальневосточной авантюрой были связаны и чисто денежные интересы весьма влиятельных лиц. В том числе и самого государя, на которого оказал сильнейшее влияние все тот же Александр Михайлович Безобразов, сын петербургского предводителя, связавшийся в одном из тайных игорных домов Рижского взморья с выходцем из Баден-Вюртемберга фон Бриннером. Этот прожженный авантюрист получил при содействии русских концессию от корейского правительства на эксплуатацию лесов по реке Ялу. Добившись субсидии в два миллиона, он основал «Русское лесопромышленное товарищество», куда и вовлек августейшую чету, Плеве, адмирала Алексеева и контр-адмирала Абазу в качестве главных пайщиков. Когда же на Дальнем Востоке стали сгущаться тучи, Безобразов сумел уговорить царя «всыпать япошкам по первое число».
Не дремал и потсдамский кузен русского государя, кайзер Вильгельм. Он довел до сведения микадо, что это Николай посоветовал ему в свое время ввести флот в Цзяочжоу и Киао-Чао, дабы потом совместными усилиями продвигаться в глубь Азии. Последовал обмен демаршами и представлениями, разъяснениями и контрдоводами. Чтобы разрядить обстановку и предотвратить дальнейшее охлаждение между родственными царствующими домами, Николай предпринял поездку в Германию. Царская чета взяла с собой в Дармштадт внушительную свиту, в которую вошли высшие чины военного ведомства, генералы из царской военно-походной канцелярии, министр двора Фридерикс и министр иностранных дел Ламздорф. Разумеется, каждая из высоких особ привезла с собой адъютантов, порученцев, шифровальщиков и телеграфистов. Весь штаб с удобствами разместился во дворце великого герцога Эрнста Людвига, любимого брата русской государыни. Отсюда Николай двигал армиями на тихоокеанском театре, слал распоряжения губернаторам и буквально засыпал корреспонденциями своего дальневосточного наместника и компаньона по концессии на Ялу адмирала Алексеева. Все тайны русского генерального штаба оказались как на ладони. Специалисты вермахта едва успевали расшифровывать и переводить на немецкий язык документацию из Харбина, Порт-Артура, Петербурга, Севастополя и Либавы. Наиболее интересные письма анонимно переправлялись в японское посольство, откуда в дипломатических вализах прямиком доставлялись в Токио.
Кузен Вилли отнюдь не желал уничтожения России. Судьбы Романовых и Гогенцоллернов завязаны на небесах в неразрывный узел. Но это ничуть не мешает райху, который превыше всего, чуточку потеснить русского медведя. Хорошенькая трепка на Востоке сделает Ники уступчивым на Западе.
Русская контрразведка скоро обнаружила утечку секретнейшей информации, но боялась сдвинуться с места, потому что следы вели в Дармштадт, где пребывала императорская чета. Витте возмущался «вакханалией беспечности», но тоже ничего не предпринял. Только когда Фридерикс вернулся в столицу, Сергей Юльевич решился ласково его упрекнуть:
– Как вы могли столь равнодушно взирать на преступное отношение к интересам государственной безопасности!
Но барон только плечами пожал:
– Что я мог сделать, Сергей Юльевич? Я обращал внимание государя на опасность утечки и перехвата сведений, но его величество ничего изменить не пожелал…
Как неузнаваемо переменились солнечные пляжи Купальных мест! Взбухли потемневшие от дождей пески. Ветер рвет облака, треплет колючую метлицу. Неприютное море гонит глинистую в остервенелой пене волну. Куда девались изящно выгнутые ландо и роскошные тильбюри во вкусе минувшего века? Ловкие кавалеры в диагоналевых брючках, жеманные дамы и весь их пленительный реквизит: вуалетки, ажурные чулки, французские каблуки, муаровые мешочки – куда оно все исчезло? И с пляжа кабинки свезли. И смеющиеся купальщицы в полосатых костюмчиках разъехались. Замолкли духовые оркестры, растаяли ароматы «Испанской кожи», «Сердца Женетты» и нестареющей «Шанель № 5». Как холодной волной слизнуло вкрадчивое очарование Северной Ниццы.
Заглушая накат, всхлипывает итальянская шарманка: «Разлука», «Тоска по родине». Одноногий бородач в лохматой маньчжурской папахе ковыляет на костылях. Лацис или, может быть, Силиниек вернулся в родные края. Он покамест внове, возбуждает общее участие и любопытство.
Грозное, неотвратимое будущее лишь смутно угадывается, мерещится в минуты прозрения и пустоты. Шумит окрашенный охрой залив. Вышвыривает на берег скользкие бурые кучи травы, огрызки лодок, сорванные с сетей поплавки. Что-то еще случится там, на краю света, где молния проносится над океаном, извилистая и колючая, словно дракон…
Переменился и ласковый лес на дюнах. Сквозь замшелые стволы сосен и хмурую хвою ельника беззащитно сквозят бледно-желтые листья березок, ольховая ржа и трагический лихорадочный пламень рябин.
Одинокий офицер бредет по раскисшей тропинке. Время от времени подносит к глазам призматический бинокль и озирает пустой горизонт. Нет, он никого не ждет и не ищет. Просто гуляет.
Ошалевший, порывистый ветер раздувает серебристые полы его суконной шинели, продымленной кислой селитрой далекой войны. И все ему чуждо в родной стороне, и сам он чужой здесь, как залетная песня цыганки: «Ой да, ой да бида прэлэндэ накачалась: чай разнесчастна навязалась».
У мокрых клумб, прислонясь к фонарю, покуривает заросшая личность в мохнатом бушлате. Как отобедавший жуир, смакует пахучий окурок сигары.
– Доне келькшоз пур повр офисье, – безбожно коверкая язык, канючит бродяга и для верности повторяет: – Подайте что-нибудь бедному офицеру.
– Как же это вы, братец? – Поручик с биноклем лезет в карман за портмоне. Дает серебряный рубль с профилем обожаемого монарха.
Бродяга выплевывает сигару и от избытка чувств пытается облобызать благодетелю ручку.
– Мерси боку! – Он провожает офицера увлажненным взглядом до самого кургауза. Как нежную музыку впитывает угасающий хруст гравия под сапогами. Вот и ушел, скрылся за поворотом. Зыркнув заплывшими глазками по сторонам, оборванец разжимает ладонь. Уныло блестит в ранних сумерках серебряная, с именной надписью, крышка часов.
– Клевые стукалы у масалки. – Карманник прищелкнул языком, сунул часы за пазуху и в один миг сгинул.
Пусто в это блеклое предвечернее время в лесу и на пляже, на мокрых, усыпанных желтой листвой линиях курортных местечек. Каждый человек на виду, самый бесцветный прохожий привлекает внимание.
У конторы купального заведения Максимовича поручика остановил франтоватый студент.
– Который теперь час, господин офицер?
– Извините, забыл дома, – буркнул поручик, пошарив по карманам. И пошел своей дорогой.
Ни часов, ни цепочки! Черт с ними, конечно, да только жалко: от товарищей память. Надвинув козырек на брови, раздраженно дернув щекой, поручик решительно повернул обратно, к станции, где подремывал под навесом жандарм в долгополой шинели, смазных, с напуском, сапогах и круглой мерлушковой шапке. На перекрестке, у самой аптеки, отпускной фронтовик чуть было не угодил под лошадь. Обдав его навозной жижей, прогрохотала разболтанная пролетка. Извозчик в немецком цилиндре и скучающий господин в черном пальто даже не обернулись.
Перестрелять бы всю эту сволочь! Поручик зачем-то навел бинокль вслед подпрыгивающему по мокрой мостовой экипажу. Но что могла сказать ему покачивающаяся на рессорах спина? Тем более что графа Рупперта он и в лицо-то едва бы узнал, хотя учились они в одном кадетском корпусе. Брезгливо отряхнув шинель, поручик сплюнул:
– Сволочь!
Дракон уже дохнул пламенем. Но прежде чем пожрать укрепленные форты, полки, крейсера, оно опалило души. Опережая весть о конфузе и ярости поражения, подобно эпидемии, начала распространяться нервическая озлобленность. Растущая в обществе напряженность прорывалась повсеместно и в самых разнообразных формах. На крыльях ночи летели истерика, срыв, пьяный бред. И леденящая нирвана кокаина, когда на людях у какой-нибудь коротко остриженной и гибкой дамочки, затянутой в платье из кожи гремучей змеи, вдруг белел замороженный носик.
Студент, повстречавшийся поручику у конторы Максимовича, вышел на Третью линию и направился вдоль дюн. В фуражечке с крохотным козырьком и на прусский манер без полей, с нарочито отвороченной левой полой шинели, чтобы видна была белая шелковая подкладка, он казался типичным студентом-драгуном, беспечным искателем приключений. Сколько таких мотыльков отлетало за лето над взморьем и исчезло вместе с надушенной веселой толпой, праздничной музыкой, фейерверком и белыми цветами жасмина в дюнном лесу, где было произнесено столько взволнованных клятв, столько сорвано поцелуев!
Но зачем так беспокойно трещит черно-белая сорока с длинным хвостом? Как траурная бабочка, порхает она с ветки на ветку, завороженно вьется над зарослью бузины.
Э, да там, кажется, скверно.
Увидев торчащие из кустов ноги в яловых, известкой забрызганных сапогах, студент насторожился и, крадучись, придвинулся ближе. Так и есть: человек лежит ничком. Может, мертвый, а может, и пьяный. По виду мастеровой. Поношенный пиджачок, латаные штаны, синий картуз в стороне валяется. Только нет, никакой он не пьяный! Рука странно, неестественно загнута – на безымянном пальце оловянное колечко – и волосы на затылке сплавились, как от черного меда. Тут же и коченеющие осенние мухи вьются. Сонно жужжат, притянутые липким тлетворным запахом, которого не чуют до времени люди.
Студент осенил себя крестным знамением, попятился и быстро-быстро зашагал прочь. Не видел он и не слышал, как скрипнула препротивно дощатая дверца с выпиленным под сердечко окошком и выскользнул из ближнего сортира щекастый мужчина солидной комплекции.
Ковырнув длинным ногтем мизинца мушку усов, он закрылся поднятым воротником и бочком заспешил следом.
Проводив студента аж до самой дачки с верандой, застекленной разноцветными квадратиками, он задумчиво покрутил носом и пропал в соснах. А студент долго топтался на крыльце, откашливаясь в кулак, соскребал о железную скобу грязь с подошв. Наконец все же решился и позвонил. Открыла ему сама госпожа Эльза. Оживленная, в белой бережевой кофточке с рюшами и воланчиками, она кинулась на долгожданный клекот дверного колокольчика, но вдруг застыла разочарованная, погасив на пороге порыв.