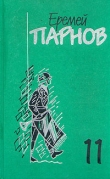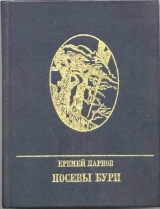
Текст книги "Посевы бури. Повесть о Яне Райнисе"
Автор книги: Еремей Парнов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
ГЛАВА 26
Гнетущий призрак всеобщей забастовки еще витал над извилистыми улицами Москвы. Но электрические луны уже гнали прочь ледяное оцепенение и мрак осенних ночей. Гибельный вал отхлынул, стало легче дышать, и упоительное слово «свобода!» кружило головы терпким, опасным хмелем. Как хотелось либеральному обывателю поверить в то, что беспорядки и неурядицы последних дней безвозвратно канули в Лету! Как непривычно лестно и празднично было ощущать себя гражданином – великое слово! – европейской конституционной державы, благополучно выскользнувшей из огня неудачной войны, избежавшей кошмаров братоубийственной бойни. Незнакомые ранее между собой полупьяные господа заключали друг друга в объятия и обменивались троекратным лобызанием. Крепко, весело, от широкой души. Глядя на праздничные толпы, в которых шныряли филеры с красными бантами, и впрямь можно было подумать, что вся Россия ликует.
Но то лишь пена коловращалась на поверхности бурных, непроницаемых вод. Не только мира, но и сколько-нибудь длительного перемирия между революцией и самодержавием быть не могло. ЦК РСДРП взял курс на восстание. Ждали приезда Ленина из-за границы. Московский комитет размножил в количестве десяти тысяч экземпляров ленинскую брошюру «Две тактики социал-демократии в демократической революции». Не видно было в ликующей сумятице тех, кто возвратил первопрестольной столице свет и тепло, включил аппараты Морзе и насосы водопровода, пустил трамвай. Они вернулись на свои места, словно встали на боевые посты. Все еще было впереди. Ленин писал не о днях, не о неделях борьбы.
«Мы вступили теперь, несомненно, в новую эпоху; начался период политических потрясений и революций».
Не питали иллюзий насчет гражданского мира и стратеги охранного отделения. Пока формировались новые казачьи сотни и драгунские эскадроны, в таганских трактирах и линиях Охотного ряда разбитные затейники в одинаковых каракулевых шапках пирожком задарма потчевали блатную и подзаборную пьянь.
Но чем гуще за кулисами сумрак, чем настороженней тишина, тем оглушительней звучит медь духового оркестра, тем ярче волшебный свет рампы.
Жадно прихорашивалась хлебосольная старушка Москва. Словно заклиная духов тьмы, до утренних зорь переливались радужными огнями хрустали на Тверской, изобильно сияли роскошные магазины Арбата.
Спешно прикатил из Ниццы Елисеев. В безукоризненном фраке с алой розеткой ордена Почетного легиона, коим был удостоен за щедрое пожертвование на всемирную выставку, великосветский миллионщик самолично встал за прилавок. Ловко завязывая репсовые банты на золоченых коробках, обворожительно улыбался дамам и одаривал детишек шоколадными бомбами. Торговля шла бойко, как никогда. Одного вина по случаю свободы было продано больше чем на сто тысяч.
Эх, завивайся, горе, веревочкой! То ли и вправду избавление от вселенского ужаса нечаянно снизошло, то ли просто короткий проблеск выдался. Не хотелось думать. Не терпелось знать. В церквах торжественно гремели сытые диаконские басы. Крестный ход с чудотворной иконой Иверской богоматери прошествовал через Красную площадь. В чистеньких трактирах, где даже курить не положено, ражие мяснички проливали слезу под сладкое пение слепых кенарей. Из обещанных свобод первой вошла в жизнь свобода игорных клубов.
– Банчок, милостивые государи.
С поразительной быстротой жизнь возвращалась в привычное русло. Возобновилось движение на железных дорогах. Первые же чугунные скаты начисто стерли с рельсов ржавый налет. И заблестели кованым серебром колеи, уводящие во все концы необъятной России. Как и прежде, заголосили по утрам за слободками и заставами гудки. Хмурый оголодавший люд темными ручьями вливался в заводские ворота, пропадал до срока под каменными сводами промороженных за недели цехов.
Бородатые дворники при медалях и бляхах спешно выметали мусор с загаженных тротуаров, а выпавший было снег, сухой и шершавый, как толченое стекло, развеяли ветры.
Внешне все было, как прежде, но новая эпоха уже отсчитывала свои неповторимые минуты.
Дни стояли студеные, ясные. Сквозь голые ветви деревьев, чернеющих на бульварах и палисадниках Садовых улиц, дымилась пугающая заря. Часы на Спасской только-только успевали отбить четыре, как все заволакивал синий туман.
Плиекшан и Ян Асарс, тоже посланный на съезд городов от Риги, приехали в Москву седьмого ноября. За три недели, минувшие со дня обнародования царского Манифеста, все следы уличных беспорядков были уже тщательно стерты. Древняя столица возвратила себе исконное безалаберное великолепие.
В первое же воскресенье Плиекшан поехал на Сухаревку порыться в книжном развале. Знаменитая башня с часами, в которой колдун Брюс составил предсказания на сотни лет вперед и где, как уверяла легенда, в тайниках хранилась черная книга, написанная самим дьяволом, стала видна, как только выехали на Садовые. Потом показались зеленые крыши Шереметьевской больницы и тысячи разноцветных, сооруженных на скорую руку палаток. Несмотря на раннее утро, широкая улица была запружена народом. «На грош пятаков» – манил веселый девиз толкучки, где за бесценок покупают и дешево продают.
Лавки букинистов и антикваров-старьевщиков размещались в «аристократической» части рынка, вблизи Спасских казарм. Пробиваясь сквозь толчею, Плиекшан еще издали заметил монументального полицейского офицера с длиннющими черными усами, свисающими на грудь. Он деловито рылся в бумажном хламе, деликатно, как и положено завзятому книжнику, перебирал пожелтевшие гравюры. Власти обычно избегали Сухаревку, отданную на откуп бродягам и ворью. И если переодетые сыщики заглядывали иногда по делам службы к оружейникам или часовщикам, то у букинистов полиции делать было уже совершенно нечего.
Плиекшан из любопытства задержался у развала, в котором копался высокий, судя по погонам, полицейский чин.
Выудив из-под груды старых журналов свежий номер «Будильника», он присвистнул и жадно впился глазами в какую-то карикатуру. Заглянув через плечо, Плиекшан увидел грубо нарисованный забор, каланчу с вывешенными шарами, означавшими «сбор всех частей», и оскаленную собаку, тщившуюся достать висящие на заборе лохмотья. Внизу была надпись: «Далеко Арапке до тряпки».
– Это как же понимать? – довольным басом пророкотал полицейский, поднимая глаза на букиниста. – А, сударь мой?
– Не могу знать, ваше сиятельство.
– Зато я могу-с! Тряпка – по созвучию, надо полагать, господин Трепов? Что же касается Арапки, то тут даже гадать не приходится! Господина Арапова, моего непосредственного начальника, так сказать, пропесочили? – Он счастливо засмеялся. – Вот идиоты! И почем?
– Сорок копеек-с. Раритеты бесцензурной печати.
– Беру, – радостно пророкотал черноусый. – Надо будет сказать, чтоб изъяли всю эту пакость. Пошлю городовых.
– Кто этот оригинал? – поинтересовался Плиекшан, когда полицейский, бережно упрятав покупку в карман шинели, отошел к другому лотку.
– Сам полицмейстер Огарев, – почтительно понизил голос букинист. – Они коллекционируют стенные часы и шаржи на полицию всех времен и народов. Довольны остались… Постоянный клиент!
«Плоды свобод! – усмехнулся про себя Плиекшан. – Как это похоже на морозовский бомонд».
Очередное заседание было назначено на понедельник, на вторую половину дня.
– Куды прикажете, гражданин барин? – осклабился ухарь извозчик, с профессиональным чутьем уловивший настроение клиентуры. – Мигом доставим.
– Особняк Морозовой знаете? – спросил Плиекшан.
– Варвары Алексеевны? Как же-с! Это мы с нашим удовольствием. Четвертак.
– Ведь совсем рядом.
– Близко ли, далеко – для нас без разницы, потому как свобода ноне, гражданин барин. Душа горит! В первой-то день одни рублевики да трешницы сыпались, а теперича, как пообвыкли малость, подешевле.
– Ну, раз пообвыкли, – усмехнулся Плиекшан, – тогда дело другое. Трогай!
Извозчик свистнул и, подтянув армяк, хлестнул лошаденку. Покачиваясь на крутых рессорах, пролетка покатила к Театральной площади и далее, мимо Охотного и Моховой.
Во дворе университета шумно митинговала молодежь. Над темной толпой клубился пар. Полиция оцепила тротуар, но за ворота не проходила. Движение по улице замедлилось.
– И первый из них – царь! – донеслись возмущенные слова неразличимого в курящемся сумраке оратора. – В личном владении у него семь миллионов десятин…
С неожиданной остротой и светлой грустью вспомнились студенческие годы в Петербурге. Свободный и необъятный дух миллионного города. Кружки, сходки, первые нелегальные брошюры – словно ступени лестницы, увлекающей все дальше и дальше, все быстрее и выше… И вдруг однажды с беспощадной обнаженностью сделалось ясно, что прекраснодушным надеждам не суждено сбыться. Ни он сам, будущий присяжный поверенный и знаток законов, ни подобные ему не смогут защитить униженных, ничем не сумеют помочь обездоленным. Тщетны и смешны потуги бороться с системой в рамках ею же выработанных правил. Это лишь так говорится, что законы правят царями, а не цари законами. В руках преступной власти само право становится орудием подавления. Выкристаллизовалось главное: переменить основы до самых корней. «Манифест Коммунистической партии», Плеханов и Герцен подсказали, с чего начать. На летние каникулы Плиекшан вместе с Петерисом уехали в Кокнесе на хутор Бирзниеки, где начали сколачивать революционные группы из батраков и народных учителей. Цель казалась тогда осязаемо близкой. Подумать только, с тех пор прошло почти четверть века… Какая трудная, какая непрямая была дорога и сколько еще путаницы!
Плиекшан вспомнил вчерашнего краснобая на съезде и внутренне поежился. До чего же шикарная публика собралась в роскошном дворце Варвары Алексеевны. Либеральная хозяйка уступила народным представителям беломраморный концертный зал, в фойе уставили столы, которые ломились от изысканных закусок, и за все такая черная неблагодарность! Подозрительный народ стал забредать на огонек, всякие социалисты, революционеры и даже социал-демократы, которые говорят такие странные и неумеренные речи и курят такой дешевый табак, что Варваре Алексеевне стало дурно. Пришлось для подобной публики выделить помещение в мастерских своей огромной фабрики. Во дворец она приглашала теперь лишь представителей с хорошими манерами и без крайностей.
– Приехали, ваше здоровье!
Плиекшан ступил на тротуар и, расстегивая на ходу пальто, заспешил к ярко освещенному подъезду. Если бы не встреча с представителем Московского комитета, о которой было заранее договорено, он бы ни за что не вернулся в этот кричащий о миллионной роскоши дворец, где журчит фонтан среди тропических растений зимнего сада и, вторя ему, воркуют самодовольные краснобаи в накрахмаленных манишках.
Бросив одежду ливрейному слуге, Плиекшан взбежал по мраморной лестнице. Он еще пребывал под влиянием брезгливой неприязни, которая охватывала его при мысли о «народных представителях», но продуманный тонкий уют морозовского особняка уже обволакивал неощутимо и властно, смиряя раздражение, замедляя порыв. Теплый воздух нежил заледеневшие щеки, ковры и бархатные драпировки мягко заглушали звуки, темная бронза и китайский фарфор ласкали взгляд. В зал заседаний Плиекшан вошел почти усмиренным, ощущая против воли даже нечто похожее на довольство.
Выступал уже знакомый ему анемичный господин, представитель Митавы:
– …для этого нам необходимо вооружиться терпением, господа.
– Вот именно вооружиться! – Плиекшан задержался в проходе. – Только оружие ваше давно уже проржавело, есть другое, получше!
– Но позвольте, господин Райнис, – обиделся оратор, – мы как раз обсуждали здесь свободу забастовок!
– Ах, свободу! – Повернувшись к сцене, Плиекшан вцепился в шелковую обивку кресла. – Больше всего вы боитесь, что рабочие истолкуют ее ошибочно. Пусть уж бросают работу, даже коллективно, только бы не мешали работать тем, кто не хочет участвовать в забастовках, попросту говоря, штрейкбрехерам. Разве не так? Со штрейкбрехерами надо обращаться так вежливо и бережно, что нельзя на них ни косо посмотреть, ни плюнуть с презрением – ведь это уже насилие! – Он обратил лицо к залу: – И вы, господа, тоже за свободу для тех, кто продает и бросает своих товарищей?
В зале всколыхнулся недовольный ропот. Кое-где раздраженно зашикали. Сидевшая в первом ряду Варвара Алексеевна нервно скомкала надушенный платочек.
– Это возмутительно, – оратор задохнулся, – и недостойно поэта. Вы повсюду источаете яд, сеете ненависть! Почему? Зачем? Вы вечно всем недовольны, вечно чего-то требуете! Вы очень злой человек!
– Вы правы, злой. – Плиекшан неловко опустился в кресло. – Мы, злобные социал-демократы, называем ваши реверансы по отношению к Витте грубым словом «торг» и не позволим продать народные права за чечевичную похлебку.
– Не прерывайте оратора! – сзади послышался негодующий выкрик.
– Я никого не прерываю, – обернулся Плиекшан. – Но когда меня призывают терпеть, я по праву, гарантированному мне конституцией, во всеуслышание заявляю: «Дудки! Не хочу!»
В перерыве к Плиекшану подошел высокий мужчина в черной косоворотке.
– Ловко это вы их, Райнис, – кивнул он с добродушной усмешкой. – Ну, будем знакомы, я – Денис.
– Здравствуйте, товарищ, – сдержанно поклонился Плиекшан. – Слышал о вас.
– Вам не надоела эта говорильня?
– А что делать? Затем меня сюда и послали. – Он быстро огляделся и, найдя уединенное канапе возле бронзовой обнаженной наяды со светильником на голове, бросил: – Пойдемте.
– Может, вообще мотанем отсюда? – предложил Денис.
– Согласен, – кивнул Плиекшан. – Вы представитель Комитета? – спросил он, когда они вышли на улицу. – Могу я передать через вас нашу просьбу?
– Говорите.
– Мы располагаем сведениями, что через Москву на Ригу должны проследовать составы с войсками. Вы понимаете, что это значит?
– Когда именно?
– В середине ноября. Более точных указаний нет. Сумеете задержать? Сейчас у нас в руках почти вся губерния, но если пришлют войска, да еще с пушками, нам придется туго.
– Эх, мама! – Денис махнул рукой. – Кабы не меньшевики в Петербургском Совете, вся Россия была бы у нас в руках… Вы куда?
– В гостиницу.
– Провожу.
– Это еще зачем?
– Не ваша печаль, товарищ Райнис. – Денис лихо сдвинул картузик на макушку. – Рабочая Москва в ответе за вас перед латышским пролетариатом.
– Не понимаю. – Плиекшан резко остановился.
– Не будем спорить, – тронул его за локоть Денис. – Комитет знает, что делает. Мы ведь тоже кое-какие секреты знаем. И на Сухаревку вы уж, пожалуйста, более не ходите.
Прощаясь с Денисом у подъезда гостиницы в Столешниковом переулке, Плиекшан не обратил внимания на веселого лотошника в засаленной поддевке, кутавшего под одеялом горячие пироги.
– С вязигой каму, гаспада хар-рошие? Агнем пышет!
Вскоре из подворотни вынырнул и румяный молодец в коротком зипуне и картузе-малокозырочке. Подобравшись бочком к лотошнику, осипшим голосом прошелестел:
– Бережется, сукин сын?
– Ой бережется, Филя! – поддакнул лотошник. – У боевика-то небось шпайер за пазухой. Ну ничего, даст бог…
ГЛАВА 27
С лесистого холма у Талсинской дороги виден весь брюгенский замок: белые стены, укрепленные понизу гранитным валуном, башни с прямоугольными зубцами, арки, контрфорсы и соединенный с прудами кольцевой ров. В сером овале бинокля проплывают непроглядное небо, оголенные ветки за чугунной оградой, зарешеченные оконца барского дома.
Единственный мост, по которому можно проникнуть в замок, поднят и завис над стылой туманной водой. На круглых башнях по обе стороны дубовых, окованных железом восточных ворот зеленеют бронированные щитки пулеметов. Как странна, как непривычно резка эта зелень под мокрым небом, рядом с тусклой стеной вечно сырого известняка! Давно отцвели и потемнели пруды, деревья сбросили последние ржавые листья, и только оружие, неподвластное переменам, поблескивает летней защитной окраской, которую каждый раз заново освежают дожди.
Любовно, со знанием дела укрепил граф Рупперт родовое гнездо. На главной башне, где по торжественным дням поднимали флаг, установил орудие береговой обороны. И хотя его поворотный механизм неисправен, а зарядов хватит разве что для хорошей пристрелки, хозяин чрезвычайно гордился тяжеловесной игрушкой, ее длинным стволом и впечатляющими заклепками лафета.
– Хорошее получилось пугало для красных ворон, – пояснил он на церемонии освящения, выплеснув в жерло стакан водки. – Ей совсем и не нужно стрелять. Waldbrüder[14]14
лесные братья (нем.).
[Закрыть] разбегутся от одного вида. Пугало ведь тоже не стреляет. Только колышет на ветру своими лохмотьями.
Если в эпизоде с пушкой Рупперт и проявил известное легкомыслие, понять и одобрить которое мог скорее Кока Истомин, нежели соседи-бароны, то в остальном он выказал себя с самой выгодной стороны. Брюгенская цитадель стала неприступной. Все люки и подвальные лазы Рупперт велел завалить камнями, а водостоки снабдить толстыми решетками. Драгоценные витражи «испанской» гостиной были сняты и заменены дубовыми ставнями, в которых сделали узкие пропилы для ружейных стволов; высокие окна двухсветного оружейного зала почти до самого потолка завалили мешками с песком. С помощью младшего Остен-Сакена, специалиста по фортификации, Рупперт даже минировал дамбу, удерживающую высокие воды прудов. Взорвав ее, можно было в короткий срок затопить все подступы к замку.
Одобряя оборонные мероприятия наследника, старый граф терпел драгун и самоохранников, заполонивших помещение для прислуги, хотя они совершенно загадили парк, конюшню и цветники. Он стойко сносил постоянные попойки и дикие бесчинства рыцарской молодежи. Казалось, возвратились лихие денечки феодальных междоусобиц, когда дворянские усадьбы больше походили на разбойничьи притоны. Все чудесным образом повторялось. Во время ночных вылазок удалые кавалеристы затаскивали в замок первых попавшихся женщин, отмечая зарубками на прикладах число побед. Напивались тоже, как в юности деды, до рвоты. Жгли в саду костры, на которых жарили овец, отобранных у подозрительных хуторян. Без всякого повода открывали пальбу или устраивали фейерверк. Все эти бесчинства не столько раздражали, сколько тешили безумного Вилли. Тем более что впервые за много лет были полным-полнешеньки каменные клетки и пыточные камеры замкового подземелья. Не надо было больше нанимать платных узников из батраков. Карательные рейды не давали оскудеть потоку «орущего мяса», как выразился однажды престарелый садист. Каждый раз, когда привозили телегу с узниками, он менял ночной колпак на берет с пером, надевал золотую маркграфскую цепь и, цепляясь за гайдука-самоохранника, ковылял в подвал. Там и вершил свой суд, сидя на железном кресле, словно князь преисподней, карающий грешников.
– Сто палок, – сладострастно шептал слабоумный старик, принюхиваясь к затхлой сырости нечистот. – А этому голубчику ребрышки пересчитать, постепенно, по одному, чтобы было слышно, как затрещат. – Он потирал потные руки и, высунув язык, выдумывал новые казни. – Ножки, ножки ей выкрутите в суставчиках, чтоб неповадно было! – А то вдруг подскакивал, как шалун на горшке, истерически вопя: – Соль! Керосин!
Но только время еще не пристало. Через месяц-другой, когда наступит страшная зима, дойдет до соли и до керосина. Тогда сами сиятельные господа, вроде князя Ливена или графа Палена, не побрезгуют палаческим ремеслом. Пока же, не обращая внимания на пускавшего пузыри идиота, самоохранники по-простецки пороли плетьми и топтали коваными сапогами заподозренных в связях с waldbrüder батраков. А Вилли подскакивал все выше и выше, хлопал в ладоши и приговаривал:
– Так ему, так! Что, не нравится, орущее мясо?! Соль! Керосин!
От избытка впечатлений он настолько повредился в рассудке и захирел телом, что пришлось определить его в закрытый санаторий. Рупперт самолично отвез родителя в Тальсен, где уже дожидались спешно вызванные из Дрездена санитары. В знак траура на главной башне вывесили и приспустили флаг…
– Это еще что за манипуляции? – подивился наблюдавший за церемонией Лепис и передал бинокль Учителю. – Поднимают, опускают – ни черта не поймешь! Погляди.
– Никак, старый людоед загнулся, – высказал предположение Матрос. – А может, какой другой родственник в фатерлянде? Самое время.
– Полагаешь? – Лепис потянулся за биноклем. – Не нравится мне эта тишина.
– Сколько ж можно гулять? – Матрос не спускал глаз с Замка. – Пора и угомониться. Гнида, опять же, на моторе укатил… По-моему, момент подходящий. Обидно, конечно, главного гада из рук выпускать, но ничего не попишешь – оружие важнее.
– Он правильно рассуждает, – тихо сказал Учитель. – А Гнида от нас все равно никуда не уйдет.
– Будем начинать, – преодолев последние колебания, сказал Лепис и спрятал бинокль в футляр. – Внезапность и еще раз внезапность. Все остальное, как договорились.
Он поднял воротник, натянул тонкие замшевые перчатки и зашел за деревья. Уныло похрустывала под ногами опавшая листва, цепко схваченная ночными заморозками. Как лики великомучеников, в проржавевших дырах оклада постно лоснились желуди. Горько пахло дымком. В какое тусклое утро приходилось начинать долгожданное дело! Лепис подсел к костру, у которого грелись командиры боевых дружин. Выхватив горящую ветку, прикурил тонкую египетскую папиросу. Несколько раз торопливо затянулся и швырнул окурок в огонь.
– Через полчаса начинаем, – сказал он, защелкивая крышку часов. – Прошу встать!
Дружинники поднялись, отряхивая налипшие сухие листья и пепел костра.
– Нам противостоит около пятидесяти хорошо вооруженных полицейских и самоохранников. – Лепис медленно прошелся вдоль строя. – Это серьезная сила, хотя и меньшая, чем ожидалась. Отсутствие драгун лишь облегчает нашу задачу, но ничем существенно ее не меняет. Поэтому действовать будем по разработанному плану. Отвлекающий маневр мы отставим, а охрану дорог, напротив, усилим, чтобы не подпустить подкрепления. Замок и суд начнем штурмовать, как договорились, одновременно. Всем ясно? – Он остановился, но, не дождавшись ответа, продолжил: – Полицейских уничтожать без жалости. И стражников, и урядников. Управляющего, старост, усадебных писарей – под замок. Волостное начальство – туда же. В случае сопротивления расстрел на месте. Челядь не трогать. Они такие же трудящиеся, как и мы. Задания отрядам прежние: мы с добельцами нападаем на мост и пулемет, тукумцы и талсинцы берут замок и суд. По три человека выделяется из каждой дружины на охрану дорог и поступает в распоряжение командира взморской группы. Вопросы будут?
– Сигнал? – спросил бородатый командир талсинцев. – Какой сигнал? Часиками-то мы пока не разжились.
– И напрасно, – сухо ответил Лепис. – Часы такое же оружие боевика, как и револьвер… Сигналом послужит взрыв. Люцифер подорвет пироксилином пару телеграфных столбов. – Он знаком подозвал Люцифера: – Бери двоих ребят и сразу же отправляйся на почту. Ясно? Сначала поломаете телеграфные и телефонные аппараты, потом заберете деньги, ценные бумаги, марки, под конец рванете столбы. Отправляйся, тощий черт, не задерживайся.
– Ага! – Люцифер бросился вниз по склону. – Бобыль! Батрак! – крикнул он на бегу.
– А теперь все по местам – и к замку, – скомандовал Лепис. – Живо!
Невидимые, прячась в канавах вдоль колючего от стерни ржаного поля, потянулись боевики к господскому замку. Пригибаясь в ельнике у опушки, хоронясь в голых кустах боярышника, медленно смыкали неумолимое кольцо. Как бесплотные тени, прошмыгнули по мельничной дамбе, вдоль сараев, по кочковатым скотопрогонам подобрались к самому рву, в котором зеленела вонючая жижа.
Взлетела и с негромким стуком впилась в сероватую глину ржавая кошка. Медленно натянулся пеньковый канат. Один за другим, неуклюже суча руками, перебрались лесные братья на другой берег, к западной стене, которую нельзя увидеть из замка, и разделились на две группы. Сжимая в руках многозарядные пистолеты и маузеровские винтовки, проскользнули вдоль стен, чтобы встретиться у ворот, где высечен крест и девиз меченосцев: «In hoc signo vinces!» – «Под сим знаком победишь!».
Когда же неподалеку с коротким промежутком громыхнули два взрыва, равнина перед замком ожила и наполнилась бегущими людьми. Потрясая берданками, размахивая вилами, косами и цепами, бросились они на штурм ненавистного разбойничьего гнезда.
Настал долгожданный день гнева. Казалось, возвратились легендарные времена крестьянских войн, когда под знаменем башмака ополчились холопы на закованных в броню рыцарей. Но век электричества, четырехтрубных крейсеров и ротационных машин напомнил о себе прерывистым стрекотом пулеметов. Взрывая глину пылевыми фонтанчиками, обозначилась волнистая полоса смерти. Крестьяне попадали на холодную землю и замерли, распластавшись, боясь оторваться. Оцепенением осени дышала она, безнадежным привкусом успокоения.
Но желтое пламя блеснуло, башни затуманились в едком дыму – и пулеметы замолкли. Граненые македонки сделали свое дело. Прежде чем опомнились прижатые к земле батраки, талсинская группа начала атаку ворот. Подорвав запоры, боевики протиснулись в узкую щель меж провисшими створами и, паля наугад по мечущимся в удушливом селитренном чаду теням, бросились на каретный двор. Фигура в светлой шинели мелькнула в проходе меж каменными сараями.
Бородатый командир выстрелил, но промахнулся, и пуля, высекая искру, взвизгнула о булыжник.
– У, черт! – выругался он сквозь зубы.
– Ничего, – спокойно заметил Лепис.
Прижимаясь спиной к воротам сарая, он быстро заглянул в узкий каменный лаз и, увидев убегающего урядника, пальнул по нему от бедра. Полицейский споткнулся на бегу, сделал еще несколько судорожных шагов и, словно борясь со встречным ветром, опрокинулся навзничь.
– Талсинцы, через сад! – скомандовал Лепис, указывая пистолетом на поблескивающую среди колючих акаций крышу оранжереи. – Тукумцы, за мной! – качнул головой в сторону барского дома.
– А я? – глотая широко раскрытым ртом воздух, догнал его Батрак. – Куда мне? – Он локтем размазал по воспаленному лицу грязь.
– Ты? – не узнавая, спросил Лепис. – Давай тоже со мной. Быстрее! – Он взмахнул пистолетом, пропуская группу боевиков.
В саду уже хлопали выстрелы, трещали кусты и звонко лопались стекла. Со стороны суда долетали гулкие нечастые удары. Скорее всего, таранили дверь.
– Где Учитель? – осведомился на бегу Лепис.
– Надо думать, уж в замке! – задыхаясь, прокричал Батрак. – С ним Бобыль и Матрос.
В окнах усадьбы мелькнули две вспышки. Где-то совсем близко свистнула пуля.
– Давай в обход! – Лепис пальнул по окнам, из которых стреляли, и, пригнувшись, отскочил в сторону.
Мимо белой стены с башенками и балкончиками он и Батрак кинулись к боковой двери. На бегу Лепис выстрелил в зарешеченное оконце подвала, в котором ему померещилась чья-то тень.
Дверь оказалась незапертой. Ударив в нее плечом, Лепис ворвался в низкий, сумеречный коридор. В дальнем его конце завиделся белый мундир, перекрещенный ремнями. Бобыль выпустил несколько пуль и на согнутых ногах побежал за Леписом. Выпрыгнул из темноты еще один полицейский с никелированным револьвером в руке и подскочив к товарищу, притиснулся к оконной амбразуре. Оба открыли огонь одновременно. Коридор наполнился пороховой гарью. Свистящее эхо почти заглушало выстрелы. Боевики ответили вслепую и вновь побежали по гулким каменным плитам. У распахнутого окна приостановились, и Лепис выглянул наружу. По аллее, усыпанной гниющей листвой, метался обезумевший стражник, за которым, размахивая шашкой, гнался молодой боевик.
Лепис вскинул было маузер, но передумал и, подтолкнув Батрака, побежал дальше. Коридор вывел их на полукруглую лестничную площадку со звездчатым сводом. По обе стороны беломраморной лестницы были высокие дубовые двери, задрапированные темно-красным бархатом. Батрак толкнул ногой ближайшую и оказался в сумрачном двухсветном зале с арочным потолком, укрепленным поперечными балками. Оконные амбразуры были почти доверху завалены мешками с песком, а в глубоких нишах стояли черные рыцари с мечами и алебардами в железных руках. Ведрообразные ливонские шлемы венчали когтистые птичьи лапы и косые хвосты осетровых рыб. В простенках висели старинные гобелены со сценами охоты и битв и всевозможное оружие: пищали, мушкеты, бомбарды, кремневые пистолеты, кинжалы, сабли. На восточной стене под скелетом летучей мыши был укреплен двуручный регенсбургский меч, на котором болталась сморщенная почерневшая кисть. Никто не помнил уже, за какой проступок отсек ручонку у бедного пастушка один из Брюгенов. Возможно, мальчик украл яблоко из графского сада.
Батрак вздрогнул и обернулся на скрип дверной половинки.
– Что это? – спросил он вошедшего Леписа, озирая диковинное помещение.
– Оружейная комната. Не видишь, что ли?
– И ради этого дерьма мы старались? – Батрак скорчил пренебрежительную гримасу. – Нет даже маузерской винтовки! Один ржавый хлам.
– Ну, не совсем хлам. – Лепис остановился у стеклянного шкафа с изящными бельгийскими ружьецами. – «Фабрик насьональ. Льеж». Хотя и не то, что нам надо. – Он перевел взгляд на горку, в которой сверкали украшенные перламутром, эмалью и чеканкой старинные пистолеты. В раскрытых ящичках красовалось на голубом бархате номерное дуэльное оружие прославленных парижских фирм. – Хороши! – Раскрыв дверцу, погладил вороненый с золотой насечкой ствол. – То, что нас интересует, находится, надо полагать, гораздо глубже, в подвалах.
– А пушка так и не бабахнула.
– Этого следовало ожидать… Однако пойдем дальше, Батрак. Сюда мы еще вернемся. – Он прислушался к неясному шуму, едва просачивающемуся сквозь мощные стены. – Вроде палят еще. Хотел бы я знать, куда делись те два фараона, которых мы упустили?
– Кто-нибудь из ребят их обязательно хлопнет. Учитель же здесь…
Учитель со своей группкой первым проник в дом через один из люков, который случайно оказался незапертым. Матрос и Бобыль растащили камни и спрыгнули в подвал, но скоро запутались в кромешной тьме переходов. Проплутав с полчаса и отчаявшись выбраться, боевики подложили бомбу под первую попавшуюся дверь. Благодаря столь решительному маневру им удалось проникнуть в замковую кухню, где они в дыму и грохоте, как падшие ангелы, предстали перед насмерть перепуганными поварами в белых кокетливых колпаках. Залитая электрическим светом, графская поварня сияла кафелем и надраенной медью бесчисленных тазов и кастрюль. В нише, где стояли ящики с брикетами и в аккуратные поленницы были сложены березовые дрова, замерли оборванные и перепачканные сажей кухонные рабочие. Не разгибая спины, они молча смотрели на застывших у порога боевиков.