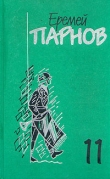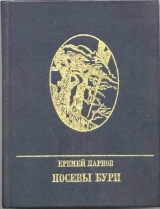
Текст книги "Посевы бури. Повесть о Яне Райнисе"
Автор книги: Еремей Парнов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
– Райнис, надо полагать? – пренебрежительно осведомился Рупперт, когда пастор закончил.
Мейендорф и Медем с удивлением посмотрели на него. Офицер флота со щедростью необыкновенной расточал сегодня свои интеллектуальные сокровища.
– Ошибаетесь, граф, – пастор сделал отстраняющий жест. – Это не Райнис. Подобные вирши поются в кирхах на мотив хорала Мартина Лютера «Нам помощь от всевышнего».
– Каково кощунство! – ужаснулся Фитингоф Второй. – У нас это было бы невозможно.
– Увы. Так обстоят дела во многих приходах Лифляндии, Курляндии, и Эстляндии – везде, где активно действуют социал-демократические агитаторы.
– Действительно, таково положение вещей, – подтвердил жандармский ротмистр. – И на то есть свои причины. Нашим хуторянам, кроме как в церкви, и встретиться негде. Разве что в корчме… Социал-демократам это тоже известно, вот они и пробуют использовать воскресные богослужения для своей агитации.
– На месте расстреливать надо, – порекомендовал Фитингоф Второй.
– Как же, расстреливать, – процедил Остен-Сакен. – А три года каторги за поджог миллионного состояния не хотите?
– Я бы стрелял, – упрямо вздернул подбородок Фитингоф Второй.
– Где же вы были, когда горел ваш замок? – усмехнулся Остен-Сакен.
– Господа! – Ливен призвал собрание к порядку.
– У меня, собственно, все. – Жандарм задумчиво наматывал кончик бороды на палец. – Можно сказать, что почти повсеместно при выходе прихожан из церкви после богослужения распространяются прокламации.
– Обыскивать надо. – У Фитингофа Второго всегда был наготове верный рецепт.
– У нас пока не военное положение, – не то в пику обер-лейтенанту, не то просто сожалея, заметил Мейендорф.
– Как видите, господа, я ничего не преувеличил, – подвел итог Билленштейн. – Обструкция немецких пасторов обычно достигает апогея именно в тот момент, когда наступает черед молитвы во здравие государя императора. Так что, сами понимаете. Сегодня вы уберете патриотических священнослужителей, а завтра социал-демократическая стихия сметет вас.
– Наладить хозяйство надо, вот что, господа! – сказал Медем. – Чего греха таить, батраки смутьянствуют не столько из-за кирхи, сколько из-за копейки. По крайней мере так обстоят дела у меня в имениях. Механизация, удобрения, повышение сортности – вот что может поднять выработку и даст возможность больше платить людям. Тогда погаснет основной, на мой взгляд, очаг недовольства.
– Это не выход, – не согласился Мейендорф. – Мы все равно не сможем платить намного больше, чем теперь. Повышение урожайности невыгодно. И без того у вас, в Курляндии, собирают по девяноста шести пудов с десятины, почти вдвое больше, чем в Вильно. Но что с того? Цены-то на хлеб падают! Вот и думай тут, как быть.
– Смелее переключаться на животноводство. – Медем явно не давал застигнуть себя врасплох. – Сеять клевер, люцерну, выращивать кормовую свеклу. Уверен, что наша шортгорнская порода еще себя покажет!
– Вы думаете? – Мейендорф спасовал. – У нас она не привилась.
– Я знаю, что в образцовых хозяйствах Лифляндии лучше зарекомендовали себя швицкая, айрширская и ангельнская породы, – так и сыпал названиями граф – знаток крупного рогатого скота. – Но по качеству молока шортгорны вне конкуренции. Мы продаем производителей даже в Копенгаген. Мой управляющий имеет медаль за отличное спаривание.
– Примите наши поздравления, Конрад. – Ливен иронически улыбнулся. – Не будем отвлекаться от насущных вопросов. Положение создалось исключительно серьезное, и я не уверен, что пожар можно залить даже молоком шортгорнских коров. Наш молодой друг и хозяин, – он ласково кивнул на графа Рупперта, – вероятно, разочарован. Признаться, я тоже, господа. Оба мы надеялись на то, что здесь будут выработаны более радикальные меры, найдены смелые решения.
– Думаю отремонтировать какое-нибудь списанное орудие и поставлю его на башню, – с готовностью откликнулся Рупперт. – Пулеметы тоже не повредят.
– Стрелять сами будете? – Остен-Сакен негодующе фыркнул. – Один, как у нас в России говорят, не выходит на бранное поле.
– Вы тут, граф Рупперт, – обратился к хозяину Билленштейн, – изволили упомянуть Райниса. – Пастор уронил седовласую голову на грудь. – Скорблю об этой заблудшей душе, поставившей свой незаурядный талант на службу дьяволу. Этот человек сеет плевелы ненависти в народе, неустанно раздувает тлеющие искры разбоя и мятежа. Если вы хотите действовать, фюрст, начните с Райниса. Без него, поверьте, сразу станет легче дышать.
– Мы с бароном, – Ливен исподлобья бросил взгляд на Мейендорфа, – уже сделали представление Пашкову.
– Я со своей стороны, – сказал Мейендорф, – предпринял отдельные маневры в высших сферах. Пока ничего определенного сказать не могу. Райниса вернули из ссылки с согласия весьма высокопоставленных лиц.
– Пока же, насколько я знаю, – пастор медленно поднял голову; от прилива крови его мясистое лицо побагровело, – сей поэтический бомбометатель воскрешает антихристианскую легенду о медвежьем сыне Лачплесисе. Вновь все мы, носители великой немецкой культуры, будем оболганы, осмеяны, обвинены во всех смертных грехах. Он науськивает на нас простой народ, выставляет нас в качестве главных виновников унижения, горя и слез.
– Почему правительство не запретит пасквильные очернительские писания? – развел руками Медем. – Черт знает чем занимаются эти господа.
– Знаете, как назвал свою пьесу Райнис? – Пастор повысил голос, и для высокого собрания так и осталось неясным, кого имел в виду Медем под «этими господами»: цензоров или же литераторов? – «Огонь и ночь»! Так будет называться это, с позволения сказать, творение. Ночь – это мы, слуги божии и потомки прославленных ливонских рыцарей, а огонь, разумеется, сам поэт, вернее, ненависть, от которой он безвозвратно ослеп. Будьте уверены, что этот огонь испепелит еще не один замок.
– Все же не следует отвлекаться на частности, – напомнил Ливен. – Вопрос надо решать целиком. Есть куда более серьезные хлопоты, господа, чем какие-то там стишки. Честное слово! Мы не можем позволить себе беспечности. Стихия не должна застать нас врасплох, беспомощными, безоружными, которым неоткуда ждать спасения. Нет, мне положительно нравится идея нашего милого Рупперта. Ничего лучшего нам все равно не выдумать. Я за самооборону, господа.
– Но люди, люди! – Остен-Сакен пришел в совершенное отчаяние. – На гайдуков нельзя положиться: они трусливы, как крысы! И притом прости меня, Рупперт, но я не представляю тебя в роли бомбардира. Пушка на крыше – это нонсенс, гипербола, что-то несерьезное.
– Отчего же? – флегматично возразил Рупперт. – Я привезу. А людей воспитывать надо. Готовить. Знаете, как из новобранцев матросов делают? Линьками.
– Матрос – другое дело, – сказал ротмистр, – его можно. Он присягу приносит. Иное дело – гайдук. Что с такого возьмешь?
– В прошлом наемные армии вполне себя оправдывали, – сказал Медем. – Здесь есть о чем подумать.
– Несомненно, – поблагодарил его улыбкой Ливен. – Среди нас достаточно военных, чтобы набрать и обучить несколько сотен приличных волонтеров. Я бы назвал это отрядами самоохраны.
– Selbstschutz! – повторил Рупперт. – Звучит энергично. А если короче – СС. Мы, моряки, обожаем сокращения.
– Затея заманчивая, – пробормотал Фитингоф-гусар. – Но встанет в копеечку.
– Целесообразно, господа, создавать крупные соединения. Совсем не обязательно размещать постоянные гарнизоны в каждом хозяйстве. Подвижные кавалерийские группы за короткое время можно перебросить на угрожаемый объект. Верно? То, что хорошо для обширных экономий типа Дундаги, не слишком пригодно для обычных усадеб. Нам следует ориентироваться на рейтеров. Как в крестьянскую войну.
– Дельное предложение, Конрад, – одобрил Ливен.
– Чем будет определяться пай? – поинтересовался Остен-Сакен.
– Я думаю, нужно установить единый для всех взнос с каждой усадьбы, – пояснил Медем. – Независимо от доходности и размеров. Иначе пойдет такая неразбериха, господа, что сам черт не расхлебает. В нашем краю около тысячи трехсот рыцарских феодов. Если для начала каждый даст хотя бы пятьсот рублей, то есть купит одного солдата, то в сумме это составит шестьсот пятьдесят тысяч, или десяток приличных эскадронов.
– Вольфам это обойдется дороже всех, – сообразил Рупперт. – У нас тридцать шесть имений.
– Но ведь и вас тоже много, – разъяснил Медем. – А я за все свои замки буду платить один. Мне кажется, что так будет справедливо.
– Крупные приходы тоже могли бы участвовать в общем деле, – предложил пастор. – Выплачивая по четверти или даже половине пая.
– Половинная безопасность? – пошутил Медем. – Ну ничего, мы это еще уточним. Значит, мое предложение проходит?
– Я думаю, нам есть с чем обратиться к коллегам, – одобрил Ливен. – Акционерное общество «Самоохрана» будет жить!
– Шампанского, господа? – Позвонив в колокольчик, Рупперт велел ливрейному лакею зажечь бра и канделябры. – За такое стоит!
В теплом свете свечей, озаренная блестками хрустальных подвесок, «испанская» гостиная вдруг показалась всем «очень милой». А когда внесли поднос с узкими, до половины налитыми бокалами, общее приподнятое настроение сменилось радостным возбуждением.
– Оружие – это проблема, – признал Ливен, дегустируя вино.
– Позвольте откланяться, господа, – жандармский ротмистр осторожно поставил бокал на поднос. – Вы оказали мне, граф, – он церемонно поклонился Рупперту, – честь своим любезным приглашением.
– Смылся, лиса! – усмехнулся Фитингоф-гусар после ухода жандарма. – В самый деликатный момент.
– О, Корен – тонкая бестия, – сказал Медем.
– И правильно сделал, – заключил Ливен. – Благожелательный нейтралитет нам обеспечен, а знать подробности ему ни к чему. Так удобнее.
– Понятное дело, – важно кивнул Рупперт. – Служба! – Про свои погоны флотского офицера он вроде как позабыл, – Мне кажется, оружие лучше приобрести за границей.
– Были бы деньги, – сказал, печально рассматривая пустой бокал, Фитингоф Второй. – Прусское юнкерство с сочувствием отнесется к нашему начинанию. Не сомневаюсь. – Обер-лейтенант скорым шагом направился к угловому столику, на котором блестело ведерко с колотым льдом. Но бутылки нигде не было видно. Скорее всего, ее унес лакей. – Готов оказать содействие, – вздохнул он, теребя запотевшее серебряное кольцо.
Рупперт обнаружил в бравом офицере вермахта родственную душу и пообещал покатать в автомобиле.
– Н-на хутор поедем, – сказал граф заплетающимся языком. – Т-там такие есть… – Он оборвал на полуслове, прислушиваясь к подозрительной возне наверху. – Пардон. – И тяжело выполз из-за стола.
Быстро уладив небольшой конфликт, в котором были замешаны расшалившийся папаша Брюген и экономка, он переоделся во все кожаное и, как-то сразу осовев, поплелся заводить автомобиль.
Ночь удивительно располагала к прогулке. Полная луна мягко серебрила тисы. Вкрадчиво журчал фонтан. Аромат штамбовых роз смешивался с тонким запахом свежего сена.
Обер-лейтенант с моноклем и стеком уютно развалился на стеганом сиденье и, предвкушая грядущие удовольствия, впал в дрему. Но машина никак не заводилась. Потея от натуги и задыхаясь, Рупперт раз за разом проворачивал проклятую ручку, а мотор даже не чихнул.
– Я сейчас, – пробормотал окончательно выбившийся из сил автомобилист. – Только в гальюн сбегаю и сразу назад. Подождите.
ГЛАВА 6
Приглашение посетить Рижский замок оказалось как нельзя более кстати. Нежданно представлялась возможность без всяких ухищрений проехаться в город.
В строгом соответствии с правилами Плиекшан зашел в полицию и предъявил письмо на бланке лифляндского губернатора. Поездку незамедлительно разрешили. Жандармский унтер господин Упесюк даже изволил пошутить:
– Против подобных знакомств, господин присяжный поверенный, возражать не могем. Теперь и завсегда будьте уверены в благожелательном нашем содействии.
– Губернатору, несомненно, польстит такое доверие, – сдержанно улыбнулся Плиекшан. – Обо мне же и говорить не стоит.
– Когда намерены отбыть? – Унтер мигом согнал с лица благодушное выражение и подобрался.
– С вашего разрешения, незамедлительно.
– Если надумаете ночевать в городе, благоволите уведомить полицию.
На том и расстались. Закрывая за собой дверь, Плиекшан слышал, как унтер накручивает ручку телефонного аппарата.
«Наверняка звонит на станцию, – решил Плиекшан. – Можно не сомневаться, что увяжется шпик».
Выйдя на взморском вокзале, он даже не попытался проверить, следует ли за ним кто-либо. Не оглянулся. Не замер на мгновение у зеркальной витрины буфета первого класса, в которой так хорошо видны золотой орел на синем лаке вагона, обер-кондуктор на подножке и жандарм в смазных сапогах возле станционного колокола. Лишь краешком глаза успел поймать отражение некой озабоченно-торопливой физиономии.
Выйдя в город, нанял извозчика и, удобно расположившись в рессорной коляске, велел ехать по Башенной.
– Только не торопись, – предупредил строго.
– Яволь, вельможный пан, вашескобродие, – с готовностью откликнулся полиглот-кучер.
– Добже, – улыбнулся Плиекшан, распознав в нем поляка. – Трогай, холера ясна!
Кучер чмокнул, лениво взмахнул хлыстом, и крепкая, серая в яблоках лошадь затрусила по сверкающему на солнце булыжнику. В цокоте ее копыт, в скрипе рессор чудилась удивительная мелодия родного и вечно нового города. Над его черепичными крышами кружились голуби. Ослепительно блестели пыльные окна его покинутых серых домов, которые стерегли важные дворники с номерными бляхами, в кожаных истертых передниках. Пропыленные серые липы шелестели в знойных потоках воздуха, отчетливо видимых и тягучих, как сахар в горячей воде. Одинокие прохожие топтали опавшую листву, еще зеленую, но уже тронутую коррозией. Сухо трещали под каблуками колючие булавы каштана. Город мстил за временное свое одиночество безотчетным томлением и скукой. Вкрадчивая мягкость полутонов, горьковатая нежность покинули улицы. И, словно лишенные привычной атмосферы, они млели и плавились под солнцем, как уснувшая рыба на жестяном лотке. И потому пожар его окон был подобен отблеску окровавленной чешуи, а ранние зори в дымах гудками вопили о скончании мира. Но только день повторялся за днем, и не предвиделось остановки летящего вразнос маховика. В зове сирен, в свисте и хлопанье приводных ремней маялось обнаженное сердце Риги, с которой лето сорвало надушенную шелковистую оболочку.
Пристально вглядываясь в узоры оград, вслушиваясь в шорохи и железный грохот, Плиекшан ловил прихотливый, изменчивый мотив. Он был прерывист и резок, как тряска по мостовым, мучнисто-сладковат, как липовые орешки, пронзительно едок, как горячий резиновый ветер с «Вулкана». В потаенном ритме тысяч ткацких станков, в скольжении невидимых чаек, в дыхании кофе и нефти он исчезал без следа и возрождался бессчетно.
Мотался белый лошадиный хвост, дрожала-позванивала сбруя, и подковы вытанцовывали на булыжнике звонкую дробь. Но это был старый обман. Фальшивая нота в грозном оркестре современности. Наполнив улицу удушливой гарью, мимо протарахтел лакированный черный мотор, в котором рядом с затянутым в хромовую кожу шофером сидела нарядная кокотка в изумрудном боа. Бензин и одеколон «Илангиланг» заглушили терпкий здоровый запах лошадиного пота, начисто развеяли иллюзию мира и постоянства.
– О, Рупперт! – Женщина заливалась хохотом, словно ее щекотали. – Майн либер кюхеляйнхен. Мой дорогой цыпленочек.
– Пся крев! – выругался извозчик и стеганул лошадь.
Но Плиекшан был доволен и весел. Насвистывая привязчивый, только что пойманный в мешанине звуков мотив, он увидел в черном выпуклом лаке дорогого автомобиля чудовищно искаженный силуэт пролетки. Он увидел все сразу: караковую кобылу в шорах, извозчика в немецком цилиндре и щекастую личность с усиками мушкой. Несмотря на шоры, лошадь, напуганная мотором, отпрянула в сторону и, встав на дыбы, развернула пролетку поперек дороги.
«Так и есть, теперь не скоро догонят», – Плиекшан обернулся.
– Гони! – Он тронул своего возницу ручкой зонта. – Если любишь пенензы.
И когда впереди открылся затененный изгиб Кузнечной, он привстал с сиденья, вновь обернулся и удовлетворенно распорядился:
– Сюда.
Резко осадив лошадь, поляк стал заворачивать, но она поскользнулась, заржала и, высекая искры подковами, шарахнулась в сторону, чуть не разбив об угол дома пролетку.
Им едва удалось развернуться, чтобы въехать в эту хмурую каменную щель без тротуаров, с выпуклой, как лук, мостовой. Лучшего места не сыщешь во всем Старом городе! Недаром в лихие годы междоусобиц трое бюргеров с мечом и двумя арбалетами ухитрились сдержать здесь целый отряд конных рыцарей.
Плиекшан соскочил с подножки и, бросив извозчику зелененькую трешницу, отчеканил:
– Обождешь тут. Если не вернусь через час, езжай на все четыре стороны. – И усмехнулся про себя, потому что переулочек был надежнейшим образом закупорен.
Боком протиснувшись мимо оглобли, он перешел на Королевскую и улочками-переулками выбрался прямо к театру. Подозвал первую попавшуюся пролетку и велел везти себя чуть ли не через весь город на Рыцарскую. Он заранее знал, что за ним будут следить, и потому никак не рассчитывал попасть туда сегодня, в легальный, так сказать, приезд. Но неожиданный подарок судьбы в виде столь редкого чуда, как мотор, заставил все переиграть наново. Зачем ему Башенная, по которой прямиком можно выехать к Замку, если теперь он волен ехать на Рыцарскую? К дому за № 39, в подвале которого находится подпольная типография. И не беда, что визит к его превосходительству приходится переносить на следующий день. Еще один день в Риге. Утром он опять увидит незабываемые места, где пролетела, как в воду канула, юность, где впервые пришли к нему дружба и ненависть, где восторженный хмель влюбленности закружил его рождественской метелью…
Чтобы случайно не столкнуться с преследователем, он решил ехать в объезд:
– Поезжайте по Елизаветинской и Николаевской.
– Как господин прикажет, – покорно согласился извозчик, в котором Плиекшан по выговору распознал литовца. – Авось не обидите.
– Не обижу, – пообещал он по-литовски. – Давай с ветерком! – И, подумав, добавил: – Остановишься у больницы.
Миновав бульвар Наследника и Шюценгартен, они выехали на Елизаветинскую, затем на углу Эспланады повернули на Николаевскую, которая прямиком выходила к самой больнице и Николаевской богадельне. Плиекшан успокоился и, лихо сдвинув ручкой зонта шляпу, даже немного приосанился. Все шло как нельзя лучше.
У больничных ворот он велел остановиться, с умеренной щедростью отсчитал полтинник серебром и вошел в сад. С цветочных клумб потянуло легким гнилостным ветерком тления. Или это только так показалось? Густым бордовым бархатом лоснились крупные георгины в темных кустах. Возле одинокого ангела с крестом была уединенная каменная скамейка с замшелыми трещинами. Плиекшан присел и, не спуская глаз с ограды, вынул из кармана измятый томик средневековой немецкой лирики.
Когда извозчик, простояв безуспешно у ворот, тронулся на поиски седоков, он спрятал книгу и неторопливо направился к воротам. Проводив взглядом пролетку до конца улицы, он задумчиво пересек сад и вышел на Рыцарскую. Теперь по Школьной и Столбовой можно было незаметно пробраться к дому.
Тайная типография размещалась в подвале, куда вела крутая железная лесенка. Крепко держась за перила, в кромешной тьме Плиекшан осторожно нащупал ногой ступени и начал спускаться. У самого люка перевел дух и четыре раза постучал по чугунной крышке.
Переночевав в «Европейской», Плиекшан спросил кофе с меренгами и свежий выпуск «Диенас лапа». Как всегда, чуточку сжалось сердце. Он никак не мог свыкнуться с тем, что это уже совсем чужая газета. И чем дальше, тем больше. Дух обостренной бунтующей совести все еще витал на ее полосах, но исчезло самое главное – твердость, молодой нетерпеливый задор, Она стала слишком спокойной. Социальный протест незаметно выродился в кокетливую фронду. Безумно гордясь собственной смелостью, газета «покусывала» власти, но по незначительным поводам. Бичуя общественные нравы, искореняя пороки, она стыдливо опускала глаза, когда в сумятице единичных фактов начинала прорисовываться безрадостная общая картина. Красиво и, в сущности, легко обличать, возвышать голос протеста, негодовать и так далее. Но разве этого ждут от печати? Вспомнился день, когда тесные апартаменты редакции заполнила делегация с завода «Рихард Поле». Рабочие пришли поблагодарить за поддержку в дни забастовок. Чувствовали они себя не слишком уверенно, говорили общие, маловыразительные слова, смущенно переминались с ноги на ногу. Откровенный разговор завязался лишь под занавес, когда начали расходиться.
– Все вы правильно делаете, – обратился тогда к Плиекшану молодой парень, – и здорово нам помогаете. Но… – Он было замялся, но тут же решительно взмахнул рукой: – Мы сами знаем, почему нам плохо живется. Вы другому научите. Я вот знать хочу, как сделать, чтобы хорошо стало.
Обеспокоенный, раздраженный – и следа не осталось от вчерашней приподнятой возбужденности, – Плиекшан оставил газету на столе. Зажав в кулаке перчатки, поспешил на воздух. Под козырьком подъезда прятался утренний холодок, но день обещал быть знойным. Давешнее желание побродить по местам юности и воспоминаний прошло. Улица Паулуччи, где он некогда жил, где размещалась газетная экспедиция, уже не влекла его к себе, напротив – отталкивала. Трезвая проясненность спугнула сентиментальную дымку. Обыск, арест, гнусная морда квартального, помощник прокурора, груды книг на полу – вот какие воспоминания связаны у него с этой улицей. Нет душевных сокровищ на улице Паулуччи он не обретет. Ни «Рижское латышское общество», ни «Мюзик-шулле» на Суворовской не разбудят в нем особого вдохновения. Можно, конечно, проехаться к польскому пансиону или на Бастионную горку. Но стоит ли? Разве что выпить кружку пива? А ведь он столь много ожидал от поездки! Но «Диенас лапа» за завтраком выбила из колеи. Как неожиданно больно глянул в душу знакомый город пустыми глазницами выгоревшего жилья! Реальность бытия и призрачный сумрак памяти. Столовая Кеснера на Мельничной, где встречалась революционно настроенная молодежь. Тайные хранилища на Ключевой, Курнаковской, откуда разлетались нелегальные брошюры по всей Риге, милая барышня с золотой косой, венцом уложенной вокруг головы… А еще он запомнил желтофиоли в маленькой мансарде. Страшным знаком провала стояли они на одиноком окне. Потом было другое окно, забранное железом. Из него видны только освещенные солнцем верхушки мачт…
На Замковой площади, у колонны, где взлетала крылатая Виктория с лавровым венком, Плиекшан заметил слежку. Постояв перед цоколем, где бронзовел позеленевший державный герб, он немного помучил шпика, страдавшего профессиональной боязнью открытых пространств, но тем и ограничился. Не было причин прятаться и путать след. Предупредительность чиновников Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии даже льстила. Он явился на высокое рандеву не как-нибудь, а с эскортом. Приема ожидало человек десять: свитский офицер с императорскими вензелями на погонах, служащие различных ведомств в мундирах, надменный и совершенно лысый субъект с иностранным орденком в петличке, православный иерей и заплаканная тихая дама, не отнимавшая скомканного платочка от глаз. Чиновник особых поручений, несколько манерный молодой человек в золотых очках, встретил его с той неброской предупредительностью, которая достигается истинным воспитанием. Ей трудно подражать и нельзя обучиться по «Правилам хорошего тона». Она бесплотна и невыразима, но ощущается сразу, с первого взгляда. Плиекшану чиновник понравился.
– Его превосходительство незамедлительно примет вас, господин Райнис, – с готовностью сказал он, принимая визитную карточку, и указал ближайшее к дверям кресло.
– Моя фамилия Плиекшан, помощник присяжного поверенного.
– Простите. – Чиновник мгновенно обвел глазами приемную и заговорил по-латышски, хотя и с акцентом: – С вашего разрешения, пойду доложить. – Он сделал какую-то пометку в своем списке и скрылся за высокой двустворчатой дверью.
– Вы не забыли про меня, Сергей Макарович? – обидчиво осведомился звенящим голосом лысый господин, когда чиновник через минуту вышел из кабинета в залу.
– Как можно, Аполлон Кузьмич! – с едва уловимой насмешкой ответил губернаторский порученец. – Его превосходительство примет вас сразу же за бароном. – Он дружески улыбнулся свитскому офицеру: – Verzeihen Sie, Baron.[10]10
Простите, барон (нем.).
[Закрыть] – И распахнул двери: – Господин Плиекшан, прошу!
Седеющий представительный губернатор вышел из-за стола и, ответив на поклон, пригласил присесть.
– Курите, Иван Христофорович? – поинтересовался он, пододвигая сигарный ящик.
– Благодарю, ваше превосходительство, – Плиекшан отрицательно покачал головой.
– Меня зовут Михаил сын Алексеев, – Пашков поощрительно улыбнулся. – Рад с вами познакомиться, Иван Христофорович! Давно, так сказать, искал случая.
– Вы очень любезны, – Плиекшан выжидательно повернулся.
– Прямо со взморья, Иван Христофорович? – Губернатор вздохнул. – Завидую.
– Я прибыл в Ригу вчера и остановился в «Европейской». Полиция…
– Ну что вы, право? – Пашков поежился. – Я-то тут при чем, Иван Христофорович? Зачем вы так?
– Извините, ваше превосходительство, – но ничего обидного я не сказал. Меня подробно проинструктировали, как надлежит себя вести, и я хотел лишь сообщить, что соблюдал все правила.
– И очень верно поступили. И вообще, господин Плиекшан, давно пора зажить нормальной жизнью, занять подобающее вам положение. Я не случайно пригласил вас для беседы. – Пашков прошелся по кабинету. – Нам надлежит о многом серьезно поговорить.
– Слушаю вас, господин губернатор.
– Вы не можете жаловаться на правительство, Иван Христофорович. В отношении вас оно проявило максимум терпения и гуманности. Не так ли? – Остановившись за шаг до окна, Пашков резко повернулся и вопрошающе взглянул на Плиекшана. – Вы и сами согласны, – не дождавшись ответа, продолжал он как ни в чем не бывало. – Ваше прошение удовлетворили, и ссылка была сокращена.
– Мне зачли пребывание под гласным надзором в Пскове.
– Но могли бы и не зачесть? Верно? Но, как бы там ни было, все это прошлое. Главное – вы дома, на родной земле.
– Где по-прежнему встречаю ограничения.
– Минимальные, господин Плиекшан, будьте справедливы, и, чего греха таить, заслуженные. Ничего не поделаешь, закон есть закон, хоть он и суров! Dura lex, sed lex. Мы принадлежим с вами к одной корпорации и знаем это лучше других. Все в жизни имеет свои последствия.
– О чем вы, ваше превосходительство?
– О вас, Иван Христофорович, только о вас. Мне не слишком приятно огорчать вас дурными новостями, но ничего не поделаешь. – Пашков развел руками, сочувственно вздохнул и, пройдя к рабочему столу, взял бумагу с казенным грифом. – Нами получено распоряжение Отдела цензуры Управления по делам печати, в котором содержится буквально следующее. – Он водрузил на нос пенсне и с четкой дикцией профессионального правоведа зачитал: – «Не разрешать на будущее время к печати новым изданием сборника латышских стихотворений под заглавием „Далекие отзвуки в синем вечере“, тщательно наблюдая, чтобы упомянутый сборник не появлялся в печати и под другим заглавием». Вот тэк-с. – И широким жестом бросил бумагу на зеленое сукно стола. Все равно как ставку в рулетку сделал.
– Чем обязан столь беспрецедентно суровой мере в отношении давно вышедшего и дозволенного к печати сборника? – помедлив с минуту, спросил Плиекшан.
– Губернские власти здесь ни при чем! – поспешил отмежеваться губернатор. – К сожалению, вы навлекли на себя гнев и возмущение многих как частных, так и должностных лиц, – несколько туманно разъяснил он. – Из разных слоев общества.
– Это не основание, ваше превосходительство. Не юридическое основание.
– Опять же, к нашей общей печали, вы дали повод к проявлению негативных чувств. Я же говорю, что последствия неосмотрительных деяний продолжают долго мстить потом. – Пашков все расхаживал по кабинету, словно каждый раз наново вымерял его шагами.
– Книга прошла предварительную цензуру, – стоял на своем Плиекшан.
– Бывает и так, – Пашков сокрушенно вздохнул. – Цензоры тоже ошибаются. Всякий непредубежденный человек, прочитав ваш «Страшный суд», просто рассмеется, если вы начнете его уверять, будто имели в виду бога, карающего грешников.
– Никого и ни в чем уверять не намереваюсь. – Плиекшан сжал зубы. – Стихотворение говорит само за себя.
– Вот именно! – обрадовался Пашков. – А ваш цензор, господин Ремикис, пытался доказывать, что вы написали новое Откровение Иоанна, Апокалипсис!
– Цензоров себе не выбирал и не в ответе за них.
– Что верно, то верно, Иван Христофорович, – неожиданно согласился губернатор и присел напротив Плиекшана за курительный столик. – Но я, собственно, о другом намеревался с вами переговорить… «Всех самых юных, крылатых всех, стопой чугунной раздавит век». Страшно, как конец света, хоть это и не реминисценции из Апокалипсиса. Здесь мы оба согласны. Я о другом хочу. Мы обсуждали с вами единство причин и следствий. Здесь оно, именно здесь. Ваша бездумно брошенная на ветер ненависть вернулась назад. Нетерпимость ваших стихов разбудила ответное чувство у людей, которым они адресовались. И вот ответ, – он указал на стол, где лежало свернувшееся в трубку цензурное предписание. – Чего же вы тогда добивались? Думали, наверно, разбудить своей лирой массы? Бросить хижины на дворцы? Задумайтесь над последствиями своих поступков, господин Райнис. Стихия гнева неуправляема. Ее опасно дразнить. Разве вам не ведомо, что и революции пожирают собственных сыновей?
– Я подумаю над вашими словами, господин губернатор, – сказал Плиекшан, поднимаясь. – Я подумаю. Позвольте поблагодарить за приятную беседу.
– Это мне должно благодарить! – с живостью спохватился Пашков, усаживая Плиекшана обратно. – Погодите, Иван Христофорович, позвольте еще на пяток минут отлучить вас, так сказать, от муз.
– Извольте. – Плиекшан сел, не прикасаясь к спинке стула, прямой и напряженный. – Прошу вас.
– Скажите мне откровенно, Иван Христофорович, не как администратору, а как частному лицу, наконец, просто хорошо расположенному к вам человеку. – Он сосредоточенно поиграл гильотинкой для обрезания сигар. – Каковы ваши финансовые обстоятельства? Меня беспокоит, не пострадаете ли вы материально от мер цензуры? Впрочем, что я спрашиваю? Конечно же пострадаете! – Сочувственно поцокал языком. – Весь вопрос, насколько серьезно?