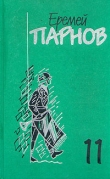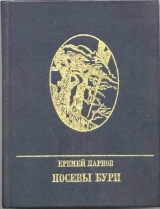
Текст книги "Посевы бури. Повесть о Яне Райнисе"
Автор книги: Еремей Парнов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
ГЛАВА 13
Зябкая пора туманов пришла на берега Лиелупе. Сауле – лучезарное божество, едва проглядывая масляным желтоватым пятном, отвратило лик от грешной земли. Горько пахнет осенний дым. Подкова дальнего бора угрюмо синеет сквозь лиловое марево облетевших березовых веток. Увядшая травка в инее, как седое полынное поле. Тонкий, невидимый лед высосал мелкие лужи и хрустит под ногой в сетке белых извилистых трещин.
Но и шаги едва слышны за туманом. Вороний грай плывет над поляной, где смутно белеет обглоданная зайцами береста и в пугающей близости вырастают из-под земли укрытые жалким навесом из дранки растрепанные стога.
Почти не пахнет сено в такое промозглое утро. Оловянными прожилками в клубящемся молоке тяжело ослепляет рассеянный свет. И где-то там, за непроглядной завесой, скопляется опасная темнота снежных зарядов.
Не лучшее время решать человеческую судьбу! Запахом смерти дохнули заморозки на притаившийся лес. Сходящееся кольцо беспощадной облавы выгнало на хмурую эту поляну людей. Им ли быть милосердными? Им ли быть терпеливыми? Собаки бегут по их кровавому следу, лай и гогот загонщиков лопаются в ушах. Уже трубит осипший охотничий рог, и только минута осталась до смертельного выстрела. Нет времени разбираться, нет возможности проверять. Только пулю или одну только веру вместит улетающий миг.
На поляне стоят четверо, строгих и неподвижных, да еще пятый, притиснутый к жердям, скрепляющим стог. Его затравленные глаза в сухой лихорадке. Он живет иступленной, ускоренной жизнью, когда человека покидает бесполезный разум и ведет всеведущий мудрый инстинкт. Жалкие, умоляющие взгляды мечутся с одного лица на другое, выискивают хоть тень надежды, хоть проблеск веры. Лица троих как окна, закрытые ставнями. К ним не пробиться словами – да и слов таких нет! – они глухи к беззвучному воплю души. И лишь эти, самые ближние, усталые и светло слезящиеся на холоде, глаза еще распахнуты для молчаливого зова.
Изакс, портной Янкель Майзель и Екаб Рыбак отошли чуть поодаль. Сунув руки в карманы, застыли под тусклым ветром. И никого не осталось на всем божьем свете, кроме этих двоих. И стали они лицом к лицу.
– Вы хотели, чтобы я пришел, Строгис, – тихо и трудно сказал Ян Плиекшан. – Говорите. Я жду.
– Спасите меня! – Прижавшийся к стогу человек умоляюще протянул руку. – Спасите!
– Это не в моей власти. – Плиекшан напряженно следил за искусанными губами Строгиса, ловил их глубинный, почти неосмысленный лепет. – Оправдайтесь, если можете.
– Не могу. – Он не знал, куда девать дрожащие руки. – Виновен.
– Тогда все. – Плиекшан взглянул на Строгиса с печальной пристальностью и закончил решительно: – Вы знали, на что идете.
– Но я же не провокатор! – прорвался истошный неожиданный вопль. – Пощадите! – Строгис жарко залопотал: – Не хочу умирать! Не хочу! Особенно так… Страшно в вечном позоре… Если не верите, то пошлите меня на смерть к ним. Пусть лучше они убьют, но только не вы!
– Невозможно. – Изакс шагнул вперед. – Грозгусс уже вцепился в тебя, как клещ, и не успокоится, пока не выжмет все до капли.
– Я ничего не скажу! – Строгис с надеждой устремился к Изаксу. – Не сказал и не скажу!
– Мы не можем вам верить, – покачал головой Майзель.
– За стакан водки ты не то что нас, отца родного заложишь, – хрипло усмехнулся Екаб Приеде. – Что предатель, что алкоголик – сейчас все едино. Правильно Никель сказал! Нет тебе нашей веры.
– Хорошо, – глухо откликнулся Строгис. Его лицо исказила жалкая и страшная гримаса. – Вы правы все. Мне нечего больше сказать. – Он отвалился от стога, выпрямился и, опустив руки, уронил голову на грудь. – Спасибо, что хоть вы пришли, учитель Райнис…
Екаб Приеде и Майзель приблизились к Изаксу.
– Погодите. – Плиекшан бросил взгляд на товарищей через плечо. – На что вы надеялись, Строгис, – он по-прежнему не спускал с него глаз, – когда настаивали на моем приходе? Думали разжалобить? Напрасно! Справедливость – вот высшая жалость революции. Мы хотим остаться справедливыми до конца. Оправдайтесь, говорю вам в последний раз, если можете. Это ваша последняя обязанность перед нами.
– Он же сказал, что не может! – нетерпеливо, все с той же простуженной хрипотцой бросил Екаб.
– Я помогу. – Плиекшан обернулся к рыбаку: – И вы, Приеде, тоже.
– Столько уж было говорено, – махнул рукой Майзель.
– Поговорим в последний раз. – Изакс остановился рядом с Плиекшаном. – Мы обещали ему, что судить будет Райнис.
– Райнис не будет судить! – сурово возразил Плиекшан. – Мой голос в организации значит не больше, чем ваши. Если вы все взвесили и твердо решили, я подчиняюсь большинству. Или будем решать здесь, сейчас?
– Организация осудила Строгиса, – тихо сказал Ян Изакс. – Но мы уважили его последнюю просьбу и позвали тебя.
– Я думал, что вы сумеете заглянуть в мою душу. – Строгис, уже ни на что не надеясь, схватил Плиекшана за рукав. – Сам не знаю, как оно вышло…
– Что оно? – Плиекшан напрягся весь и осторожно высвободил руку. – Что вы пропили деньги, которые, рискуя головой, ваши товарищи собирали на оружие?
– Вместе с провокатором Зутисом, – с ненавистью сказал Майзель.
– Я ведь не знал тогда, что он провокатор, – вяло, повинуясь детскому инстинкту оспаривать очевидное, попытался защититься Строгис. – Не знал.
– Допустим. – Плиекшан пошире расставил ноги и расслабился. – Но вы пропили партийные деньги?
Строгис обреченно поник.
– Тогда какой может быть разговор? – Плиекшан отвернулся. – Только за это одно… – Его душило волнение. – Вам нельзя рассчитывать на снисхождение.
– Но ведь я не хотел! – Строгис вновь загорелся невыразимым порывом что-то такое объяснить, представить в ином, более выгодном для него освещении.
– Мне трудно понять вас. – Плиекшан почувствовал в словах Строгиса двоякий смысл. – Вы одновременно и признаете, и оспариваете свою вину? Так, что ли?
– Не знаю… – По его лицу вновь пробежала судорожная гримаса. – Я не собирался.
– Тебя не за намерения судят. – Екаб сплюнул и полез за трубкой. – Или не слыхал, чем ад вымощен?
– Расскажите, как все было, Строгис, – потребовал Плиекшан. – Ничего не упуская и подробно!
– Да разве я не говорил? – Он поднял страдающие, почти безумные глаза и обреченно махнул рукой. – Сам не знаю, как все получилось. Ну, пришел ко мне Зутис… Как бог свят, не знал я, что он шкура!
– О Зутисе потом скажешь, – Екаб едва не ткнул Строгиса кривым дымящимся мундштуком. – И не развози! – Он глубоко затянулся и буркнул: – Пора кончать.
– Не мешайте ему, – остановил Плиекшан. – Пусть говорит, как умеет. – Он вынул часы. – Даю вам полчаса, чтобы объясниться. Нам всем опасно задерживаться здесь слишком долго.
Строгис раскраснелся и часто задышал. Случайно оброненные слова «нам всем» несколько расковали его, и он заговорил живее:
– Зутис шепнул, что у него ко мне важное дело, и пригласил приехать вечерком в Шлоку, в трактир «Зеленое дерево» с деньгами и списками.
– Со списками? – вмешался Изакс. – Это что-то новое! Про списки ты нам не говорил.
– Да позабыл я! Списки-то не у меня хранились. Чего ж мне было о них думать? Так я и сказал тогда Зутису, что храню только деньги. Он больше про списки и не заговаривал. Я подумал, что деньги срочно для дела нужны, и, само собой, сделал, как было велено, привез. Зутис меня уже дожидался. Он сказал, что скоро должен подойти товарищ из центра, и предложил пока, чтоб не мозолить глаза, пройти в корчму, пропустить по кружечке. Вот и все.
– Как все? – удивился Плиекшан. – Не хотите же вы сказать, будто пропили все в жалкой корчме?
– Не знаю, товарищ Райнис. Никогда со мной такого не было, чтоб с первой кружки затмение нашло! Но в тот раз так оно и вышло. Точно я натощак не пива хлебнул, а два шкалика из горла опрокинул. Так голова кругом и пошла… Не помню даже, как дотащился до дому. Целые сутки проспал! На работу не вышел!.. А когда проспался, то все еще пьяный был или больной. И шатало меня, и в ушах свербело, а слабость нашла такая, что даже и сказать не могу. Точь-в-точь осенняя муха на стекле. Потому я на собрание не пришел, что не только окончательно обессилел, но и вообще все начисто позабыл. Все как ветром из головы выдуло. Это уж я после припоминать стал, что да как… Сперва, понятное дело, за пазуху полез, где у меня деньги в платке хранились. – Строгис побледнел и сник. – Одним словом, все до копейки…
– А вы уверены, что действительно пропили деньги? – спросил Плиекшан. – Что их у вас не украли?
– Так ведь Упесюк сказал, жандарм…
– Кто-кто?
– Жандармский унтер наш, господин Упесюк, или не знаете?
– При чем же он здесь? – Плиекшан кое-что уже начинал понимать. – Отчего вы сразу не рассказали обо всем товарищам?
– Вот и я его об этом спросил, – проворчал Екаб. – В кутузку, говорит, угодил.
– Помолчите покамест, – попросил Плиекшан. – Продолжайте, Строгис.
– Я, когда чуток опомнился и на улицу выполз, так тут же и бросился к товарищу Яну, – Строгис метнул на Изакса виноватый испуганный взгляд, – да не тут-то было! Меня урядник наш сцапал, Теннис, говорит: вы, господин Строгис, устроили дебош и в пьяном виде набезобразничали, за что пожалуйте в участок. Ну, привели меня, а пристав Грозгусс даже разговаривать не захотел. Только перчаткой взмахнул: мол, бросьте эту пьяную рожу в холодную, пусть хорошенько проспится. – Строгис замолк и грузно привалился спиной к сену.
– Что было дальше? – спросил Плиекшан и, подумав, защелкнул крышку часов. – Вас допрашивали?
– Ага, допрашивали… Все доискивались, откуда я взял столько денег, чтобы день и ночь кутить, расшвыривать, значит, красненькие по шлокским мостовым.
– Так и сказал: расшвыривать?
– Слово в слово. Видели, говорят, как ты платок свой развязал и начал пускать по воздуху десятки да трояки. У меня, вправду, четыре красненькие были, а так все больше целковые и трояки.
– Двести восемьдесят шесть рублей, – уточнил Майзель.
– Ага, столько… Но не могло того быть, чтобы я деньгами бросался! Даже в пьяном виде… Потом, когда узнал про Зутиса, все узнал, мне подумалось, что могла быть провокация.
– Что вы показали в участке? – Плиекшан настороженно прислушивался к каждому слову.
– А ничего… Сказал, что гулял на свои капиталы и, откуда они у меня завелись, никого не касается, а с кем гулял и чего делал – не припоминаю. На том и стоял все время. Тогда пристав велел меня вышвырнуть вон, но пригрозил, что еще не все кончено и он со мной разберется. Как я оттуда вышел, так без промедления связался с товарищами, повинился во всем… Но они уже знали.
– Откуда? – Плиекшан вскинул руку и быстро повернулся: – Откуда вы узнали, Изакс?
– Это единственное, что говорит в его пользу. – Изакс смерил Строгиса тяжелым, изучающим взглядом. – Весть о том, что он пропил общественные деньги, распространил Зутис.
– Почему сразу не начали выяснение? – обратился Плиекшан к Изаксу.
– Начали бы, – кивнул Изакс. – Только Строгис снова исчез. Ты все еще уверяешь, что тебя арестовали тогда?
– В тот же вечер. В Ригу повезли. По два раза на дню на допросы таскали…
– Это мы уже знаем, – прервал его Ян Изакс. – И Райнис тоже. Если у тебя есть что-то новое, говори, а так… – Он махнул рукой.
– Да, – подтвердил Плиекшан, – товарищи мне передали. – Послушай, Ян, – обернулся он к Изаксу, – когда к тебе пришел Строгис?
– Он вообще не пришел, – отрывисто бросил Майзель. – Мы сами к нему пришли.
– Почему? – Плиекшан повернул голову к Строгису. – Почему, после того как жандармы вас выпустили, вы не поспешили доложить обо всем организации?
– Не мог же я! – Он зажмурился, страдая. – Они же филера за мной пустили!
– Это так, – подтвердил Изакс. – Креплин заметил. Но это ни о чем еще не говорит.
– Ни о чем определенном – согласен, – кивнул Плиекшан. – А вообще говорит об очень многом. О ком у вас чаще всего выспрашивали на допросах? – спросил он Строгиса.
– Сначала о Зутисе: где, чего, когда виделись, с кем встречались? – Он задумался, припоминая. – С той пьянки его, дескать, больше нигде не видели. Намекали, что это я его…
– Намекали? – Плиекшан обменялся быстрым взглядом с Изаксом. – Только намекали?
– Да нет, куда уж там! Напрямую шли. Даже свидетелей выставляли.
– Каких свидетелей? – Плиекшан, словно для того, чтобы лучше слышать, повернулся к Строгису ухом. – Вам их показывали?
– Трое их было, – устало вздохнул Строгис. – И все незнакомые. Будто бы видели, как я его пристрелил и побежал к вам прятаться.
– Ко мне?! – изумился Плиекшан.
– Ага, к вам.
– Какие еще имена упоминались на допросах? – Плиекшан озадаченно покрутил головой.
– Про Арвида Штуля спрашивали, про Роберта Лекыня, – Строгис стал загибать пальцы, – про каких-то Сергеева и Шапиро, про Леписа, про Креплина, но больше всего про вас… Только не сомневайтесь, товарищ Райнис, я им ничего не сказал. Сколько ни били.
– Вас били?
– Еще как! Отделали по первому классу. Разве не видно?
– Видно. – Плиекшан вновь глянул на припухшие, с нездоровой желтизной и угольными тенями, скулы Строгиса. – Что же вы говорили жандармам?
– Ничего не говорил. Терпел, да и все.
– И они вас выпустили?
– Потом выпустили… Подписку взяли и выпустили. Я сам сперва удивился, но, когда филера заметил, смекнул.
– Что же вы смекнули?
– А то, что сунули меня как подсадную утку! – Строгис зашмыгал мокрым носом и тыльной стороной ладони отерся. – Они же опять возьмут меня, братцы! Не берите греха на душу. Я им ничего не скажу!
– Видите ли, Строгис, – Плиекшан носком ботинка поковырял подмерзшую землю, – ваша история далека от ясности. В ней трудно разобраться. Да и не дано нам для этого времени. Никак не дано. – Он поднял голову и резко спросил: – Вы пьете?
Строгис только вздохнул.
– Зашибает, – ответил за него Екаб Приеде и повторил: – В нашем деле что алкоголик, что готовый провокатор – один черт.
– Мне трудно возразить своему товарищу, – промолвил Плиекшан. – Он по существу прав. Но я все-таки по ряду причин склоняюсь к тому, чтобы поверить вам, Строгис. Революция сурова и беспощадна, как суровы и беспощадны ее враги. Она безжалостна, потому что всякое послабление гибельно для нее. Но есть еще одна сторона революции, лучшая, прекраснейшая ее сторона. Вглядитесь в лица своих товарищей, Строгис, и вы увидите, насколько чиста революция. Я знаю, друзья, что подвергаю всех вас немыслимому риску, но во имя чистоты нашего дела я предлагаю дать ему возможность исправиться. – Он притянул к себе Строгиса за отвороты пальто.
– Спасибо, Райнис, – почти теряя сознание, выдохнул Строгис. – Господь вас благослови.
– Я не верю, что он провокатор. – Плиекшан оттолкнул обмякшего Строгиса и подступил к Яну Изаксу: – Если он хоть в малом обманул нас, ему придется умереть, но сейчас я предлагаю проверить его.
– Ты понимаешь, что говоришь? – прищурился Изакс.
– Да, Ян, такое я вношу предложение. Мы не можем позволить себе ошибки. Она отзовется потом страшнее всех угрожающих нам сегодня бед. Поэтому я и вношу свое предложение… Конечно, если большинство решит иначе, я подчинюсь.
– Ты представляешь, чем нам придется платить, если он действительно окажется провокатором? – Изакс взглядом призвал остальных высказаться, но они угрюмо молчали.
– Я понимаю все, – мягко сказал Плиекшан. – Но еще страшнее будет расплата, если мы ошибемся. По-моему, Строгис стал жертвой широко задуманной провокации. Он, конечно, совершил тягчайший проступок. И, по-видимому, не случайно Зутис именно его наметил своей жертвой. Но дадим ему спасти хотя бы душу, если сам он не сможет спасти свою жизнь.
– Будем решать, товарищи? – Изакс сначала вопросительно заглянул в глаза Екабу: – А, Рыбак? – Затем обратился к Майзелю: – Твое мнение, Янкель?
– Я не верю ему, – Майзель кивнул на Строгиса, – но все же голосую за предложение товарища Райниса. До окончания проверки предлагаю отстранить Строгиса от всякой деятельности.
– Пусть будет, как Райнис сказал, – согласился и Екаб Рыбак.
– Ты все понял? – Изакс обернулся к Строгису.
Но тот ничего не ответил. Колени его подогнулись, и он сполз на землю, шурша колючим сеном.
– Срок тебе отмерен, вот что, – прохрипел, склонясь над ним, Екаб. – Не забывай.
ГЛАВА 14
Для допроса в центральной полиции Бориса Сталбе доставили в закрытой карете. С того утра, как он осознал себя лежащим на койке тюремной больницы, в его положении произошли обнадеживающие перемены. Ему не только разрешили вести переписку и получать передачи, но даже прямо настояли на том, чтобы он поскорее подал о себе весточку родным. Темная ледяная камера вспоминалась теперь как привидевшийся кошмар.
Когда он, осунувшийся, заросший до неузнаваемости, очнулся на белых простынях и встретил дружелюбный, внимательный взгляд пожилого доктора, то прежде всего поинтересовался числом и месяцем. Оказалось, что наступил уже канун рождества. Сколько времени пролетело с того злополучного, совершенно непонятного дня?
Доктор напоил больного крепким куриным бульоном и намекнул, что не следует перегружать нестойкую память мучительными сопоставлениями. Все равно он не додумается ни до чего путного, а только изнурит себя бесцельными усилиями.
– Все очень просто, батенька, – сказал он, забирая фаянсовый поильник. – У вас был приступ неосложненной пьянственной горячки, а потому надо беречься и аккуратно пить кисленькую микстуру.
На следующий день Бориса навестил молодой обходительный товарищ прокурора и в официальных выражениях уведомил, что тот находится под следствием. Коротко перечислив статьи обвинения, он уклонился от каких бы то ни было разъяснений, а Борис был еще слишком слаб памятью, чтобы припомнить хоть отдаленно содержание вменяемых ему пунктов. Товарищ прокурора тоже несколько раз с видимым удовольствием упомянул про таинственную горячку и, пожелав скорого выздоровления, удалился. На том и кончилось. Больше никто Бориса не обеспокоил. Он понемногу отлеживался, набирался сил.
И вот настал день, когда тюремный цирюльник выбрил ему щеки, согласно желанию подстриг волосы и даже подправил бородку. Затем его отвели в баню, после мытья вернули одежду и, невесомого от свежести, вывели во внутренний двор. Там уже дожидалась карета с занавешенными окнами, запряженная парой худосочных гнедых с шорами на глазах.
Он покорно проделал все, что от него требовалось, и никого ни о чем не спросил. Просто пропало желание. Резануло бодрым дыханием скрипучего свежего снега. В каменном каре плавал синеватый сумрак, но над крышами в яркой голубизне разливалось солнце. Ветер вздымал радужную снежную пыль, остервенело срывал с закопченных труб лиловые завитки дыма. От свежего воздуха с непривычки закружилась голова. Не успела карета стронуться с места, как арестант уснул с детской улыбкой на изнуренном лице. Его откинутая голова моталась из стороны в сторону. С уголка рта стекала слюна. И одиноко синела в тряской полумгле жесткая полоска на вороненом штыке стражника.
Зато кабинет, куда доставили Бориса, так и лучился теплом и светом. Ослепительные зайчики прыгали с хрустальных чернильниц на золотые завитки багета, обрамлявшего портрет государя. Янтарные дорожки наискось пересекали навощенный паркет. Здесь было так покойно и радостно, что Бориса вновь стала смаривать сладкая дрема. Он бы и заснул, но постеснялся добродушного моложавого офицера в голубом сюртуке, на котором радостным блеском сверкали орленые пуговицы и полковничьи погоны.
– Ваши имя, фамилия? – участливо осведомился офицер. – Происхождение, звание? Состояли ли под стражей? Под надзором полиции?
– Никак нет, – покачал головой Борис. – До последнего времени, по крайней мере.
– Что вы подразумеваете под этим? – изумился офицер. – До какого такого последнего времени?
– Видите ли, ваше высокоблагородие, – Борис явственно ощущал, как в нем просыпается волнение, – меня за что-то поместили в тюрьму, в какую-то страшную одиночку. – Он смешался и беспомощно развел руками: – Не знаю.
– Мне докладывали, что у вас был горячечный бред, – твердо сказал офицер, заглянув в бумаги. – Давно пьете?
– Нет. То есть я вообще не пью. – Он вновь запутался. – Или пью очень мало, изредка, знаете ли, с товарищами.
– Ничего не понял, – Офицер ободряюще кивнул. – Если все обстоит так, как вы говорите, то старт у вас получился резвый. Весьма. – Он улыбнулся каким-то своим мыслям. – Имеете ли семейство? Родных?
– Сам я холост, ваше высокоблагородие, а родителей потерял в ранней юности. Из ближайших родственников у меня только брат – он учительствует в Талсах – и тетушка, которая имеет собственный дом в Дуббельне по Второй линии.
– А где вы проживали? По какому виду?
– Вот я и говорю, что тетушка как раз овдовела, а я прибыл на похороны…
– До приезда в Купальные места? – уточнил офицер.
– Ах, до приезда… – Он наморщил лоб, припоминая. – До приезда я обретался в Дерпте, где имел полный пансион у мещанина Петра Петровича Удавкина, который приходится родственником моей покойной матушке, которая…
– Понятно, – с металлом в голосе остановил офицер. С минуту он внимательно изучал подследственного. – В студенческих беспорядках замечены?
– Я всегда сторонился шумных сборищ.
– Что так? – насмешливо прищурился офицер. – А пьяные кутежи – для вас тихие игры?
– Так я не про то, – вяло попытался защититься Борис.
– И я не про то, – полковник успокоил его небрежным мановением ладони. – Мы тоже за то, чтобы отделять так называемое общественное движение студенчества от проказ золотой молодежи. Я понимаю, что вам, Борис Вальдемарович, не удалось избежать болезней вашего возраста и, так сказать, захотелось перебеситься. Но игрища великосветских петиметров требуют средств. Притом немалых. Ваши же обстоятельства отнюдь не таковы. По рождению и благосостоянию вам, очевидно, трудно было угнаться за товарищами, с которыми вы водили дружбу?
Борис промолчал.
– Откуда же вы доставали деньги на удовольствия? – вел свою линию полковник. – Шампанское? Барышни? Ипподром?
– Не знаю, ваше высокоблагородие.
– Это не ответ, милостивый государь! – резко отрубил офицер и вкрадчиво спросил: – Быть может, вы просто не желаете ответить на мой вопрос? По закону, господин Сталбе, вы имеете такое право.
– Мне и вправду затруднительно отвечать, поскольку никаких особых трат я себе не позволял. Все больше по пустячкам. Скромные студенческие пирушки…
– Выходит, вы сами на себя наговаривали? – Полковник надавил пружинный звонок.
Из боковой задрапированной двери неслышно возник грузный, высокий мужчина с удивительно знакомым лицом. Напрягаясь до тошноты, Борис силился вспомнить, где он встречал этого человека с пятном на лбу и крохотными усиками. Но ничего не складывалось в темном провале памяти, где бледные стеклышки разбитого калейдоскопа никак не закреплялись в мало-мальски симметричный узор. Зато перед глазами мелькала какая-то налитая светом хрустальная разгранка, а в ушах то вспыхивал, то пропадал разухабистый дикий мотив:
Та-ра-та, ра-та, я не хочу, та-ра-та, ра-та, я хохочу!..
Раз-раз – и ножка кверху, и поворот с задиром юбок-оборок. Но когда? Где?
– Вам знаком этот господин, Борис Вальдемарович? – не поворачивая головы, спросил полковник.
– Пауль! – обрадовался Борис. – Пауль! – закричал он истошно, и темная вода в голове разошлась. Он сразу все вспомнил! Точнее, почти все. Во всяком случае, многое. – Как ты здесь очутился, Пауль? – приподнялся он с места и потянулся с протянутыми руками. – Скажи же хоть что-нибудь.
– Попрошу сесть! – прихлопнул ладонью офицер и сделал тому, в ком признал Борис недавнего попутчика, знак удалиться. – Я вижу, вы вспомнили, и крайне за вас рад. – Он удовлетворенно кивнул и зашелестел документами. – Тогда потрудитесь припомнить и это.
Плавно, даже несколько грациозно, полковник обогнул стол и, склонившись над Борисом, показал ему знакомый вексель.
– Узнаете? – спросил он, не выпуская бумаги из рук.
– Натурально! – живо откликнулся студент. – Чего же здесь особенного?
Особенность, однако, бросалась в глаза. Вместо знакомой записи четыреста рублей, в векселе значилась несколько иная сумма: одна тысяча четыреста. Подделка была произведена хотя и умело, но не настолько, чтобы ее не удалось обнаружить невооруженным взглядом.
– Что это? – испуганно спросил Борис и задохнулся от бурно участившегося сердцебиения.
– Вот именно? Что? – Полковник удовлетворенно вернулся в свое кресло. – Признаете вексель, Борис Вальдемарович?
– Да, но…
– Признаете, что уступили его другому лицу? – Полковник все повышал голос.
– Да, хотя…
– За сколько? – Офицер уже почти кричал, отбивая костяшками пальцев веселую барабанную дробь. – Почем продали?! Тарам-там-там.
– Двести рублей! Но, послушайте, ваше превосходительство! – со слезами взмолился Борис.
– Миленько! – Офицер сразу перестал барабанить и заговорил спокойным, будничным тоном: – Как же вы так обмишурились, мой дорогой?
– Но ведь вексель подделан! – смог наконец вставить слово студент.
– В самом деле? – Полковник не скрывал иронии. – И кем же?
– Понятия не имею. – Несмотря на весь ужас и неправдоподобную запутанность своего положения, Борис понемногу обретал себя. В нем возникло нетерпеливое желание жить и сопротивляться, проснулось чувство достоинства и справедливости. – Что это все значит в конце-то концов?
– Позвольте спрашивать мне, – холодно одернул его полковник. – Здесь я спрашиваю, а вы только отвечаете или не отвечаете, ежели последнее для вас предпочтительней. Итак, вы признали, что продали вексель за двести рублей господину, которого вам показали. Верно?
– Совершенно верно. – Борис сжал зубы и крепко вцепился в подлокотники. Он все еще многого не понимал, но уже догадывался, что началась игра не на жизнь, а на смерть. – По предложению господина… э… господина Освальда, отставного корнета, я уступил ему вексель на четыреста рублей из расчета пятьдесят копеек за рубль.
– Верно. Из пятидесяти на сто. Так и значится в вашей расписке, – полковник перебросил через стол четвертушку бумаги, – на семьсот рублей ассигнациями. – Он замолк, чтобы подследственный смог хорошенько поразмыслить, устало вздохнул и спросил тихо: – Расписка ваша?
– Ей-богу, ваше высокоблагородие, никакой расписки я не давал, – испуганно заморгал студент. Дело для него оборачивалось все хуже и хуже. – И почерк не мой…
– Не ваш?.. Ладно, коли не ваш, так вам и бояться нечего, пошлем на графологическую экспертизу. – Офицер раскрыл коробку «Зефира»: – Курите? – и дунул в гильзу.
Студент отрицательно качнул головой.
– Ну, а подпись ваша? – спросил полковник, закуривая и разогнав рукой дым.
– Похоже, моя, – затравленно потупился Борис. – Но даю вам слово, что никогда ничего не подписывал!.. Я не помню!
– В том-то и весь кунштюк, что не помните! – наставительно произнес офицер. – Возможно, вам дали подмахнуть в пьяном виде. – Он с явным сочувствием оглядел студента с головы до ног. – Такие фортели иногда проделывают с доверчивыми молодыми людьми, которые не знают меры. Хотелось бы верить, что это так и вы не причастны к подлогу, наказуемому в уголовном порядке, – в лице его мелькнуло сомнение. – Но пока все говорит об обратном, факты и вещественные доказательства свидетельствуют против вас. Вы ведь, кажется, поэт?
– Пишу немного.
– Тем более некрасиво и стыдно. История с подложным векселем необратимо пятнает вашу репутацию. После арестантских рот двери приличного общества будут для вас закрыты. Вы об этом подумали? Ох, деньги-деньги, кого они только не губили! Не отчаивайтесь, голубчик, не вы первый, не вы последний. – Полковник понимающе закивал. – Мне искренне вас жаль, но вы сами во всем виноваты.
– Я невиновен, – не поднимая глаз от пола, стоял на своем Борис. – Даю вам честное слово!
– Честное слово! – Полковник хмыкнул. – Нет, касатик, вы именно виновны! Даже в том случае, если все это подстроено, вы ви-но-ва-ты. – Пальцы его отстучали короткую дробь. – Напились как сапожник, до белой горячки насосались… Что мне теперь с вами делать? Отпустить под расписку до суда или отправить в камеру?
– Вам виднее, ваше высокоблагородие, – с трудом ворочая языком, выдавил из себя Борис. Вязкая, горячая слюна заливала горло, и он поминутно сглатывал. – Только я не подчищал…
– Покажите ваши глаза, – проникновенно попросил полковник.
– Клянусь вам! – взмолился студент. Губы его задрожали и жалко искривились к углам.
– Хорошо-с, – кивнул офицер, пристально вглядываясь в искаженное, залитое слезами лицо. – Попробую поверить вам, бедный мальчик. – И, ударив звонком, повелительно крикнул кому-то: – Стакан воды!
Борис рыдал, закрываясь руками. Очистительная горячая соль растопила прыгающий комок под горлом. Сразу стало вольнее дышать, и какая-то облегчительная слабость освободила его от скованности. На душе было легко и свободно. Он ощущал себя прежним, понятным и близким себе самому Борисом Сталбе, единственным и неповторимым. Это было удивительное по сладости и новизне чувство.
– Политика никогда не может быть делом поэзии! – восторженно прошептал он.
– О! – Полковник усмехнулся. – Это, кажется, Гёте? Или из Эккермана о Гёте? – Он отставил пустой стакан. – Но, если память мне не изменяет, где-то близко сказано и иное: «Я сам себя не знаю, и избави меня, боже, знать себя!» Вы-то хоть себя знаете, господин Сталбе? Если знаете, то попытайтесь объясниться, что вы сделали с трупом убитого вами рабочего Зутиса?! – звонко, как на параде перед строем, выкрикнул он.
Борис рванулся, пытаясь вскочить, но полковник брезгливым тычком толкнул его обратно:
– Сидеть!.. Вас видели, Сталбе, в лесу склоненным над телом убитого. Что вы там делали?! Кто вас послал?! Куда вы затем побежали? – Полковник так и хлестал вопросами без выжидательных промежутков, словно совсем не нуждался в ответах.
А с Борисом происходили странные вещи. Он опять утратил себя и перестал понимать происходящее. Но хотя болезненный цикл и замкнулся, юношу вынесло на иной совершенно уровень. Ослепительно красное пламя полыхнуло перед глазами. Не помня себя, он вскочил, опрокинув стул, и, срывая голос, взвизгнул:
– Как вы смеете? Палач! Сатрап! – тут же свалился назад, задыхаясь, глотая воздух. Яростная вспышка мгновенно, молниеносно сменилась полнейшей усталостью. Он был выжат, как лимон. Выступил холодный пот, и начался озноб. – Воды, – прошептал он, и глаза его подернулись мутной пленкой.
– Так-то оно лучше, – совершенно спокойно заметил полковник и позвонил. – Дайте ему напиться, Христофор Францыч, – велел он кому-то невидимому. – Весьма неуравновешенный субъект.
Заметив, что студент приходит в себя, полковник возобновил свой необычный допрос:
– «Палач»! «Сатрап»! – передразнил он. – Какой знакомый лексикон и как это, в сущности, скучно. Студенческие пирушки на вас плохо действуют, Сталбе… Возможно, я и палач, хотя никого не казню и не терзаю пытками. Да-с… Но уж во всяком случае не сатрап. Вы хоть знаете, кто такой сатрап, студиозус? Молчите? Значит, не знаете. Сатрап – это начальник сатрапии, в некотором роде губернии древнеперсидского царства. На худой конец вы могли бы именовать так господина губернатора, – возможно ему бы это и польстило, – но только не меня. Мое предложение отпустить вас все еще остается в силе, и только от вас зависит, будет оно реализовано или же нет. Поэтому не устраивайте фокусов и отвечайте на вопросы. Прямо и точно отвечайте на мои прямые и точные вопросы. Вы уже запутались с подлогом, не дайте же вляпать себя в «мокрое дело», как выражаются некоторые из наших пациентов. – Он вдруг бахнул кулаком по столу: – Будете отвечать?!