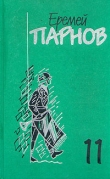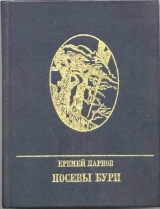
Текст книги "Посевы бури. Повесть о Яне Райнисе"
Автор книги: Еремей Парнов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
ГЛАВА 10
Юний Сергеевич после бритья был розовым и благоухал одеколоном. Невзирая на кошмарную погоду – снег пополам с дождем, – он находился в превосходном расположении духа и, проезжая мимо Лагерной площади, где парадировал полк, остановился посмотреть. Отличная выправка и очевидный боевой дух воинов повысили и без того приподнятое настроение полковника, не забывшего прелестей строевой службы. Так и прибыл он в Замок, оживленный, сияющий одеколонным глянцем, с «недаром помнит вся Россия» на устах. Мурлыкая и рукой отбивая такт, велел доложить о себе превосходительству. Как всегда, губернатор принял его незамедлительно.
– Что скажете хорошего, Юний Сергеевич? – массируя мешки под глазами, поднялся навстречу Пашков. – Чем обрадуете?
– Вчерне доклад готов, ваше превосходительство, – он весело похлопал по солидному крокодиловой кожи портфелю с секретным замочком. – Не стану хвастаться, но мы славно потрудились. Даже весьма! Сегодня же прикажу переписать на машинке и сразу вам, пред светлые очи, Михал Алексеич! Теперь, надеюсь, вы меня поддержите? Ведь что делается по губернии! – Он даже за голову схватился. – Что делается!
– Как и во всей России, Юний Сергеевич, – устало ответил губернатор. – Мы не составляем здесь исключения.
– Я человек маленький, ваше превосходительство, и мыслить в масштабе империи не могу сметь.
– Полно юродствовать-то, Юний Сергеевич, – одернул его Пашков. – Давайте-ка лучше делом займемся.
– Как вам будет угодно. – Волков повернул ребристые колесики и совместил одному ему известные цифирки. – Попробую убедить вас на фактах, Михал Алексеич. – Он вынул из портфеля папку с бумагами. – А то как бы нам до военного положения не докатиться. Тогда хуже будет!
– Я понимаю, что ситуация достаточно скверная, Юний Сергеевич, но зачем сгущать краски? Тем паче что вам положительно не на что жаловаться. Разве вашу деятельность существенно ограничивают? Напротив! Вы нигде не встречаете препятствий.
– Это так с вашего Олимпа представляется, Михал Алексеич. – Волков размял туго набитую папиросу и закусил мундштук. – А побыли бы в моей шкуре… – Он чиркнул спичкой и с наслаждением задохнулся дымом. – Врагу своему не пожелаю.
– Далась вам эта сыскная автономия, – отгоняя от себя дым, отстранился губернатор. – Чистейшей воды формальность! И так ведь делаете что хотите.
– Не скажите, ваше превосходительство, мы, жандармский корпус, приучены блюсти букву закона, вследствие чего и связаны по рукам и ногам. Пока господин губернский прокурор ведет переписку с прокурором Петербургской судебной палаты, зачастую утекает драгоценное время. Нет, Михал Алексеич, право самостоятельного политического сыска отнюдь не моя блажь. Его надо добиваться.
– Было бы из-за чего ломать копья, – вымученно улыбнулся Пашков.
– Если бы вы знали, ваше превосходительство, как надоело из-за каждого пустяка крутить голову, рассчитывать «за» и «против», оглядываться черт знает на кого. Всюду наталкиваешься на вымышленные табу, боишься собственной тени. Казалось бы, чего проще: взять и произвести обыск у негласного политического поднадзорного, так нет же! Приходится взвешивать, гадать, как бы чего не вышло. Драгоценное же времечко утекает.
– О чем вы, Юний Сергеевич?
– Да пристав Купальных мест обратился за разрешением провести обыск у поэта Райниса, – небрежно отмахнулся Волков. – А я пока молчу, взвешиваю.
– Чего вдруг? Разве он замечен в чем-то предосудительном?
– Как сказать, Михал Алексеич, как сказать, – загадочно протянул Волков. – Но Грозгусса интересует чисто уголовный аспект. Дело в том, что в соснах, невдалеке от указанной дачи, обнаружен труп молодого рабочего…
– О! Это, без сомнения, дело рук Райниса! – Пашков по-бонапартски сложил на груди руки. – Не так ли?
– Поверьте, ваше превосходительство, что мне не до шуток. – Волков мастерски изобразил на лице боль незаслуженной обиды. – Извольте сами судить. – Он отложил папку в сторону. – Убитый рабочий был нашим лучшим агентом. Это раз. Он, между прочим, предупредил полицию о той маевке, в которой, как вы знаете, участвовал Райнис, – два! Наконец, студент, весьма неблагонадежный, прибывший, насколько можно судить, с конспиративным заданием, рыщет по лесу, разыскивает место происшедшего злодеяния и, когда находит, крадучись, путая след, пробирается к дому Райниса. Это три!.. – загнул третий палец. – Зачем? Почему? Какая связь? Что бы вы сделали на моем месте, Михал Алексеич?
– А ваши люди ничего не напутали?
– Помилуйте, ваше превосходительство!
– Действительно, странная ситуация, – Пашков задумчиво погладил бородку и решительно заключил: – Едва ли здесь есть связь, Юний Сергеевич.
– Прямой бесспорно нет, – не раздумывая, согласился Волков, – но косвенная… Провокаторов убирают. Это общий закон и для эсеров, и для эсдеков, и для нас, грешных. Все цивилизованные государства сурово карают за шпионаж. Не будем закрывать глаза, Михал Алексеич. Принадлежность Райниса к организации тоже бесспорна и никем, в том числе им самим, не оспаривалась. Столь же определенно могу сказать, что покойный Зутис – мой агент. Выводы делайте сами. Уверен, что Райнис по меньшей мере знал о приговоре.
– Быть уверенным и располагать фактами – не одно и то же. – Пашков прошелся от стола к окнам. Тонко поскрипывал под ним навощенный паркет. – Если у вас есть хоть какая-то надежда обнаружить личную причастность Райниса к злодеянию, извольте действовать по своему разумению, в противном же случае советую воздержаться. Представляете себе, какой поднимется шум? Только этого нам сейчас недоставало!
– Именно поэтому, Михал Алексеич, – елейным голоском проговорил Волков, – я и обратился к вам за советом. Мне радостно было услышать, что ваше мнение совпало с моим. Без надлежащей уверенности конечно же лучше не начинать. Но не кажется ли вам, что именно студент, о котором я упомянул, поможет нам ее обрести?
– Где уж мне учить вас, Юний Сергеевич, уму-разуму? – Губернатор скривился на мокрый снег за окном. – Выкладывайте-ка карты на стол. Чего вам надобно?
– Хорошо-с, Михал Алексеич! – Полковник подобрался. – На чистоту? По-солдатски? Люблю! Ей-богу, люблю… Загвоздка, видите ли, в том, что без студента нам к убийцам не подобраться. Улик, прямо скажу, никаких. Поневоле хватаешься за соломинку. Авось что-нибудь и выйдет. Но соломинка тоже не простая. Примитивно допросить его – отвертится. Оснований для задержания – никаких. Как тут быть? А выпускать обидно. Сердце слезами обливается, ваше превосходительство!
– И где же выход?
– Выход один. – Волков понизил голос до шепота: – Душу вытрясти из студиозуса, пока не выложит все, что знает.
– Но-но! Я этого не слышал, господин полковник! – строго нахмурился Пашков.
– Так нет же, ваше превосходительство, – Волков укоризненно покачал головой. – Вы не так подумали. Кто же его хоть пальцем тронет? – Он ударил себя кулаком в грудь. – Но погостить у нас молодому человеку придется…
– Меня не интересуют подробности, – отчеканил губернатор, постукивая по столу разрезальным ножом. – До сих пор, Юний Сергеевич, вы решали подобные вопросы сами, постарайтесь действовать аналогичным образом и впредь. У вас есть прямое начальство, на худой конец – господин губернский прокурор.
– Слушаюсь, ваше превосходительство, – Волков по-солдатски вскинул подбородок.
– Попрошу вас, Юний Сергеевич, коротко ознакомить меня с состоянием дел за последнюю неделю.
– Ничего нет проще, ваше превосходительство, – мановением фокусника Волков распахнул папку. – Позвольте начать с сегодняшнего инцидента?
– Пожалуйста. – Губернатор опустился в кресло. – Хотя полицмейстер уже докладывал мне.
– Тогда я опущу детали и сосредоточу основное внимание на политической подоплеке, ибо политические требования выходят на передний план. Лозунги, под которыми проходят манифестации…
– «Долой самодержавие!» – губернатор торжественно простер руку, – «Долой мобилизацию!» – И громко щелкнул пальцами. – Знаю, Юний Сергеевич, знаю. Премного наслышан. Однако зачем огонь открывать, милостивые государи? Обязанность полиции рассеять демонстрацию, арестовать коноводов, восстановить спокойствие и порядок. Но применять оружие без специального на то разрешения? Нет, господа, увольте! Я уже высказал полицмейстеру и приставу Митавского форштадта свое неодобрение. На страже общественной безопасности должны находиться люди решительные. Бесспорно. Но быки, которые дуреют от ярости при виде красной тряпки, нам не нужны. Их разрушительная деятельность только накаляет атмосферу… Сколько человек примерно участвовало в демонстрации у Русско-Балтийского завода?
– Около тысячи, ваше превосходительство.
– А в Задвинье?
– Точных данных нет. Известно лишь, что вышли работники Гермингауза, Эйкерта, Гесса и Илгуциемской текстильной фабрики. Человек шестьсот, надо полагать, набралось.
– Студенты?
– От Политехнического института пришло больше сотни.
– Всего, значит, – губернатор быстро прикинул в уме, – менее двух тысяч… Притом в различных районах города и в разное время. Теперь ответьте мне, Юний Сергеевич, сколько народу сбежалось на панихиду?
– Вы совершенно правы, Михал Алексеич. – Волков потупился с деланным смирением. – Несчастный случай вызвал большое возмущение.
– Несчастный случай? – Пашков отвернулся, чтобы скрыть раздражение. – Здесь мы можем, не стесняясь, называть вещи своими именами. Убийство случайного рабочего, Юний Сергеевич, человека из толпы, непростительно. Это больше чем преступление, как говорил Талейран, это ошибка. В насыщенном растворе стихийного недовольства мгновенно создался центр кристаллизации, вокруг которого стали группироваться откровенно деструктивные элементы. Я располагаю последними данными, полковник. На кладбище в Плескодале собралось более тысячи человек! Более тысячи, Юний Сергеевич! Вместо одного флага мы получили кумачовое нашествие. Имеет место геометрическая прогрессия, умножение, которое приведет к катастрофе.
– Прискорбный случай, Михал Алексеич. Насколько мне известно, полицейские стреляли в воздух.
– Я не верю в пули, рикошетирующие от облаков. Не будем говорить о случайностях. И не надо уверять меня, что убитый являлся видным комитетчиком, главным смутьяном. Не сомневаюсь, что это был первый попавшийся. Мне ясна психологическая подоплека происшествия. Полиция открыла огонь просто из трусости. Вот где причина! И это самое страшное. Здесь мы с вами совершенно бессильны. И все же я прошу вас употребить все свое влияние на пресечение подобных безответственных выходок.
– Слушаюсь, Михал Алексеич. – Волков откровенно завел руку за двупросветный без звезд погон и всласть поскребся. – Постараюсь, – без особой уверенности пообещал он. – Не разум правит миром, но стихия и случай. Сегодняшний случай, как вы знаете, не первый и, надо полагать, не последний. Он лишь следствие, а не причина. Хуже всего то, что неповиновение разрастается, как снежный ком. Антивоенные демонстрации перекинулись на уезды. Неспокойно среди батраков, и даже в некоторых воинских частях заметно брожение.
– Такая же обстановка сложилась и в Курляндии, – словно извиняясь, уронил Пашков. – Свербеев телеграфировал мне.
– У нас чуточку хуже, – Волков на пальцах отмерил небольшой промежуток. – В Вольмере и Сесвегене на прошлой неделе наблюдались волнения рекрутов. – И ради баланса присовокупил: – Зато в Либаве бурлит матросня.
– Вы будто утешить меня намереваетесь, – усмехнулся Пашков. – Противная сторона, – губернатор, отстаивавший обыкновенно идею классовой гармонии, впервые заговорил в столь непривычном для себя духе, – использует любую нашу неудачу, каждый досадный промах. С готовностью почти садистской они рады ухватиться за малейший повод, чтобы только досадить властям!
– Наконец-то, Михал Алексеич, вы изволили взглянуть правде в глаза. – Волков не скрыл злорадного удовлетворения. – Эсдеки давно раскусили, в чем секрет, и ловко используют затруднения правительства для успеха своей демагогической агитации. Они и не скрывают этого. Вот, например, что написано в последнем номере «Цини». – Он раскрыл папку: – «Когда теперь социал-демократы поднимают красное социал-демократическое знамя, то под него торопятся стать рабочие с разных фабрик и мастерских. Это лишний раз говорит, что будущность и победа принадлежат рабочим». Сказано, конечно, кургузо и звучит несколько смешно, но ведь и вправду торопятся! Слово подобрано верно. В Леннвардене на рыночной площади урядник вместе с хозяином гостиницы и лавочником задержали студента, распространявшего листовки. И что вы думаете? Рабочие с кирпичного завода избили урядника и освободили арестованного. Ныне рабочие, именно рабочие, Михал Алексеич, всюду с величайшей готовностью суют свой нос. Если раньше их волновали только заработки и трудовые часы, то теперь они вмешиваются даже в иностранную политику правительства! Их, видите ли, заинтересовали долги России и условия французского займа! Про войну я уж и не говорю. – Полковник устало свесил руки. – Чем дальше, тем хуже. Третьего дня опять собрались у тюрьмы, где политические объявили голодовку, и устроили шумное сборище.
– Но в тюрьме, говорят, слишком суровый режим? – Губернатор озабоченно сдвинул брови.
– А их какое собачье дело? – озлился вдруг Волков. – Не они же там баланду лопают?! Нет, ваше превосходительство, вся беда в том, что бессовестная демагогия некоторых злонамеренных интеллигентов растлила рабочего человека! Рабочему льстят, перед ним заискивают, внушают ему, что он пуп земли. Результаты налицо. Мы с вами не имеем минуты покоя. Возьмем, Михал Алексеич, в качестве примера деятельность поэта Райниса…
– Для вас с бароном Мейендорфом это прямо пунктик какой-то, – улыбнулся Пашков. – Кто про что, а вы про Карфаген.
– Вы так думаете, ваше превосходительство? – Искоса глянув на губернатора, Волков вынул из портфеля гектографированную листовку на скверной, занозистой бумаге. – Полюбуйтесь.
– Что это? – поморщился Пашков, испачкав пальцы краской.
– Переводик у меня тут, – полковник постучал ногтем по скоросшивателю. – Позвольте зачитать? – И начал читать нарочито скучным, невыразительным голосом: – «Ты, соловей, не пой, поскольку песня твоя так печальна. Мне же приходится вставать, когда на дворе еще темно, а ты растравляешь мое несчастное сердце. Где я работаю, нет солнца, а только копоть керосиновых ламп и гнилые испарения. В этом аду чахнет моя молодость. Шестнадцать часов длится мой дневной кошмар»… – Волков возмущенно фыркнул. – И далее в том же ключе. Хотелось бы знать, где он видел, чтобы работали по шестнадцати часов! Поэтическая гипербола, скажете? В Сибирь за такую гиперболу!
– Что это? – повторил Пашков и, смочив платок одеколоном, вытер руки.
– «Песня фабричной девушки». Стихотворение господина Райниса из запрещенной книги «Дальние отзвуки синего вечера».
– Листовка? – удивился губернатор, отодвигая неприятную бумажку на край стола.
– Как видите, ваше превосходительство. Таков отныне путь изящной словесности. Все смешалось в доме Облонских. Стихи с прокламациями, чувствительные слезы с подстрекательской клеветой. Теперь эту песенку поют на каждой текстильной фабрике. Паршивки с Гесса исколотили под ее утонченные звуки мастера и вывезли его на смоляной тачке за ворота.
– Чудовищно! А производит впечатление интеллигентного человека.
– Что вообще общего у него с рабочими, Михал Алексеич? – Полковник забрал листовку и бросил в портфель. – Сын богатого арендатора, получил прекрасное образование, женат на интересной и умной женщине, знаменит, талантлив… Какого же рожна ему надо! Казалось бы: живи и радуйся, так нет, с одержимостью маньяка он долбит в одну точку, внушая полуграмотной рабочей молодежи лживую идею избранничества, науськивает ее на правительство… Вы попросите, Михал Алексеич, господина Сторожева сделать более квалифицированный перевод. Наши специалисты считают, что стихи отличаются чрезвычайно лирической силой и проникновенностью. Поистине, муза Евтерпа – блестящая шлюха, если может служить столь низменной цели. Какое нравственное падение, какой преступный настрой души!
– И много таких листовок?
– Не могу дать точных цифр. Мы обнаружили эту дрянь во многих цехах. – Волков иронически скривил губы. – Справедливости ради должен признать, что сыскную полицию опередили литературные недруги господина Райниса. Они первыми прислали в жандармское управление несколько экземпляров листовки. Тираж ее меня уже не волнует. Если песню поют повсеместно и даже используют текст в качестве закладки для молитвенника, полицейскому контролю делать больше нечего. Увы! Тем и опасен Райнис, что подчинил свой огромный, как уверяют, талант вреднейшему из мировых зол: подстрекательству. Перед этим его прежняя деятельность в качестве редактора издания, пропагандирующего социалистические идеи, лишь игра шалуна со спичками.
– Если все зло только в нем одном, то славен наш бог. – На изнуренном лице Пашкова проступил раздраженный румянец. – Если можете поручиться, Юний Сергеевич, что тогда прекратятся общественные возмущения и прочие дикие эксцессы, то уберите его! Думаете, мне легко с вами спорить? Противостоять тем паче настояниям латышской элиты и давлению баронов? Я бы давно отдал вам его, если бы не был уверен, что это тяжким камнем падет на весы революции. Попробуйте разубедить меня, полковник, сделайте одолжение.
– Не берусь, ваше превосходительство, ибо солидарен. Подобной роскоши мы не можем себе позволить. Листовку с творением Райниса я использовал лишь для иллюстрации той успешной демагогии, которую используют социал-демократы. В ней, именно в ней, ключ к тем переменам, которые все резче обозначиваются в рабочем движении. Давайте попробуем использовать в борьбе с врагом его же оружие.
«Давайте, – хотел сказать губернатор, – конечно же давайте! Улучшим условия труда, перестанем стрелять в демонстрантов, прекратим избиения в участках и тюрьмах и, главное, выиграем эту нелепую и бессмысленную войну, на которую никто не желает идти. Отчего бы и нет?»
– Попробуйте прощупать студента, – сказал он с сомнением. – Вдруг ухватите кончик, чем черт не шутит? – И сразу перевел разговор: – Если бы господин Райнис написал не стишки, а статейку в газете да указал при этом наименование фирмы, столь бессовестно эксплуатирующей труд его сентиментальной девы, то можно было бы привлечь его по статье тысяча пятьсот тридцать пятой за квалифицированную клевету в печати. А тиражом все-таки поинтересуйтесь. Меня не столько поэтический опус волнует, сколько это воззвание латышской группы РСДРП, – Пашков вынул из ящика листовку с броским обращением: «Всем резервистам!» – Курляндский губернатор пеняет нам, что она печатается в Риге. Прошу.
По тому, с каким равнодушием принял листовку Волков, он понял, что преподнес всеведущему полковнику сюрприз, и возрадовался.
Михаил Алексеевич часто отпускал подначальных порезвиться на длинном поводке, но в нужный момент незаметно прибирал их к рукам и с неподражаемым изяществом ставил на место.
– Тираж – знаменательный показатель, – добавил он бесцветным тоном стареющего педанта. – Он характеризует не столько действительные возможности соцьялистов, сколько их необоснованные претензии. Вы согласны?
– Поразительно меткое замечание! – грубовато польстил сбитый с толку полковник. Больше всего ему хотелось сейчас знать, какой козырь приберегает для последней, самой крупной игры этот тончайший мастер интриги.
ГЛАВА 11
Слух о том, что Максим Горький вместе с актрисой Рижского русского театра Андреевой остановился в пансионе Кевича, быстро облетел взморье. Культурное общество было взволновано чрезвычайно. В дождливую несезонную скуку приезд знаменитости оказался как нельзя более кстати. За вечерним самоваром живо обсуждались живописные подробности его удивительной биографии. Не обделили вниманием и актрису, ставшую не только подругой, но и секретарем писателя. Всех занимало одно: как долго намереваются гости пробыть в Майоренгофе? И станут ли принимать? Догадки высказывались самые разные. В местном кургаузе на всякий случай начали хлопотать об организации вечера. Но Алексей Максимович приезжал, чтобы снять квартиру с пансионом на февраль – март будущего года, и, оставив задаток, отбыл в Ригу. Ни с кем из жаждущих личной встречи он не общался и предложение господина Хорна выступить в его зале с лекцией категорически отклонил. Общественность была разочарована. Об одной-единственной встрече, все же имевшей место в маленькой дачке близ виллы сахарозаводчика Бродского, никто не мог и догадываться. Она прошла мимо ищущих глаз скучающей публики, мимо недреманных очей политического сыска.
Алексей Максимович давно хотел познакомиться с переводчиком своей «Песни о Соколе», которую, как ему говорили знакомые рижане, восторженно приняла вся Латвия. Грех было бы не воспользоваться удобным случаем! Существовала и еще одна, видимо основная, причина, которая заставила его искать свидания с латышским поэтом. Мария Федоровна Андреева, молодой член РСДРП, должна была передать «товарищу из Варславан» поручение Рижского федеративного комитета.
Записку Горького Плиекшан получил от рыбака, который поставлял в майоренгофские гостиницы маринованные миноги.
Пока реку еще не тронуло ледком, змеевидная рыба охотно шла в донные ловушки и была на диво хороша в янтарном желе. Ее добытчик и продавец пристального внимания к своей особе не вызывал.
Плиекшан хорошо знал указанную в записке дачку. Она принадлежала члену федеративного комитета по кличке Дантист и нередко использовалась для конспиративных собраний. Домик стоял у самого обрыва, и кроме высоких, вечно запертых ворот к нему вели две крохотные калитки, почти незаметные в глухом дощатом заборе: одна выходила на тропинку, круто спускающуюся на пляж, другая, скрытая колючим можжевельником, – прямо в лес. Ею пользовались редко, и даже трава там не была вытоптана.
Когда Плиекшан узнал, что Дантист интересуется его «пломбой», то сразу же подумал именно об этой умело замаскированной двери. Он решил пройти до Майоренгофа пляжем. Если увяжется шпик, то на открытом пространстве его будет легче обнаружить. Конечно, следить можно и из лесу, но на такой случай Плиекшан тоже приготовил хороший сюрприз. У губернаторской виллы, нависающей над обрывом, преследователю волей-неволей придется либо выйти из-за деревьев, либо высунув язык кинуться в обход. Именно здесь и собирался Плиекшан дать неожиданный крюк и подняться по брусчатой дорожке на дюнный берег. Оттуда до потайной калитки рукой подать. Филер, если он действительно «сядет на хвост», останется с носом.
И хотя в тот вечер Плиекшан никого за собой не обнаружил, он все же осуществил задуманный маневр. Прогулявшись вдоль берега, где черные волны остервенело накатывались на осиротевший пляж, он примерно на середине губернаторской загородки повернул обратно и наискосок через облетевшие ивы бросился к брусчатой дорожке. Взбежав по серым растрескавшимся ступенькам на пригорок, он быстро огляделся и, соскользнув в заросшую непролазной бузиной ложбинку, пробрался к зубчатому, давно не крашенному забору, где и пропал нежданно за косматым кустом можжевельника. Затворив калитку – смазанные мазутом петли даже не скрипнули, – он обогнул заброшенную клумбу и остановился отдышаться.
Дом казался необитаемым. Сквозь закрытые ставни не просачивалось даже тончайшей иголки света. Сухая лоза ползучего винограда покинуто шуршала по ржавому водостоку, в котором допревала опавшая хвоя. Противно повизгивал на островерхой башенке флажок со сквозными, едва различимыми в сумерках цифрами. Дата – 1900 – на флюгере свидетельствовала, что дом был ровесником века. Но каким древним он казался! Усеянные битой черепицей гравийные дорожки проросли засохшими теперь сорняками. Зеленой плесенью затянуло крутой наветренный скат. «Все-таки надо ухаживать за домом, – подумал Плиекшан, – или он скоро начнет привлекать внимание». Он осторожно поднялся на крылечко и толкнул тяжелую дубовую дверь. Как он и ожидал, она оказалась незапертой. Споткнувшись в сенях о загремевшее ведро, он чуть было не опрокинул стоявший на полу самовар с высоченной трубой, чертыхнулся и схватился за лестничные перила.
– Кто это? – послышался сверху встревоженный женский голос.
– Не волнуйтесь, пожалуйста, – по-русски ответил Плиекшан и начал подниматься в башенку.
– Ну-ко, ну-ко, – отозвался с характерным оканьем чей-то добродушный бас. – Поглядим, какой он, этот человече из Варславан.
Мелькнул красноватый огонек, и на площадку вышел высокий мужчина с керосиновой лампой, в которой был прикручен фитиль.
– Здравствуйте, Алексей Максимович, – сказал Плиекшан, перешагнув через последнюю ступеньку. – Вот мы и встретились. – Он с любопытством рассматривал знакомое по фотографическим портретам лицо.
В тусклом озарении лампы Горький показался ему старше своих лет. Он был безбород, с длинными, как у семинариста, волосами. В темных провалах глаз и усов угадывалась лукавая улыбка.
– Вот вы какой! – Алексей Максимович прибавил света. Кинжальный язык пламени взметнулся в стекле и взвился копотью. Пахнуло уютной затхлостью керосина. – Заочно-то мы давно знакомы. – Он приветливо протянул свободную руку. – А свидеться только вот когда довелось. Ну ничего, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Добро пожаловать! – пригласил он, пропуская гостя в башенную комнатенку.
– О, вас я хорошо знаю! – поклонился Плиекшан сидевшей на венском стуле женщине. Она кутала узкие плечи в цыганскую, с длинной бахромой, шаль. – Последней раз видел в роли Наташи. – Он склонился, целуя узкую руку. – И вообще преданный ваш поклонник.
– Я тоже много знаю о вас, Райнис. – Она благодарно чуть сжала его пальцы. – И, кроме того, у меня к вам дело.
– Вот как? – заинтересовался Плиекшан. – Наверное, радостью видеть вас я обязан каким-нибудь театральным знакомым?
– Знакомым, но далеко не театральным. – Она поправила затейливую прическу и деловито сообщила: – Вам привет от Леписа.
– Спасибо, – кивнул Плиекшан, вспомнив сразу маевку и отважного черноволосого франта, который так и не вернул Жанису его шляпу.
– Закончили свои особые разговоры? – спросил Горький, расхаживая по комнате. Длинная косоворотка его, подпоясанная тонким кавказским ремешком, неясно светлела в сумрачном углу, где лунно поблескивали печные саардамские изразцы. – Если закончили, то и меня примите в компанию. Больно поговорить охота.
– Еще как охота! – Плиекшан потер руки. – Зябко здесь, однако, Алексей Максимович!
– Топить нельзя. – Горький погладил холодные изразцы. – На дымок живо нечистая сила слетится.
– Шныряют здесь всякие оборотни, – подтвердил Плиекшан.
– Хочу от всей души поблагодарить вас, дорогой Янис, – простите, как вас по батюшке? – за великолепный перевод «Сокола»!
– Какие могут быть между нами благодарности, Алексей Максимович? – смущенно улыбнулся Плиекшан. – А отца моего Кристапом звали, Христофором то есть…
– Нет-нет, огромное вам спасибо, Янис Кристапович, что не пожалели ни сил, ни таланта бесценного на перевод. Слыхал, что рабочему люду латышскому понравилась песня. Очень мне это приятно.
– Моей заслуги тут нет решительно никакой. – Плиекшан принизил коптящий язычок. – Вас и без того понимают и ценят, Алексей Максимович. Не будем далеко ходить за примерами. Ваш покорный слуга трижды смотрел на русской и латышской сцене «На дне». «Буревестника» же и, само собой, «Сокола» наизусть помню. «Жажда бури»! Удивительное это все-таки чувство. Как там в столице дела, Мария Федоровна?
– То же, что и здесь. – Она несколько раз глубоко, словно ей не хватало воздуха, вздохнула и мечтательно улыбнулась. – Вы правы, Янис Кристапович, атмосфера насыщена электричеством, и гром может грянуть в любую минуту.
– Заждалась Россия очистительной грозы. – Горький положил локти на стол и подпер кулаком подбородок. Темные огоньки мечтательно переливались в его глазах. – Народ, други мои, властно выходит на историческую сцену. Не просить идет – требовать! Свое, законное… Героическое время настает, Янис Кристапович! Литература, как чувствительнейший барометр общественных ожиданий, первой это ощутила. Одним просто душно и невтерпеж, другим страшно и радостно. Но в одном все едины, все с трепетом душевным поджидают революцию. Я, само собой разумеется, про честных людей говорю. Не господина Суворина и иже с ним в виду имею. Так разве не наш долг воспеть великолепие обновленного мира, мятежное упоение битвой?
– Новое искусство необходимо для этого, Алексей Максимович, – Плиекшан обрадовался, что Горький заговорил с ним именно на такую давно волновавшую его тему, – которое было бы чем-то сродни европейскому романтизму. Но иное, чем романтизм, близкое сердцу рабочего человека.
– Могуче вы сказали, – одобрил Горький. – Замечательно верно!
– В первую голову необходим новый герой, – задумчиво произнесла Андреева. – Выразитель мыслей и чаяний угнетенного человечества. Натура страстная, деятельная, которой чуждо пустопорожнее резонерство.
– Рассуждать тоже не мешает, – с шутливой улыбкой возразил Плиекшан. – Жизнь необходимо отобразить во всем ее богатстве. Духовные сокровища минувшего, противоречия сегодняшнего дня, из которых родится наше завтра, и волнующие грезы и неясные ожидания – разве без этого мыслима человеческая культура?.. Мне пришла идея написать сказку о прекрасной девушке, которую злые силы лишили памяти. Один раз, в начале каждого века, выходит она из скалы, в которую заточена, и просит прохожих отгадать ее имя. Но никто не может.
– Что же это за имя такое? – спросила Андреева и улыбнулась, не разжимая губ. – Вы-то хоть знаете?
– Я знаю. – Плиекшан опустил веки. – Я поэт.
– Лихо! – обрадовался Горький. – Просто-таки мудро. Только поэту и суждено расколдовать вашу царевну. Перо необходимо и вещее сердце поэта. У вас, латышей, есть замечательные слова про меч и перо… Вот досада! Забыл! – Он по-детски потер лоб кулаком.
– Mus`asais ierocis ir spalva – наше оружие – перо, – подсказал Плиекшан.
– Именно! – Горький повторил фразу по-латышски. – Какая музыка! Какое уверенное достоинство. Но простите, бога ради, Янис Кристапович, перебил вас. Чем же закончите сказку-то?
– Вы ее уже сами закончили, Алексей Максимович, – Плиекшан радовался и поражался тому, насколько близко они чувствовали и мыслили с этим странновато одетым человеком, которого он знал и любил давно, с кем познакомился только теперь.
– Сложная символика, – заметила Мария Федоровна. – Бард и зачарованная королевна.