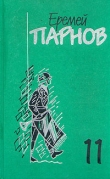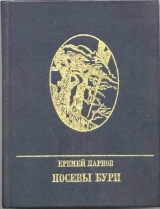
Текст книги "Посевы бури. Повесть о Яне Райнисе"
Автор книги: Еремей Парнов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
– А я понимаю, – Горький хитро прищурился. – Не поэт расколдует деву, а, напротив, она его вдохновением одарит! Так, Янис Кристапович?
– Так. – Плиекшан ощущал себя бодрым и молодым, впервые, кажется, после ссылки. – Не знаю, что может сделать поэт для революции, – верю, многое, – но революция для поэта, как земля для Антея. В ней истинная сила его и вдохновение. Коли не ей служить, то чему? Ведь если не отдать себя целиком, до последней кровинки, то и взлета никакого не будет. А что другое способно захватить нас столь всеобъемлюще властно?
– Вот она, Мария Федоровна, романтическая окрыленность века, – наклонился Горький к Андреевой. – Завидую удивительной цельности вашей, поэт Райнис. – Он растроганно развел руки, показывая, что не находит слов. Но сейчас же заговорил спокойно и обстоятельно, высказывая давно обдуманные мысли: – Нельзя только разрушать. Сметая тлен, надо во весь голос приветствовать новое солнце. Беспощадная зоркость совы не должна мешать песне жаворонка.
– Отрицание и утверждение неразделимы, как свет и тьма, – добавил Плиекшан.
– Вас не смущает применение термина «романтизм» к психологии пролетариата? – Горький выжидательно наклонился к Плиекшану.
– Нет, Алексей Максимович, не смущает. Важно содержание, которое мы вкладываем в те или иные слова. Новый романтизм, очевидно, так же противоположен шиллеровскому порыву, как и нарочито приземленному натурализму.
– Не перестаю поражаться зоркости вашего понимания. – Горький расчувствовался настолько, что готов был обнять Плиекшана, но мешала природная сдержанность латышского поэта, которую Алексей Максимович принял даже за некоторую чопорность. – Не перестаю, – повторил он, гася порыв. – Рабочий люд начинает смотреть на себя как на хозяина мира, освободителя человечества. Это дерзость воли и разума.
– Знамение века, Алексей Максимович. Само время ныне стало великим. Пусть его бег все еще ощущается как тяжелый удушливый гнет, но воздух, как верно сказала Мария Федоровна, уже до предела насыщен электричеством. Пролетариат действительно осознал себя историческим классом. Да что там говорить: царизм стал тесен даже капиталисту. И это лишь усиливает ярость безнадежно больной, но еще могучей монархии. Вы спросите – зачем я об этом заговорил?
– Не спрошу, – покачал головой Горький. – Предчувствую, что объясните.
– В наш век далеко не достаточно привычной полярности: свет – тьма, ночь – день, свобода – рабство. Вот почему многие современные художники вместо живых полнокровных людей создают, говоря словами Маркса, ходячие «рупоры духа времени». Грядущий романтический персонаж, Мария Федоровна, должен все-таки говорить языком Вильяма Шекспира. Как вы полагаете?
– Могу только сказать, что актеру всегда приятнее играть роль полнокровного человека, а не ходульного выразителя правильных идей. – Андреева взяла с канапе меховую муфту, чтобы согреть руки. – А зритель, по-моему, примет и Шейлока, и Карла Моора. Лишь бы с душой было сыграно, с полной самоотдачей.
– Зрителя воспитывать надо. – Горький набросил на нее шубку. – Совсем холодно стало. – Он прошелся во комнате. – Хорошо еще, что из окон не дует.
– Вы бы тоже оделись, Алексей Максимович, – предложил Плиекшан, который так и остался в пальто, лишь снял шляпу.
– Мне хоть бы что! – Горький довольно махнул рукой. – Я ко всему привычен. Воспитывать! – Он вернулся к оставленной мысли. – Это сегодня он предпочитает всему балаган, а завтра, глядишь, сам потребует Гамлета, принца Датского… Как же я любил ярмарочные представления! – мечтательно зажмурился он. – Нет, не скоро отойдет народ от балагана.
– А может, и не надо, Алексей Максимович? – с улыбкой спросил Плиекшан. – Многие просто недооценивают благороднейшую роль самой примитивной сатиры. Ведь в ней душа народа, его стихийное чувство справедливости. Сатирой больших целей можно достичь. Без нее я просто не мыслю поэзии. Мой поворот в эту сторону совершился почти бессознательно. Вероятно, это идет от наших латышских, литовских и белорусских народных песен.
– По-видимому, то, что творится теперь, – Горький живее закружил вокруг стола, – более значительно и важно, чем мы думаем. Порой мы не замечаем, что стоим в начале нового исторического процесса. Из кровавой пены всемирных подлостей рождается некий синтез или намек на синтез в будущем. – Торжественно простер руки и почти молитвенно прошептал: – Красота! Свобода и красота! Все живое тянется к красоте.
– К солнцу можно тянуться по-разному, Алексей Максимович. Как подсолнух, поворачивающий вслед за светилом золотой венчик, и как бунтарь, рвущийся из подземелий. Протест против обыденности – это уже первый шаг к красоте. И пробуждается жажда новых святынь.
Плиекшан поймал себя на том, что высказал слова Аспазии. «Впрочем, что же здесь удивительного?» – мысленно улыбнулся он.
– Вот и я так чувствую. У вас артистическая душа. – Андреева медленно обвела Плиекшана взглядом. – Вы так похожи на одного моего знакомого…
– Это бывает… – Он прислушался к шороху лоз за ставнями. – Ветер… Я где-то читал, что на каждые двести тысяч человек встречается двое одинаковых. Ваш знакомый латыш?
– Из Жемайтии.
– Древнее сердце Литвы! Знаю и люблю этот край. А я, Марья Федоровна, родился в Латгалии в одном из семи дворов Таденавской усадьбы Варславаны.
– Я думала, что «товарищ из Варславан» – ваша партийная кличка.
– Латгалия… – мечтательно протянул Горький. – Какая она, эта расчудесная ваша земля?
– Так сразу и не скажешь… Первое, что я увидел в жизни, было солнце. Ослепительное, праздничное. Оно всегда со мной, Алексей Максимович, это залитое солнцем окно. Как жаль, что нам не дано возвращаться в детство!
– Меня-то не тянет туда, – пошутил Горький.
– Потому что вы еще молоды, – грустно улыбнулся Плиекшан. – А меня влечет в мое солнечное гнездо. Потом, мне было тогда уже четыре года, отец арендовал имение Рандене под Двинском, и я увидал большую реку. Как много значил для меня весенний разлив Даугавы! Возмущенное и праведное буйство напитанной светом воды… Иногда мне грезится зеленая долина реки, извилистая разъезженная дорога, синий далекий лес. Как долго тянется день для ребенка! Отчего бы это? Сейчас месяцы пролетают и годы – не успеваешь оглянуться, а тогда… Каждая минута была наполнена радостным открытием мира. Что за луг? А это роща? Что за облако? Что за цветок? Лес зеленый. Почему бы? Облако белое. Отчего?
– И теперь не знаете? – Лукавые морщинки оживили широкое скуластое лицо Горького.
– Не знаю, – признался Плиекшан. – И часто грущу, что мир вокруг уже не блещет для меня красками прежней оглушительной чистоты.
– Вы, наверное, давно не были на родине? – Андреева задумчиво чертила пальцем какие-то узоры.
– Очень давно. Последний раз я прошел тропинками детства в августе этого года. – Плиекшан шутливо приложил палец к губам: – Только никому ни слова!
– Неужто и полицмейстер не знает? – притворно ужаснулся Горький.
– Увы. Говорят, он очень скучал без меня, волновался. Наверное, воображал, что я начиняю бомбы пикриновой кислотой. А я просто гулял по лесам и в шалаше у друга детства Вилиса Силипя писал свою драму. Я был очень счастливым мальчиком, Алексей Максимович, хоть и рос один. Юность – это источник, из которого мы черпаем потом всю жизнь. Я уверен, что последнее, что увижу в жизни, будет залитое солнцем окно. Ведь все мое детство было наполнено чудесными красками и звуками. Я словно купался в солнечном море. – Плиекшан улыбнулся. Он перестал ощущать унылый холод полутемной комнатенки. Стены ее раздвинулись, ярче вспыхнуло ламповое стекло, выдувающее искорки сажи, в радостном оглушительном шуме весеннего ледохода потонули тоскливые шорохи лоз и грохот волн. – Даже имя свое я нашел на латгальском всхолмье. Я нисколько не шучу! Прочел его на древнем каком-то межевом столбе. Меня как в сердце кольнуло, когда я разобрал полустертую замшелую надпись. Райна! «Кто он такой, этот Райна? – подумал я. – Где теперь его кости?» Но можно было не спрашивать. Я уже все знал и все вспомнил. Это я, Райна, погоняя усталую лошаденку, взрыхляю деревянным плугом тусклый суглинок и перетаскиваю на межу вывороченные валуны.
– Голос предков, – понимающе кивнула Андреева.
– Скорее, голос земли, Мария Федоровна. Мои родители пришли в Аугшземе с земгальских равнин: мама родилась в усадьбе Одыни Барбалского уезда, отец – на хуторе Плиекшаны Стелпской волости. Но я-то пришел в мир с Латгальской земли! Вот она и нашептала мне мое настоящее имя.
– Вы говорите, что росли один? – Горький отошел от печки и опять принялся кружить по комнате.
– Отец не позволял мне играть с батрацкими детьми. Таков уж он был! В Аугшземе наша семья переселилась с острова Доле. Отец, который начал самостоятельную жизнь столяром, впервые сделался хозяином. Сперва арендовал Червонскую корчму, потом имение в Таденаве… Нет, он не хотел, чтобы я рос среди батрацких ребятишек. Но недаром говорится, что запретный плод сладок. Насколько помню, меня всегда тянуло на батрацкую половину. Мне часто снятся старая пастушка Ония, белорус Нездевецкий – наш ночной сторож, литовец Марчул. И я просыпаюсь в слезах, хотя не плакал, наверное, с той поры, как меня отвезли в Гривскую гимназию.
– Я бы очень хотела почитать ваши вещи! – воскликнула Андреева. – Очень!
– В самом деле, Ян Кристапович, отобрали бы что-нибудь для перевода да отдали мне. Я бы вам хорошего переводчика в Питере подыскал, – поддержал Горький. – Пусть и в России узнают, какого поэта взрастила Латгалия. Да и долг платежом красен. Подумали бы на досуге-то…
– Нечего долго раздумывать, Алексей Максимович, благодарю вас. Ближе всего моему сердцу драма «Огонь и ночь». Что же касается стихотворений, – он задумался, – лирику трудно переводить. Более удаются переводы без рифм. По крайней мере мысль остается… Я дам вам для перевода «Разгага Иеза» – «Страшный суд», Алексей Максимович. При всех внешних отличиях это стихотворение близко к «Песне о Соколе». Мне противен традиционный культ нищих в нашей поэзии, лицемерное сострадание чистеньких господских сынков «меньшому брату». Угнетенный класс требует, а не ждет подаяния.
– Мы положительно думаем с вами об одном и том же. – Горький все же накинул на плечи пальто. – Пора прекратить распевать благостные панихиды по усопшим рабам. В нашей огромной стране должны быть и есть свободомыслящие, новорожденные души, которым вовсе не интересно читать об излишнем употреблении уксусной эссенции. Ах, Лиза, или там Марта, отравилась! Зачем им такие рассказы? Новые эти люди – соль нашей земли, основной, как вы ясно определили, класс. Они сочиняют преуморительные частушки, смеются над каторгой, над своими ранами, над терзаниями собственной жизни! Да на черта им сентиментальные слезки! Надо раздувать искры нового в ярчайшие огни, а старое, рабье, живущее в душах от крепостного права, – долой! Потому-то и следует немножечко подняться над обыденностью, над бедной улочкой, где в подвалах ютятся бедные мысли. И так не одни мы с вами думаем!
– Я знаю, Алексей Максимович. Таков голос века. У искусства, науки, литературы всегда была одна цель: вести общество не только к материальному прогрессу, но и к человечности. Но это как раз у нас нередко забывается. Анархисты сами не замечают, как скатываются в лагерь отпетых реакционеров. Чем они, в сущности, отличаются от Ницше? – Плиекшан заметил, что Андреева плотнее запахнула ворот. – Мария Федоровна совсем озябла, – озабоченно сказал он, – видимо, пора расходиться. А жаль!
– Чертовски жаль! – Горький взял его руки в свои. – Нам надо почаще видеться. Если все будет благополучно, мы переедем в Майоренгоф в средних числах февраля. Ужо тогда наговоримся!
– И не забудьте про стихи. – Андреева протянула Плиекшану руку: – Даст бог, встретимся.
Поднимаясь перед лодочной станцией по деревянной лесенке, Плиекшан обернулся. Вставшая над бором луна освещала пустой пляж и взбудораженное море, отчужденно мерцающее глубинным нерадостным блеском.
ГЛАВА 12
Стараниями Аспазии стихотворение Бориса Сталбе было пристроено в журнал «Маяс Виеса Менешраксты». Редактор немного покривился, но под ласковым нажимом «Очаровательницы», как он галантно именовал госпожу Эльзу, уступил и даже согласился по напечатании выплатить гонорар. За первую публикацию начинающего поэта! Случай, конечно, неслыханный. Упоенный автор отнес весь успех на собственный счет и окончательно решил посвятить себя музам. О том, что весельчак редактор, засыпавший его возвышенными комплиментами, порядочно недоплатил самой Аспазии, он, разумеется, не догадывался. Не знал студент и того, что журнал начал переговоры о публикации драматической поэмы Райниса «Огонь и ночь». А если бы и знал? Разве способны любые, даже самые значительные, подспудные течения умалить очевидный триумф? Борис пребывал в состоянии непреходящего восторга. Все, в том числе тягостную обстановку траура, уныние родственников и даже отсутствие своего имени в завещании незабвенного дядюшки, он воспринимал теперь как некий сон, за которым вот-вот последуют веселое пробуждение и совершенно ослепительный взлет. Мысль о неизбежности смерти и бессмыслице всего сущего перестала терзать его неизбывным кошмаром замкнутого круга.
С легким сердцем устроился он на деревянной скамье вагона третьего класса и прильнул к окну. Дела складывались как нельзя более удачно. Поручение тетушки Мирдзы удивительно совпало с намерениями самого Бориса. Деловые операции в Учетном банке он надеялся провернуть за какой-нибудь час, чтобы посвятить оставшееся время визитам в редакции. Ларчик, оказывается, открывается просто. Путь к успешному сотрудничеству обусловлен личным контактом, тогда как присланное по почте господа редакторы – теперь это ясно – просто выбрасывают в корзину.
Прозвенел третий удар колокола, засвиристел свисток обера, и по вагонам пробежала железная судорога. Медленно поплыли навстречу уродливые обнаженные ветлы, семафор и потемневшие телеграфные столбы. Одинокими островами лежали языки первого нестойкого снега, грязноватого, как небеленый холст. Смерзшимися комками облепил он сосны и крыши проплывающих за окном станций. Над черной водой Лиелупе отчужденно курился стынущий пар.
– Позвольте разделить ваше одиночество? – с развязным радушием обратился к Борису веселый господин атлетического сложения.
Тяжело отдуваясь, распахнул он хорьковую шубу, стащил с головы боярскую шапку и даже скинул калоши, алое дно которых блеснуло медными буквами. Борис, не вставая, приподнял свою прусскую фуражечку и с пристальным интересом писателя-душеведа принялся изучать попутчика. Ничто не укрылось от его неожиданно проснувшейся зоркости: ни темное пятно на лбу, поросшее золотистым пушком, ни мушка усов, ни мясистые, по-бабьи пухлые щеки. Господин в богатой шубе оказался человеком запасливым и обстоятельным. Заняв место напротив, он первым делом полез в саквояж, и в мгновение ока на столике очутились пергаментный сверток с цыпленком, банка ревельских килек, караш и полбутылки коньяка с шустовским колоколом и соблазнительным созвездием на кольеретке.
– Не угодно ли ради знакомства? – подмигнул атлет, раздвигая манерки, и точным ударом вышиб пробку. – Отставной корнет, а ныне владелец мызы в Кеммерне Пауль Освальд, – представился он.
– Очень приятно, – вскочил Борис и, бросив фуражку на сгиб локтя, по-корпорантски энергично вздернул подбородок. – Сталбе, дерптский студент! – Стыдясь собственной бедности, он извлек жестянку леденцов «Жорж Борман», которая оказалась, на счастье, в его баульчике рядом с несессером и фиксатуарной палочкой. – Собрался знаете ли, второпях… Едва успел позавтракать с Аспазией, – пробормотал он совершеннейшую ложь, которая должна была возвысить его в глазах собеседника.
– Что? – Отставной корнет даже глаза выпучил. – Вы знакомы с нашей несравненной поэтессой?
– Знаком, – играя перчаткой, устало ответил Борис, но не выдержал и весь засветился, обрадованный успеху мгновенной импровизации. – Мы как раз отбирали с ней стихи для печати. – И после многозначительной паузы небрежно бросил: – Мои.
– Как, господин Сталбе, – корнет был окончательно поражен, – вы тоже поэт? Однако чему же я удивляюсь? – Он знаком попросил о снисхождении. – Кажется, мне встречалось ваше имя в печати.
– Едва ли. – Студент скромно улыбнулся. – Я пишу под псевдонимом.
– И где же вас печатают? – Господин в шубе даже прослезился от избытка чувств и дрожащей рукой принялся разливать коньяк. – Небось в столичной «Петербургас авизес»? В «Тевии»? Вот уж повезло мне, так повезло! – признался он с обезоруживающей наивностью. – Первый раз встречаю живого писателя. За такое и выпить не грех!
Борис сам поразился собственной удали. До чего же ловко удалось ему хлопнуть стопку! Залихватская манера не укрылась от наблюдательного корнета.
– Прямо гусар! – одобрил он с видом знатока. – Сразу чувствуется, что вращаетесь в высшем свете. А ну по второй!
После третьей рюмки они выпили на брудершафт и принялись весело болтать о женщинах, винах и лошадях. У Бориса уже приятно плыла голова и горячо млело в груди, когда он, преисполнившись гордости, заметил, что собутыльник гораздо пьянее его. Иначе зачем было рассказывать о «гусарском насморке», который он подхватил в Ковно, не долечил у Калинкина моста в Питере и лишь у Фурнье, в Париже, окончательно ликвидировал? Только из вежливости Борис поддержал разговор и поделился своими похождениями, тут же придуманными, в изысканных будуарах Дерпта.
– Представь себе, Пауль! – живописал он. – Я пробрался в эту глухую от драгоценных материй тишину, благоухающую парижскими ароматами, и увидел в трюмо отражение тугого черного чулка, утопающего в пене кружев… – Он неожиданно потерял нить. – И вообще было необычайно весело, когда мой друг барон В. потребовал пуншу и я поджег облитый ямайским ромом сахар.
Время пролетело незаметно. Когда поезд прогрохотал у Бильдеринсгофа по мосту, бывший корнет внезапно отрезвел.
– А зачем мы, собственно, едем в эту Ригу? – спохватился он. – Что мы там потеряли? Давай пересядем на встречный и махнем ко мне на мызу! У нас такая охота!
– Не могу, Пауль, – Борис с сожалением развел руками. – Меня в редакциях дожидаются. – О том, что никакой охоты в такую пору просто не может быть, он даже не подумал. И вообще мало ли какие идеи рождаются за рюмкой?
– Не ж-желаешь на охоту, давай устроим загуленц в «Европейской». По-нашему, по-гусарски! – кипел страстями корнет. – А после… Я знаю один дом, – он прижал палец к губам. – Таких нет не только в вашем занюханном Дерпте, но и в самом Петербурге!
– Рад бы, – вздохнул студент, мысленно пересчитав каждый гривенник в своем кошельке, – но у меня дела. Деловая, понимаешь, поездка. Лучше в следующий раз. Ты не сердишься, Пауль?
– Вот она, нынешняя молодежь! Мы были другими! – Корнет ударил себя в грудь. – Для нас закон товарищества считался превыше всего. Скучно мне, – он застонал и потянулся. – Дела да дела! Плюнь.
– Нельзя, брат Пауль, никак нельзя, – защищался Борис.
– Вот уж не люблю! Ей-богу, не люблю! И что у тебя за гешефты такие?
– Видишь ли, Пауль, – попытался объясниться студент, – я еду ходатаем своей овдовевшей танте. Если бы это касалось меня, я бы тут же вышвырнул жалкие векселя и чеки за окошко. Но в том-то и дело, что приходится хлопотать за старушку. Кто ей еще посодействует? А так, клянусь честью, рванул бы кутить до утра! Ты мне до чрезвычайности нравишься!
– Покажи векселя, – деловито потребовал корнет, расчищая место на столике. – Я в этом деле мастак, а тебя, чего доброго, в банке облапошат. Ух и народец же там! Не приведи господь.
– Изволь, – Борис протянул завязанный крест-накрест пакет.
– Полистай-ка, чтоб не скучать. – Гуляка Пауль вынул из внутреннего кармана пачку варшавских cartes postales с такими позами, что у бедного студента запылало лицо. – Есть вполне даже ничего.
Пока Борис дрожащими руками перелистывал открытки, корнет быстро ознакомился с векселями и прочими бумагами, щедро заклеенными гербовыми марками. Бросив быстрый взгляд на поглощенного созерцанием студента, он сделал несколько беглых пометок у себя в книжечке и отложил один из векселей в сторону.
– Твоя тетка надеется получить и по нему? – Он царапнул пожелтевшую бумажку длинным ногтем, который отращивал на мизинце. – Срок давно истек. Наплачешься со всякими взысканиями-опротестованиями! Больше чем по четвертаку за рубль не содрать.
– Танте готова помириться не менее чем на сорока копейках, – рассеянно ответил студент.
– Нипочем не сдерешь! – категорически отрезал Пауль. – Тебе это не под силу… А знаешь что? – Он почесал голову, обмозговывая возникшую идею. – Я куплю у тебя этот вексель. Из пятидесяти процентов. Может, тогда поймешь, что такое дух настоящего товарищества!
– Ой, что вы! – испугался Борис. – Мы не нуждаемся в благодеяниях. – Не выпуская из рук карточек, он гордо подбоченился. – Для вас это верный убыток.
– За меня не волнуйся, дурашка. – Пауль снисходительно присвистнул. – Я мытый-катаный, свое верну. От меня не отвертишься! Так что никаких благодеяний нет. Услуга – это да, потому как сам ты не справишься. Ну, что, fichtre,[12]12
черт возьми (фр.).
[Закрыть] по рукам? – Широкую потную ладонь он сунул Борису под самый нос. – Как у нас, гусаров, принято?
– Спасибо тебе, Пауль. – Борис растроганно пожал протянутую руку. – Ты настоящий друг!
– Тогда вот моя кайстра, passez le mot, я хотел сказать касса, простите за выражение. – Роясь в бумажнике, он дурачился и мешал французские выражения с воровским жаргоном. – Мы, слава богу, не купцы и в куртаже не нуждаемся. Извольте получить, – Пауль веером сложил четыре синих билета. – Ровно двести рублёв. Сороковка, имей в виду, лично твоя, потому как для танте стараться мне резону нет никакого… Дядька-то много оставил?
– Ни полушки. – Борис с преувеличенным интересом подался к окну, за которым мелькали пригородные усадьбы и крытые дранкой избы. – Сомневаюсь, станет ли теперь танте вносить плату за обучение.
– Как пить дать, не станет, – уверенно отрезал Пауль. – Знаю я этих престарелых гусынь! Подавятся за копейку-то… Но ты, надо думать, хорошо зашибаешь стихами? Сколько там у вас за строчку полагается?
– Разумеется, – смешался Борис, – мои обстоятельства не так уж и плохи, хотя известное стеснение…
– Райниса тоже знаешь? – перебил его новым вопросом корнет, почти задыхаясь от восторженного любопытства.
– Само собой… Мы, люди искусства, обычно тесно связаны между собой.
– Неужто Райнис так запросто любого к себе допускает?!
– Не любого, – Борис собрал со стола бумаги и деньги, – и, конечно, не запросто.
– Дорого бы дали газеты, чтобы узнать, о чем говорят у него дома, – как бы мимоходом заметил Пауль.
– А ты почем знаешь? – Борис вздрогнул от неожиданности и широко раскрыл глаза.
– Разве я не латышский патриот? – Корнет втянул голову в плечи и заговорил шепотом: – Или не знаю, как обложили ищейки нашего Яна? Поневоле он должен вести уединенный образ жизни. Поэтому газетчики из кожи вон лезут, чтобы раздобыть сведения о его жизни, привычках и прочее. Читатель-обыватель требует! Мне рассказывали, что какой-то гимназист всего за сорок строк о своей прогулке с нашим народным поэтом получил сто рублей… Напишешь когда-нибудь книгу, разбогатеешь. Счастливчик! Есть чего порассказать?
– Еще бы! – самодовольно ухмыльнулся Борис. – Одна его переписка с Аспазией чего стоит! Между прочим, госпожа Эльза сберегает ее в фамильных часах. Курьез? Да, дружище, от меня у них нет секретов. Все письма перечитал для истории. Такие дела!
– Расскажи еще что-нибудь!
– Так ведь подъезжаем уже.
– Наплюй! В буфете первого класса посидим – угощаю!
– Тороплюсь я, Пауль. – Он виновато потупился. – Может, в другой раз?
– Нечего манкировать. – Отставной корнет закрыл складной нож и бросил его в саквояж. – Отчего бы тебе завтра не заняться бабскими хлопотами?
– Завтра? – с сомнением переспросил Борис.
И в самом деле, почему нет? Мысль показалась заманчивой. Сорок рублей, которые он с такой изумительной легкостью заработал, давали известную свободу. Да и вообще не следовало проявлять неблагодарность.
– Решено! – Он торжественно пожал Паулю руку. – Гулять так гулять!
– Вот такого я тебя люблю! – засюсюкал корнет. – Ах ты мой зюмбумбунчик!
– Но с одним условием! – Студент важно нахмурился. – Угощаю я!
– Как хочешь, душа моя, – согласился покладистый Пауль. – Давай сперва ты. Зато потом, когда зажгутся фонари… – Он попытался запеть, но сбился. – Эх, и пошумим же мы, братец!
Последним в цепи удивительных происшествий этого бесконечного дня Борису запомнился роскошный зал с пальмами и горящими под лепным потолком калильными лампами в матовых шарах. Едва они расположились за уединенным столиком, ласкавшим глаз ледяной белизной скатерти и салфеток, продернутых сквозь кольца из белого металла, он потребовал человека и велел заморозить шампанского.
– Кордон-вэр, – успел шепнуть Пауль, чтобы вышло подешевле.
– Вот именно! – подтвердил Борис, поджигая папироску, из которой высыпался табак. – А также вальдшнепов и омара!
– Прошу прощения, – почтительно наклонился над ним официант, – не по сезону-с. Зато имеем предложить господам куринскую лососину, куропаточек паризьен, господарские фляки.
– К чертям куропаточек! – Пауль развернул салфетку. – Давай лососину с лимончиком.
– И две груши, – упавшим голосом сказал Борис, изучая меню. – Как здесь, однако, дороги фрукты.
– По сезону-с. – Официант попятился и скрылся за пальмой.
Борис и опомниться не успел, как откуда ни возьмись возникло дубовое ведерко с колотым льдом, в котором наклонно лежали пузатая бутылка и запотевший графинчик с водочкой.
– А ну-ка тяпнем для начала тминной! – предложил Пауль, плотоядно потирая руки. – За дружбу! – И сделал лакею знак.
Борис опрокинул очутившуюся перед ним полную рюмку и окончательно размяк. Все смешалось в бедной его голове: быстро темнеющий за окнами день и болезненный красноватый накал электричества, ледяное вскипающее вино и невыносимая сладость тминной, мечты и явь, поражающие воображение похождения отставного корнета и собственная вдохновенная ложь. Из красноватой мглы, из калейдоскопического мелькания вырывались отдельные предметы, видимые почему-то с нечеловеческой четкостью. Сквозь глухую шумовую завесу прорывались обрывки фраз.
Еще он, кажется, подмахнул какую-то бумаженцию, которую зачем-то подсунул в разгаре веселья Пауль, а на улице ни за что не давал застегнуть на себе медвежью полость. Кричал извозчику, что хочет закаляться, поскольку тренирует себя по системе Мюллера. Вот, пожалуй, и все. Больше и припоминать-то нечего. Он совершенно забыл, по какому поводу произнес заносчивые, угрожающие слова, которые продолжал твердить и после, когда улеглась неизвестно отчего вспыхнувшая обида и все изгладилось.
– Как вы смеете? – кричал он то ли в зале, залитом сверканием люстр, то ли среди холодного кафеля, где резко пахло аммиаком и откуда-то с шумом низвергалась вода. – Да как вы смеете мне даже предлагать такое? Я благородный человек и не потерплю… Не позволю. Я, наконец, на дуэль вызываю вас, милсдарь. По всем правилам корпорантского кодекса чести – на рапирах и в защитных очках!
Но чего он не позволит, чего не потерпит и с кем станет биться на рапирах? Забытье и сплошной туман. Только пронизывающий холод кругом, могильный озноб каменного пола и болезненная ломота во всем теле.
Борис долго не мог понять, где он теперь находится. Даже подумал, что все еще спит или грезит с открытыми глазами за ресторанным столиком. Но когда осознал, что лежит на струганых нарах и зарешеченное окно, вонючая параша да глазок в железной двери являются не разрозненными деталями воспоминаний, а непременными частями некой жутчайшей реальности, то едва не помешался от страха и непонимания.
А может быть, и действительно помешался, потому что дни проходили за днями без всяких перемен.
Два раза в сутки угрюмый надзиратель приносил в камеру миску с баландой, кружку кипятку и ржаную пайку. На вопросы не отвечал, в объяснения не вдавался, отчаянную мольбу и матерную ругань равно встречал угрюмым, настороженным молчанием.
Когда же полубезумный узник попытался разбить себе голову о железную дверь, его просто окатили ведром ледяной воды. Счет времени он утратил.
За пыльным стеклом забранного решеткой окошка вовсю метались белые мухи. Но короткий зимний день скоро угасал, и чахлые, с ума сводящие сумерки затопляла непроницаемая тьма. Лампу в камеру не давали, и лишь однажды заглянула в нее ледяная луна, та самая, под которой воют в полях голодные волки.