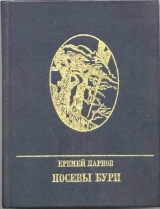
Текст книги "Посевы бури. Повесть о Яне Райнисе"
Автор книги: Еремей Парнов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
– Куда прикажете поставить? – спросил боцман, вытирая паклей испачканные густой смазкой пальцы.
Рупперт медленно отвел бинокль в сторону и рассеянно оглядел пирамиду ящиков, которые матросы нагромоздили возле замотанных в брезент торпедных аппаратов. Все ящики были выкрашены темной – как будто зеленой – краской, окованы по углам медной полосой и густо смазаны. Дубовые, гладко пригнанные доски, щедро прошитые гвоздями, лоснились.
– Пусть останутся здесь, Фомич, – подумав, распорядился Рупперт. – Все равно скоро придется выгружать. Только хорошенько принайтовьте и накройте брезентом. Да смотри мне, – он показал боцману кулак, – чтобы не унесло ветром! И живо! Живо!
Когда все ящики оказались на борту и шлюпки отвалили от корабля, кавторанг заботливо осмотрел груз и вновь наказал:
– Накрыть так, будто это мины с сахарным якорем. Чтобы капли не просочилось! А не то семь шкур спущу! – И сразу сменил гнев на милость: – Братишкам, Фомич, вели дать двойную порцию водки, а как разгрузим – еще по шкалику! Только чтоб ни-ни, никому ни полслова! С тебя, боцман, спрошу. – И почти просительно объяснил: – Вы меня, ребята, знаете. Когда затронуты интересы отечества нашего, надобно взыскивать строго. Запорю к чертовой бабушке и в штрафную роту отправлю. Так что уж порадейте во имя государя. Неохота небось акул кормить в Японском море?
Пока, действуя попеременно кнутом и пряником, Рупперт увещевал команду, номерной миноносец хохзеефлотте поднял пары. Он отвалил к весту, держа для вящей торжественности русский корабль под прицелом всех своих орудий, на каждом из которых были выбиты стандартная латинская фраза: «Последний, но решительный довод» – и кайзера Вильгельма личное «W».
Пока это была всего лишь шутка братика Саши, слывшего в штабе кронпринца большим остряком.
Рупперт Вильгельмович распорядился поддать уголька и сниматься с якоря. Старшего офицера и штурмана будить не велел, благо курс от стоянки близ Палангена к Торнхольмскому маяку, где его поджидала рыбацкая шхуна, был проложен заранее. Незначительные уточнения и поправки он взял на себя риск произвести самому.
А в кубрике, взбудораженная тминной, фалрепная команда ломала головы по поводу встречи в пограничных водах и секретного груза, на котором кто-то из матросов успел заметить надпись «Speiseis» – «мороженица».
– На кой ляд им столько мороженого?
– Для банкета… Викторию над японцем отмечать!
– Сказано вам, братишки, секретный груз, – значит, так оно и есть.
– Верно. Нечего баланду травить.
– Дык ведь морожено.
– Понарошку. Для отвода глаз, значит.
– Условное обозначение называется. И мы свои мины орешками греческими зовем. А это такие орехи… Ого!
– Может, и тут мины? Гнида-то наш так и распорядился: укройте, мол, братишечки, все равно как мины с сахарным якорем. Дело-то ведь известное – сахар размокнет до срока, она, крокодила рогатая, и всплывет преждевременно, прямо тебе же под днище.
– А немец-то тут при чем? Нешто своих не имеем?
– Дык Вильгельм нашему-то Николаю братан. Рука руку моет.
– Больно тайно все.
– А шо не таке усе-таки за морожено? Для мыны ящик трошки маловат. Ей-богу, хлопци!
– То гробы такие с заморозкой.
– Брешешь!
– Вот те крест. Для адмиралов из Маньчжурии. Пока привезешь…
– Провокацией попахивает, братва, большой провокацией! Просто хотят нас подальше от Либавы в море угнать, чтоб не скоро возвернулись.
– Для чого?
– А то не знаешь?
– Ни!
– Про Питер, может, не слыхал? Про кровавый расстрел? То-то и оно! У нас, братишки, в Либаве тоже начиналось. В тот день, как мы в море ушли, забастовку назначили. Всеобщую! Чуете? На заводах, на фабриках, в коммерческом порту.
– Ты-то почем знаешь?
– Уж знаю. Драконы боятся, как бы на гвардейский экипаж не перекинулось. Потому и велели Гниде уходить побыстрее в открытое море да дурака там валять. Но ничего, дай срок…
– Кроме «Трувора», по-твоему, других пароходов на базе нема?
– А ты, конечно, знаешь, господский подлипала, где они сейчас, енти твои пароходы?
– Шабаш, братва, кончай травлю! Скоро опять уродоваться с германским мороженым, будь оно неладно! Давай спать.
Легонько раскачивалась лампочка в проволочной оплетке под стальным потолком. Грузно поскрипывали двухэтажные люльки.
Стало тихо в жарком надышанном кубрике. Густой, обморочный сон опрокинул людей. Когда все уснули, гальванер Ян Крастынь тихо спустился на дребезжащий пол и, напялив робу, прокрался за буравом.
И что это за мороженица такая?
В Либаве между тем события развивались с необыкновенной стремительностью. Объявленная на тринадцатое число всеобщая забастовка полностью парализовала жизнь города.
Подполковник Мезенцев, либавский коллега Волкова, телеграфировал в Департамент полиции о полной неспособности властей справиться с беспорядками. Это была последняя телеграмма, которую передали из Либавы.
«Трувор» возвратился из плавания в обезлюдевший, затаившийся город. Падал снег пополам с черными хлопьями гари. Вдоль причалов прохаживались вооруженные патрули. Вся территория базы была оцеплена драгунами и жандармерией. Отпуска и увольнительные не выдавались, и даже пути пробраться в самоволку были отрезаны. Шепотом из уст в уста передавались жуткие подробности о старом полузатопленном брандере, превращенном в плавучую тюрьму, где содержали до суда арестованных матросов. И жратва была хуже некуда. Что ни день – ненавистная перловая каша, так ее растак…
Известие о том, что на «Труворе» пропал гальванер, никого не удивило. Братишки гадали-судачили лишь про то, как Ваньке Крастыню удалось выбраться из оцепленного порта. Над причинами побега не задумывались. Причин было предостаточно. Одна перловка вполне могла довести человека до полного помрачения ума, особенно если он только что вернулся из плавания – и какого! – и вместо долгожданной Розовой площади очутился в самом настоящем карантине. Одним словом, можно бы хуже, да некуда.
ГЛАВА 17
Узнав о расстреле демонстрации, Плиекшан бросился на станцию, чтобы немедленно ехать в город.
– Я не отпущу тебя одного, – твердо сказала Эльза. На станции, однако, выяснилось, что все поезда на сегодня отменены.
– Пройдусь немного по лесу, – с трудом выговорил Плиекшан. Лицо его казалось темным и постаревшим на много лет.
Эльза не стала его отговаривать. Когда сваливалась страшная беда, он всегда стремился уйти от людей. Уносил и прятал нестерпимую боль в лесную чащу или на берег моря.
Он пришел в себя далеко от дома, когда вновь услыхал этот долгий, душу тревожащий зов. Тройка диких гусей пролетела над полукружьем залива. Проплыла над заснеженным берегом вдоль черной дуги соснового бора и медленно растаяла за облачной пеленой. Где-то там, за расплывчатой мутной полоской холодного скрытого света. Зябко кутаясь в отсыревший, туманом напитанный плед, Плиекшан долго всматривался в желтую ту полосу, в замороженный отблеск неистового, как думать хотелось, заоблачного сияния, где утонули свободные сильные птицы. Как летели они, вытянув вперед длинные шеи!
Промелькнули и исчезли, и что-то вокруг необратимо переменилось. Отчетливее стали слышаться шелестящие звоны льдинок за ноздреватой кромкой припая и крики чаек над оловом открытой воды. Голые прутья дюнного краснотала фиолетовым лаком проступили на посеревшем снегу, где расплылись и заледенели глубокие отпечатки бесчисленных подошв. Тяжелый йодистый дух медленно гниющих на холоде черных куч морским прибоем выброшенной травы отчетливее и резче ударил в ноздри.
Несомненно, что-то переменилось в природе, изнемогшей от медленных, запоздалых изменений, и что-то сдвинулось, всколыхнулось в душе одинокого человека на берегу. Высокий, худой, в этом клетчатом пледе, наброшенном на усталые плечи, он и сам отдаленно напоминал отбившуюся от стаи птицу. Провожая тоскующим взглядом уверенных серых гусей, таких удивительно близких, он мучился собственным бессилием и понимал, что никто не сможет ему помочь. Отчаяние переполняло его, грозя перехлестнуть хрупкую, невидимую границу, за которой ждет неминуемый срыв. Любой ценой надо было взять себя в руки. Подчинить осязаемо трепещущее сердце воле рассудка. Но мысли рассыпались, как янтарные бусины с перерезанной нити. Не здесь, а там ему надо было стоять – на розовом том снегу у железнодорожных рельсов, на изломанном льду под даугавским мостом. Прислушиваясь к шуму лесного ручья, который широкой дельтой промытого ржавыми струями песка перерезал прибрежную наледь и, раздвигая шугу, бесследно пропадал в неподвижной воде залива, Плиекшан подумал вдруг о равнодушной невозмутимости природы перед лицом страдания и смерти.
«Из дальних дней былого я слышу моря рев, и волны злобно бьются о стены берегов. И что ни час – страшнее, угрюмей моря стон, стон вечных мук и жалоб, когда же смолкнет он?» С весенним половодьем вынесет Даугава в залив безымянные трупы… Так и застыло это перед глазами. И вглядываться невыносимо, и прогнать нельзя.
Как часто звучало в его ушах там, на чужбине, в тишине всепокоряющей вятской зимы, дыхание моря. Мглистым, дымящимся утром выходил он на крыльцо и, охваченный морозом, вслушивался в немоту синего снега. Посвистывала поземка, изредка раздавался треск коры в дровяном сарае, и петух робко пробовал голос, но сразу захлебывался сонным оцепенением.
И тогда Плиекшану мнился переплеск волн. Как тосковал он по безбрежной шири среди белых округлых холмов, меж которых тонули темные избы Слободского, где было положено ему отбывать вторую ссылку. Как мучился он своей несвободой и скованностью. Но в родном, до сладостной боли знакомом краю он еще горше ощущает невидимый плен. Ежеминутно и повсеместно ощутимый надзор! Здесь, на родине, где так светло грустят воды, так мягко туманятся стога сена на искристом лугу, внятно так шумят священные дубы и буковые рощи у речных излук, слежка, ограничения в передвижении особенно тягостны. Эти полицейские притеснения, конечно, не идут ни в какое сравнение ни с лишениями ссыльного поселения, ни тем более с кошмаром холодной камеры, которая чуть было его не доконала. Но ни в Рижской губернской тюрьме, куда его переслали из Либавы, ни в лазарете за Даугавой, ни потом, в Слободском, он не знал такой душащей, безысходной тоски.
Вечный неразрешимый конфликт. Противоречие души поэта, готового вместить всю боль земли и в клочья истерзанного этой непосильной, немыслимой ношей. Но только ли это одно? От поэтических мук несвойственно погибать. Исцеление приходит с очередным стихом. Но память остается, и от нее никуда не уйти. Он должен был упасть на улицах и площадях, как упали те, кого он так властно звал на бой. И напрасно было убеждать себя, что запоздалое это стремление безумно. Порой и в безумии есть высшая правота. Он прислонился к сосне, охваченный странной изнурительной слабостью. Сердце отрывисто колотилось, совсем не там, где полагалось стучать сердцу, и резало глаза. Конечно, доктора правы, здоровье его сильно подорвано. Достаточно глянуть в зеркало. Разве таким уходил он в тюрьму после разгрома «Яуна страве» – «Нового течения»? Годы, конечно, никого не красят. Но ему ведь еще нет сорока. Это возраст высшей зрелости, пора расцвета внутренних сил. Конечно, глубокие залысины, резкие морщины на лбу и вокруг глаз, нездоровый цвет кожи, желтизну белков можно было бы посчитать пустяками, кабы не явились они следствием глубоко загнанных внутрь недугов. Но сердце, вечно взволнованное сердце, хоть и трясет, и сжимает его временами эта тупая тоскливая боль, осталось прежним. Он чувствует это, знает. Не расшалившиеся нервы, не болезненная впечатлительность заставляют его вновь и вновь мучительно переживать страшные подробности вчерашней бойни. Он не созерцательный художник, не философ, отрешенный от жизненной прозы, как называют иные объективную в марксовом понимании реальность. Именно поэтому так невыносимо сознавать, что он опутан по рукам и ногам. Ласково спеленат усилиями усатых полицейских нянь, уложен в уютную колыбельку. Он не может дать простор даже праведному гневу. Нет, жизнь отнюдь не самодовлеющая ценность. Без реальной борьбы она превращается в тягость. И даже поэзия не способна заполнить гнетущую пустоту вынужденного плена. Она мертва без одухотворяющего начала, без яростного несогласия. Иначе, подобно природе, искусство обернется холодным и равнодушным храмом, в котором нет места ни радостям, ни слезам, где вопль унижения, смех и последний хрип умирающего равно неразличимы, как шорохи и гулы в океанской раковине.
«Ни ненависти, ни любви, – он, неподвижный, замер. Лежит и ждет, оцепенев, с закрытыми глазами. Он ждет, чтоб грудь его была теплом слезы согрета, – он ждет, он вечно ждет весны. Ждет ликованья света». Он ждет, а река выносит в залив красный смерзшийся снег.
Даже в тот самый страшный день своей жизни, когда в тюремной одиночке нашли повесившегося Крумберга, Плиекшан не мечтал о тихом блаженстве оцепенения. Смерть друга и единомышленника настолько обострила болезнь, что исчезла граница, разделяющая терзания души и плоти. Страдание казалось тогда настолько всеобъемлющим, что шевельнулся соблазн последовать тем же все облегчающим путем и оборвать сознание, погасить мозг, откуда разливался по всем кровеносным сосудам нестерпимый губительный жар. Только немыслимо было. И ясно сознавалось, что в огне том жестоком густеет ненависть. И стал он для Плиекшана столь же мучительным и дорогим, как призвание поэтическое, проклятый стократно и благословенный дар. В камере он находился в полном душевном согласии и делал именно то, что требовали в данную минуту его рассудок и совесть. И теперь так нужно. Другого выхода просто нет. Плиекшана полиция избрала козлом отпущения, и ему поэтому приходилось труднее, чем остальным. Его вместе с Янсоном почти все время продержали на строгом режиме, но это не помешало ему, а, возможно, напротив, помогло подготовить для печати самые гневные, самые яростные стихи. Теперь уже он мог вынести все. На свободу он вышел с седыми висками и гордостью в душе. И сейчас у него тоже нет права на безысходную боль. В ссылках – вновь вспомнилось Слободское, а потом Псков и дом Кирпичникова на Сергиевской улице – ему было легче. Он это понимает. Пусть голод, снега, промерзшие болота, недуг, но там была настоящая работа, трудная, наполненная неотвязной ностальгией, но все-таки очень деятельная и напряженная жизнь. Рядом находились Малышка – милая, любимейшая сестра Дора – и Петерис – давний друг гимназических и студенческих лет, бок о бок с которым он работал в «Новом течении» и в газете «Диенас лапа». Они и в тюрьму пошли вместе, и даже почти одновременно угодили в тюремный лазарет. Вновь вспомнился Крумберг. Пусть поможет он своей слабостью в этот трудный час ему, сломленному, растерянному! Плиекшан побрел вдоль ручья по смерзшемуся и словно крупинками угля запорошенному снегу, на котором шуршала по ветру сухая метлица. Крепка льдистая шершавая корка. Вербные прутья рябят шелковистыми серо-серебряными, как набрякшие дождем облака, шариками. Он взял в рот замерзшую и уже чуточку клейкую почку и ощутил робкую свежесть пробуждающихся к весне соков. Он уже знал, что устоит, не даст сломить себя горю, как не поддался ему в тюрьме. И все равно горькими были его думы.
Мысль о сестре и Петерисе тоже ранит незаживающей, гнетущей заботой. Взаимная неприязнь, разделившая Эльзу и Дору за последние годы, только окрепла. И с этим ничего не поделаешь. Они думают, что воюют друг с другом за него, Плиекшана и Райниса, но на самом деле воюют с ним. Поле битвы пролегло через его сердце. Он одинок в отчужденном этом соперничестве. Он между двух огней.
Большая, единственная в жизни любовь и настоящая мужская дружба с Петерисом, проверенная во всех невзгодах. Здесь не может быть выбора, но понимает это только он один. Отдаленные отчуждением, Дора и Эльза постоянно готовы обидеть друг друга, не сознавая, что все стрелы впиваются в одну-единственную цель. Мог ли он представить себе, что сестра не станет отвечать на его письма? А ведь ему было так плохо тогда, так сиро и трудно… Конечно, для нее блистательная поэтесса Аспазия может остаться чужой. И слова, гневные, несправедливые слова о том, что Петерис будто бы вытеснил откуда-то Яна, что он завидует ему, и все такое мелкое, страшное, – конечно, такие слова могли смертельно оскорбить, буквально взбесить импульсивную, склонную к крайностям Дору. Тем более что именно Петерис вытащил тогда их из Митавы, где они прозябали в затхлом филистерском болоте. Всем им, и Эльзе в том числе, конечно, известно, что Петерис, сделавшись издателем «Диенас лапа», тут же предложил пост главного редактора ему, Яну. От этого никуда не уйдешь. Эльзу тоже можно было понять, когда она узнала, что Петерис вновь возглавил газету, а он, ее Райнис, стал лишь казначеем… Но никто не хотел понимать друг друга. Об этом трудно и не хочется думать, но, чем сильнее была любовь, тем злее становилось отчуждение. Он ничего не смог изменить, хотя все понимал и видел, зорче, наверное, и обостреннее, чем каждая из них в отдельности. Конфликты чувств и характеров так или иначе разрешимы, пусть не всегда справедливо и верно и всегда по живому мясу, но разрешимы. Здесь же скрывалось иное. Он не может даже помыслить о выборе. Человеку одинаково нужны обе руки и оба глаза. С Эльзой его связывала не только любовь, но и самая возможность творить. Вне мира тонких ее переживаний, он знает это, его творческий горизонт сузится и померкнет. Трава лишится запахов, роса – солнечного блеска, а небо – полутонов и переливов заката. Как ни любит он свою Дору, свою Малышку, а выбор вытекает с абсолютностью почти закономерной. Но не дано ему взять одну сторону. С Петерисом Стучкой, а следовательно, и с Дорой его связывает общее дело, и связь эта крепче, чем самые нерасторжимые родственные узы.
Он многим обязан Малышке. Это она помогла ему встретиться с Августом Бебелем. Знакомство, правда, началось довольно забавно. Плиекшан застал Бебеля лежащим на полу, где тот приколачивал ножку к рассохшемуся дивану.
– Возвращаюсь к своей основной профессии, – пошутил Бебель, с одного удара вгоняя последний гвоздь. – А теперь прошу садиться, – указал он на диван.
За два с половиной месяца, которые Плиекшан провел тогда в Цюрихе, они виделись еще четыре раза. На прощание Бебель дал адрес чемоданного мастера, который с удивительным искусством изготовлял двойное дно. В таком тайнике и провез Плиекшан нелегальную литературу: «Капитал», «Манифест Коммунистической партии», «Эрфуртскую программу» и, конечно, «Женщину и социализм» с дарственной надписью самого Бебеля.
Там, в Слободском, политические ссыльные жили, как одна большая семья. И тот день, когда в шикарном переплете дорогого лондонского издания пьес Шекспира оказался оттиск первого номера «Социал-демократе», стал настоящим праздником для всей колонии. И никакого значения не имело, что редактор Фрицис Розинь, приславший им этот поистине бесценный подарок, друг Стучки и Плиекшана. Что значили личные взаимоотношения перед самим фактом выхода первого социал-демократического журнала на латышском языке? Притом не только для них, латышей, но и для других товарищей, русских, польских, которые могли понять одно лишь заглавие, набранное старинным готическим шрифтом. Но разве это хоть что-то меняло? Разве не был новый партийный орган также и их журналом, несущим выстраданную ими идею еще одному братскому народу?
Потом они все вместе читали номера «Искры», которые все тот же изобретательный Розинь ухитрялся пересылать им в журналах мод и каталогах солидных торговых фирм. Это была высшая из возможных на земле связей между людьми. Плиекшан мог не встречаться с Петерисом, не переписываться, но он всем существом своим знал, что общее дело и сейчас, в эту минуту, прочнее прочного связывает их между собой. В случае надобности он, не задумываясь, пожертвовал бы для Стучки всем и не сомневался, что Петерис поступит точно так же. Но шаткая это была опора для сердца, грустная. Не хватало ему крепкого рассудительного Петериса, удивительно сочетавшего житейскую практичность с беззаветной преданностью делу. А стремительная, порывистая, коротко подстриженная «а-ля эмансипе» Дора все чаще и чаще снилась ему по ночам.
Плиекшан поднялся на самый обрыв и пошел вдоль берега лесом. Останавливаясь передохнуть, он рассеянно гладил шершавую кору сосен. Задрав голову и придерживая рукой широкополую шляпу, ловил оттенки темно-зеленой хвои, четко обрисованной в бледно-голубоватом, как снятое молоко, воздухе. Наклонно суживаясь кверху, сосны, его любимые дюнные сосны, совсем не такие, как в дремучих вятских лесах, казались желто-розовыми или красными, как медное литье, оттененное лиловой окалиной отслоившихся завитков пергаментной коры. Осевший снег в лесу казался свежее берегового. У самых стволов он подтаял, и обнажилась перезимовавшая трава. Хмуро блестели лакированные листики брусники. Сырой ветер с моря, соленый, тревожный, здесь ослабевал, но нетерпеливое ожидание весны, как и на берегу, ощущалось во всем. В эти тихие дни солнцеворота наливаются почки шиповника и клена, птицы поют веселые песни призыва и вкусно пахнут разбросанные меж сосен колючие пирамидки можжевельника. Даже малахитовый налет лишайников, особенно густой с северной стороны, приобрел теплый, чуть золотистый лоск. Предчувствие, нетерпение, ожидание!
Нечто подобное он пережил в Слободском в ту трескучую ночь кануна нового века. Светила луна, окруженная тусклой радугой, и свет ее разгонял пепельные облачка. Тихо-тихо было в лесу. Сугробы сверкали застывшим блеском. Хрустальный заколдованный театр. И мороз, мороз…
«Под снегом свежие могилы…
И свежая из них дымится кровь…»
Что подсказало ему эти исполненные мрачным пророчеством строки? Откуда пришли они в его душу и мозг? Неужели в ту тихую ночь провидел он беспощадную бойню и ощущал уже приближение нынешней смертной тоски? Пожалуй, нет… Действительность оказалась страшнее всяких пророчеств.
Нет, так не останется, так оставаться не может. Плиекшан ждет перемены каждой кровинкой, каждой клеточкой, со всей силой муки и надежды своей. И во имя великой очистительной перемены он сумеет вынести любую боль, пережить любую потерю.
Он наискось пересек лес и спустился на Третью линию, как раз напротив дуббельнской железнодорожной станции. Изящные дачки с застекленными верандами и затейливыми флюгерными башенками стояли заколоченными. Небо над морем еще ясно белело меж стволов, а долина за Лиелупе померкла в синеве. Левее черного шпиля кирхи колюче переливалась ранняя звезда.
Ему еще раз удалось справиться с самим собой. Ныло сердце тупой, сжимающей болью, гудело в ушах, во рту ощущался неприятный металлический привкус.
Возвратившись в сумерках домой, Плиекшан застал там настоящий переполох. На кожаном диване, задвинутом зачем-то под лестницу, лежал накрытый перинами человек, вокруг которого суетились Анета и Эльза. За столом молча курили Жанис Кронберг и Лепис. Оба были в пальто, видимо пришли недавно, и мокрых калошах. Екаб Приеде курил у окна. На мокром полу валялись клочки сена. Медленно таяли осколки грязного льда. На стульях и табуретках стояли кастрюли с кипятком, валялись резиновые грелки.
По тому, как расширились и потемнели вдруг глаза Эльзы, он понял, как она волновалась за него в эти часы. Но не упрекнула ни словом, ни взглядом.
– Кто это? – Плиекшан кивнул в сторону дивана.
– Люцифер, – поднялся Лепис. – Вы должны его помнить.
– Да, – нахмурился Плиекшан. – Конечно… Что с ним? Ранен? – Он порывисто обернулся к Екабу и вдруг прижался к нему, словно ища защиты. – Трудно, брат…
– В том-то и дело, учитель Райнис, что целехонек! – Приеде смущенно потупился, не понимая, что происходит с Райнисом, но уже зараженный и растревоженный его беспокойством. – Горячка просто.
– Вытащили из воды, – хмуро пояснил Лепис. – Точнее, на берегу подобрали. Во время демонстрации мы были вместе, а потом потеряли друг друга, и, как видите, – он виновато развел руками, – ему уже тогда нездоровилось. А после купания в ледяной воде…
– Как он попал туда? – Скрывая слезы, Плиекшан сложил плед, нарочито неторопливо стал расстегивать пуговицы. – Расскажите, товарищи, все по порядку. И раздевайтесь… Нельзя ли самовар разогреть?
– Уже поставила, – бросила Анета, торопливо натягивая на подушку крахмальную, лавандой и мятой дышавшую наволочку.
– Надо побольше воды вскипятить, – шепнула ей Эльза. – Может понадобиться.
– Кто нашел Люцифера? – спросил Плиекшан. Мысли его прыгали. Шевельнулась робкая надежда, что, подобно Люциферу, могли уцелеть и те, другие, кого считали убитыми.
– Тут целая история, учитель Райнис. Даже не знаю, с чего начать… Случайное, можно сказать, совпадение. Сразу после рождества мы с артелью в Видземе поехали на подледный лов и все время там пробыли. Понимаете? Заловилось, грех жаловаться, пудов на двести… И надо же такому случиться, что в Ригу приехали на другой день после расстрела.
– Про расстрел вы, получается, ничего не знали? – Плиекшан с трудом заставил себя сосредоточиться.
– В том-то и штука! Мы еще и не разгрузились как следует, когда народ сбежался убитых искать. Что тут было, учитель Райнис! – Приеде махнул рукой. – Мы на рынке, как в осажденной крепости, оказались. Только к полудню удалось на санях выехать. И сразу на оцепление нарвался. Городовые, пьяная солдатня, жандармы, конечно, само собой.
– Убитых много? – почти беззвучно выдохнул он, надеясь на чудо и зная в глубине души, что чуда не будет.
– Убрать успели. Видел только, как дворники кровь на снегу песочком засыпали. Чуть не замутило меня. Насилу уговорил, чтоб выехать дали… Пропустить-то они меня пропустили, только ехать по этому снегу было никак невозможно. Слез я с саней и повел свою клячу, а в глазах туман. Не могу, и все тут!
– Понимаю, Екаб. Вы не волнуйтесь, рассказывайте. – Плиекшан сунул руки в карманы, чтобы унять дрожь.
– Да вы сами-то успокойтесь, учитель Райнис… Чего уж теперь. – Приеде полез за кисетом. – Много обезумевших бродило по улицам. Городовой даже один навзрыд плакал… Может, совесть его замучила, а может, убило кого из близких… Потом господин мне повстречался расхристанный, себя не помнит. Все лодку требовал и на реку показывал. Только где ее возьмешь зимой? Река хоть и не стала, да разве в городе исправную лодку теперь найдешь? И зачем она, когда никого на воде уже не осталось? Кто не потонул, тех, надо думать, выловили. Попытался я господина успокоить, а он ни в какую. Пачку денег сует. «Тонут! – кричит. – Люди тонут!» Не в себе человек короче говоря. Подумал я и, чтоб его успокоить, решил вдоль Даугавы проехаться. Всякое, думаю, в жизни бывает. И хорошо сделал. Под самым железнодорожным мостом мы его, Люцифера, и нашли. На узкой кромочке лежал в полном беспамятстве. Я его быстренько в сани, рогожкой прикрыл – и деру; скорее, думаю, надо из города выбираться. С господином за ручку попрощался, а тот опять с деньгами лезет и плачет: «Спасибо тебе, мол, что хоть одну человеческую душу от смерти спасли». – «Зачем же вы мне тогда деньги даете, сударь? – спрашиваю. – Разве я не такой же человек, как и вы?» Он сконфузился, стал извиняться, уговаривать, что деньги для спасенного пригодиться могут. «Вы их не знаете, говорит, они мстят даже мертвым, не то что живым. В Петербурге на кладбищах кресты по ночам срубают, под которыми убиенные спят». – Приеде свернул дрожащими руками самокрутку. – Взял я, учитель Райнис, у него деньги. Пусть, рассудил, пойдут от хорошего человека на чистое дело. – Рыбак закурил и показал дымящейся козьей ножкой на стол: – Он и адрес свой оставил. Просил в любое время за помощью обращаться… Не подумаешь, что русский, так гладко по-нашему говорит.
Плиекшан отодвинул скомканные ассигнации и расправил визитную карточку:
«Сергей Макарович Сторожев».
– Да, – кивнул он задумчиво. – Этот господин хорошо знает латышский. – А как вы с Леписом встретились?
– Там же, на набережной. Он, оказывается, намеренно прибежал, Люцифера искать.
– Ему-то как раз и не следовало так делать. – Плиекшан повернулся к Лепису, который о чем-то тихо совещался в углу с Эльзой: – Зачем вы рискуете? Лезете в самое пекло? Вас ведь всюду ищут! – В ушах его еще гремела улица и трещал лед на реке, но мысль уже стала ясной.
– Бывают минуты, когда не приходится особенно раздумывать. – Лепис вынул из жилетного карманчика изящный несессер и тонкой пилочкой закруглил обломанный ноготь. – Вы сами это знаете, Райнис.
– Допустим, – Плиекшана тронула проницательность боевика, и он даже позволил себе улыбнуться. – Удивляюсь, как вас не схватили.
– Не до того им было, – бросил зло Лепис. – Отяжелели после кровавого пира.
– Ничего! Мы палачам еще устроим похмелье, – сказал Кронберг, осторожно приподнимая тяжелую, пылающую голову Люцифера. – Кладите подушку, Анета.
– Вы тоже были в Риге, Жанис? – спросил Плиекшан.
– Нет. Они заехали за мной по пути сюда. Найдется максимальный термометр, госпожа Эльза?
– Надо бы за врачом послать. – Плиекшан присел у изголовья. – Он весь горит.
– Доктор скоро будет, – сказала Аспазия и побежала наверх за термометром.
– Самовар вскипел, – доложила Анета. – Пожалуйте в гостиную.
– Пойдемте, товарищи, – пригласил Плиекшан. – Снимайте же свою овчину, Екаб, – поманил он за собой Рыбака.
– Что сказать доктору? – спросила, спускаясь, Аспазия.
– Болен, и все. Слава богу, Люцифер не ранен, и его нет надобности прятать. Пусть себе спокойно лечит. Где его одежда?
– Анета взяла просушить. – Аспазия вздохнула и покачала головой: – Промок насквозь. Его надо было сразу же раздеть, а не везти сорок верст по морозу.
– Не было такой возможности, госпожа Эльза, – пояснил Лепис. – И вообще он всю ночь пролежал на льду.
– Сколько все-таки убитых? – спросил Плиекшан, когда они вчетвером уселись вокруг стола.
– Точно пока неизвестно, – покачал головой Лепис. – Думаем, около ста. Раненых раза в три больше. Погибло много наших, и среди них Кате… Печуркин тоже убит. Завтра будем хоронить.
Плиекшан зажмурился и, словно боясь упасть, ухватился за столешницу.
Кате! Милая умная девочка с доверчивыми глазами. Он помнил, как она за руку привела его в барак, где на занавешенных тряпьем нарах умирала пожилая ткачиха. «Это так несправедливо!» – сказала она, когда все было кончено. Несправедливо! Только лучшим из лучших дарует природа обостренное чувство справедливости. Этим трудным даром она метит своих избранников. Они идут в революцию и умирают молодыми.








