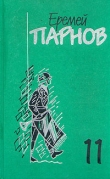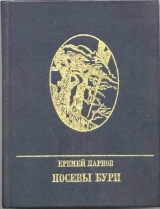
Текст книги "Посевы бури. Повесть о Яне Райнисе"
Автор книги: Еремей Парнов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
Кто-то в последнее мгновение успел подхватить выпущенное знаменосцем древко, но демонстрацию уже расстреливали с трех сторон: от железнодорожного моста – в упор, сзади – со стороны почты и сбоку, где на Миллионной улице расположилась рота Изборского полка.
Пути для отступления не было. Только бескрайняя Даугава лежала открытым простором. В небе Задвинья полыхала закатная топка. И белый припай, и полоска воды на том берегу тоже окрасились кровью. Сумрачной и густой.
Сторожев без стука влетел в губернаторский кабинет и, тяжело дыша, подступил к Пашкову.
– Вы знаете, что творится в городе, Михаил Алексеевич? – тихо, с придыханием спросил он.
Пашков медленно отвел взгляд от бледного, заострившегося лица Сергея Макаровича и тяжело поднялся из-за стола.
– В чем дело, Серж? – внешне спокойно спросил он, упираясь крепко сжатыми кулаками в зеленое сукно. – Приведите себя в порядок. – Звякнув хрустальной пробкой о графин, налил стакан воды: – Выпейте.
– Вы ничего не знаете? – недоверчиво прищурился Сторожев и провел рукой по щеке, которая подергивалась нервным тиком. – Слышите? – махнул в сторону занавешенных окон и напряженно прислушался.
В Замке стояла настороженная тишина.
– В чем дело? – переспросил губернатор, наполняя свой стакан. Но здесь руки выдали его. Расплескав воду, он долго пил, и зубы дробно постукивали о тонкое стекло.
– Не может быть, чтобы вы ничего не знали. – Сторожев отер холодный пот со лба. – Я пытался телефонировать, но ваш аппарат не отвечает.
– В самом деле? – вяло удивился Пашков.
– Идет страшная кровавая бойня, Михаил Алексеевич. – Сергей Макарович упал на стул и, запрокинув голову, прикрыл глаза. – Зачем вы это позволили? – Сторожев следил за тем, как губернатор ломает пальцы, и напряженно прислушивался к сухому хрусту суставов. – Оставьте руки в покое, Михаил Алексеевич. – Он раскрыл глаза и наклонился к Пашкову: – Это раздражает.
– Что-с? – взвизгнул вдруг Пашков. – Что вы сказали? – И закричал, брызгая слюной: – Мальчишка! Щенок! Да как вы смеете?
– Простите, ваше превосходительство, – устало поморщился Сторожев. – Неужто вам и вправду не известно про кошмарную гекатомбу?
– Па-апрашу без вопросов! – взвизгнул опять губернатор и ударил кулаком по столу. – Да-акладывайте по па-арядку!
– Войска и полиция расстреливают мирную демонстрацию. – Сторожев зло ухмыльнулся: – По-питерски. Со столичным размахом.
– Где?
– Думаю, по всему городу.
– Меня не интересует, что вы думаете!
– Но, ваше превосходительство…
– Не рассуждать! Вы изволили сказать – расстреливают, вот я и спрашиваю – где? Где?
– У железнодорожного моста через Двину пьяная унтер-офицерская команда открыла огонь с пятидесяти шагов! – Алебастровые виски Сторожева налились кровью. Он вскочил и остановился перед Пашковым лицом к лицу. – С пятидесяти шагов!
– Откуда ваши сведения? – Губернатор говорил, не разжимая зубов.
– Я сам видел.
– Каким ветром вас туда занесло? – цедил слова Пашков.
– Неважно… Не имеет значения. Я был на почтамте и все видел своими глазами. Все, все. – Сжав кулаки, Сторожев ударил себя по глазам. – Красный снег… Малиновые пузыри в черной воде… Видел. – И бессильно упал на стул.
– Прекратить истерику!
– Но это не все! – Сторожев, казалось, не слушал его. – Я был еще и на Миллионной, где Юний Сергеевич Волков собственноручно командовал расправой. Там я видел, как добивали из револьвера раненых, которым недоставало сил уползти… Это было ужасно. – Он сорвал с шеи «оскаруайльдовский» воротничок с загнутыми концами и отшвырнул в угол. – Я кинулся было к полковнику, но меня не пропустили, а какой-то солдафон даже огрел по спине прикладом.
– Жертв много? – деловито осведомился Пашков.
– Сотни! Сотни кровавых тел.
– Успокойтесь, – губернатор вновь налил Сторожеву воды. – У страха глаза велики.
– Ах, дело не в этом, – обреченно махнул рукой Сергей Макарович. – Умоляю вас, ваше превосходительство, следует немедленно вмешаться и прекратить это беспощадное избиение. Убитых уже не воскресить, но можно спасти раненых, предотвратить, наконец, новые убийства.
Губернатор пожал плечами. Говорить с Сергеем Макаровичем было бесполезно. Он не слушал его.
Пугающе-отчетливо прозвенела телефонная трель.
Сторожев вздрогнул и поднял голову. Но губернатор не шевельнулся. С плотно сжатыми зубами, неподвижный, как изваяние, он простоял все то время, что звонил телефон. Сигнал оборвался на самой высокой ноте и угас. Но отзвук его еще долго плавал под многометровыми сводами ливонского замка.
– Ступайте, Сергей Макарович, – нарушил наконец тишину Пашков. – Вам необходимо успокоиться и прийти в себя. Ступайте с богом, голубчик.
– Вот как? – Сторожев поднял голову на стоящего все еще за столом губернатора и зажмурил левый глаз. Щека продолжала подергиваться. – Значит, все идет как следует, ваше превосходительство, как тому и быть надлежит? По плану?
– Не говорите глупостей, Серж, – с неожиданной мягкостью произнес Пашков. – Чтобы потом самому не было стыдно.
– Тогда отчего же вы не отдадите приказ? – с невыразимой тоской вымолвил Сторожев. – Сделайте это.
– Что же я могу сделать теперь? – Пашков развел руками. – Поздно что-либо делать. Все кончено.
– Как это поздно, когда продолжают уничтожать людей?
– Ничего такого не происходит, Серж, – Михаил Алексеевич ласково закивал. – Сейчас в вас говорит расстроенное воображение. А люди… – Он замолк на минуту. – Что ж, они сами виноваты, что не вняли голосу разума. Я не властен был предотвратить все это. Вы же знаете! Так будем же и впредь выполнять свой долг, Серж, что кому назначено.
– Долг? Это вы называете долгом?! – Сторожев указал на окно. Белый шелк занавесок пронизывали последние темно-вишневые лучи провалившегося в Задвинье солнца.
– Мы должны любой ценой поддерживать порядок в этом городе во избежание куда более многочисленных жертв, – вымученно произнес Пашков. – Вы не знаете этот город так, как я его знаю. Он стоит на крови и ежечасно требует жертв. Будем же молить господа-вседержителя, чтобы откупиться малою толикой… А сейчас оставьте меня. Мне тоже надобно побыть одному.
– Хорошо, Михаил Алексеевич, я оставлю вас. – Сторожев проявил нежданную покорность. – Я уйду. – Он тяжело поднялся. – Я, видите ли, ваше превосходительство, не волк по природе своей и не смогу ужиться с палачами. – Резким движением он с мясом вырвал привинченный к сюртуку значок правоведа и бережно, как хрупкую драгоценность, положил на сукно перед губернатором. – Прощайте, Михаил Алексеевич. С этой минуты почитаю себя в отставке.
– Что-с? – Пашков сразу не нашелся что сказать. Когда Сергей Макарович уже раздвигал тяжелые занавески у дверей, крикнул ему в спину: – Письменное прошение извольте подать в губернское правление! – И отер кулаком злую, мутную старческую слезу.
Вторично зазвенели никелированные колокольчики на телефонном аппарате. Губернатор вздрогнул, поморщился, как от зубной боли, и медленно отступил в дальний конец комнаты. Там и остался он до позднего вечера. Не зажигая света, одиноко сидел в углу, следя за тем, как меркнут окна, и сосал мятные лепешки. В сумерках кабинет показался ему похожим на каюту затонувшего корабля. Было тихо и недвижимо. Не предвиделось никаких перемен. Только когда медные молоточки начинали требовательно колотить по чашечкам, зеркально поблескивающим в синем сумраке, он затаивался и с бьющимся сердцем пережидал короткую пугающую тревогу.
Он не желал объяснений, не хотел никаких подробностей, цифр. Но больше всего на свете его пугал предстоящий разговор с Волковым. Он понимал, что прятаться бесполезно и полковник найдет его, куда бы он ни скрылся: на земле, под землей, в преисподней. Отчаявшись дозвониться, отыщет в личных апартаментах, на приморской вилле или, всего скорее, здесь, в кабинете, куда непременно придет. Что ж, пусть будет так. По крайней мере, Михаил Алексеевич и пальцем не пошевелит, чтобы ускорить эту встречу…
Прибалтика по числу стачек и демонстраций, которые нередко заканчивались столкновениями с полицией, выходила на первое место в охваченной волнениями империи. В погоне за сенсацией в Ригу, Ревель и Гельсингфорс потянулись ловцы новостей. Влиятельные европейские газеты все чаще помещали корреспонденции, живописавшие щекочущие нервы подробности о дерзких налетах боевиков на банки и оружейные склады.
Ленин, особенно пристально следивший за развитием событий в Северо-Западном крае, поручил Бонч-Бруевичу составить подробный отчет о положении в Риге, которая, по сведениям латышских товарищей, собиралась ответить на расстрел Девятого января массовой забастовкой.
С документами на чужое имя и явкой, полученной у латышских эмигрантов в Берлине, Владимир Дмитриевич спешно выехал в Россию. Пульмановский вагон, где он занял место, гудел, как растревоженный улей. В купе и в проходе люди откровенно обсуждали жуткие подробности петербургской расправы. Лишь несколько господ в вицмундирах не принимали участия в общем разговоре. Ерзали на штофных диванах, покашливали в кулак или вдруг с внезапно пробудившимся интересом приникали к оконному стеклу, за которым проносились заснеженные равнины Польши.
Паровозный дым окутывал окна, и тогда казалось, что горит земля. На остановках заходили жандармские офицеры в заиндевелых шинелях. Окинув пассажиров долгим, изучающим взглядом, они молча обходили вагон за вагоном. Вдоль перронов тяжело и мрачно вышагивали усиленные патрули. Владимир Дмитриевич поэтому ничуть не удивился, когда, сойдя с поезда на Тукумском вокзале, вынужден был пройти сквозь коридор полицейских и солдат в полной боевой форме, с ранцами и подсумками. Не только платформы, но и вся Карлова улица была забита войсками и жандармами в голубых шинелях. В толпе шныряли озабоченные шпики. Подняв воротники, они, не таясь, цепко оглядывали выходящих. Оставив мысль сдать вещи на хранение, Бонч-Бруевич, дабы не выделяться из общей массы, направился прямо к выходу. На площади он взял извозчика и громко, чтобы слышал петлявший поблизости околоточный, назвал «Лондон-сити» – второразрядный отель, в котором останавливался однажды. Усаживаясь в пролетку, он заметил, что околоточный записывает номера всех отъезжающих экипажей. Уже на бульваре Наследника Владимир Дмитриевич сказал, что передумал, и велел ехать на Ключевскую по адресу, который дали ему латышские социал-демократы в Берлине.
ГЛАВА 16
Шелест тисов слышится в слове Талсы. Липовым цветом дышит имя Либава. Либава – Лиепая, город липовых рощ, исходящих медвяной сладостью после июльских дождей. Липа – лиепа застенчиво красуется на славном твоем гербе, ласковый нежно-туманный город. Это память о вещем языческом прошлом, когда люди понимали детский лепет природы и в камне, в древе чтили богов.
Умели выбирать непокорные курши места для своих городищ. На все двести миль курляндского побережья нет лучшей стоянки морской, чем Либава. Недаром в хрониках 1263 года она упоминается как Portas Liva, незамерзающий порт в устье Ливы. К началу русско-японской войны из ста пятидесяти пяти пароходов Балтийского моря более двадцати было приписано к Либавскому порту. Здесь построили большие заводы: судостроительный, на котором работало две с половиной тысячи человек, проволочный, капсюльный, «Фольга», «Линолеум» и пробочную мануфактуру Викандера.
И это был уже новый город. Керосин Нобеля душной вонью заглушил тонкое благоухание лип. В грохоте клепальных машин потонули крики чаек и шелест залитого туманом прибрежного камыша. Впрочем, ничто не ушло: прекрасны по-прежнему, цвели каштаны, липы и буки, и в лунном свете голубой казалась черепица уютных мыз, опутанных длинной лозой винограда. И все товары мира можно было найти в пестрых магазинчиках Розовой площади, Шарлотинской и Сан-Мартина.
Когда-то, точнее в 1651 году, легендарный Якоб, курляндский герцог, предпринял очаровательную авантюру. За несколько бочонков водки он купил у негритянских вождей остров Андрея в устье Гамбии, а год спустя – незабвенный Тобаго. И начался для Курляндского герцогства бурный период колониальной негоции. На Тобаго разбили плантации пряностей: черного перца, гвоздики, корицы. В Африку отправляли суда, груженные бусами и «огненной водой», назад везли золото, копру, слоновую кость и даже черных рабов. И хотя предприятие скоро закончилось крахом, память о славных деньках колониальной экспансии осталась в маленьком герцогстве. Сохранилась она и в Либаве.
Не оттого ли так богаты, так красочно-соблазнительны здесь фруктовые лавки? В их влажной оранжерейной тени латунная желтизна бананов и манго окаймляет пирамиды зеленых кокосовых ядер, а на самом верху медом лоснятся чешуйки ананасной шишки, увенчанной пучком зазубренных листьев! А в рыбном ряду благородно отсвечивают обложенные колотым льдом тяжелохвостые омары, длинноусые лобстеры и устрицы из Остенде, зеленоватые, как стволы дюнных сосен с наветренной стороны.
О, лето в Либаве – особое лето! Оно благоухает корицей и копрой, пробковым дубом, смолой, солоноватой свежестью океанских уловов и отборным ямайским ромом, который так высоко ценят настоящие моряки. И липы, липы благоухают в жарком мареве гроз.
Но хмуро чело зимней Либавы: заиндевелые маяки, причал, исполинские ребра шпангоутов на верфях, цистерны с мазутом, башни береговой артиллерии, казармы и серые острые корабли, застывшие посреди незамерзающей гавани. Судьба всей России зависит ныне от этого города.
В Либаве формируется сейчас новая флотилия для отправки на дальневосточный театр военных действий. Соединившись в нейтральных водах с кораблями Рожественского, она пойдет в беспримерный поход в восемнадцать тысяч морских миль. Вторая Тихоокеанская эскадра вице-адмирала Рожественского в составе семи эскадренных броненосцев, одного броненосного крейсера, пяти крейсеров, пяти вспомогательных крейсеров и восьми эсминцев покинула Либаву еще второго октября прошлого года. О сдаче Порт-Артура и гибели Первой эскадры адмирал узнал уже во время стоянки у далекого острова Мадагаскар.
Согласно первоначальным планам командования, эсминец «Трувор» предполагалось включить в число тех кораблей, которые под флагом контр-адмирала Небогатова должны были усилить Вторую эскадру.
Но вышло иначе. Командир «Трувора» каперанг Зарубин, ожидая решения своей судьбы, пребывал под домашним арестом. В отличие от Коки Истомина, который отделался лишь задержкой в присвоении очередного звания, Петру Николаевичу угрожали серьезные испытания. Но пока суд да дело, временное командование эсминцем поручили старшему офицеру капитану второго ранга Рупперту Вильгельмовичу фон Брюгену. В первом же самостоятельном походе Рупперт ухитрился царапнуть корабль о подводные рифы. В узкостях между островами Эзель и Даго был сильный туман и ветер по Бофорту достигал семи баллов – у «Трувора» выбило из дейдвутов гребной вал и покорежило рули. На базу эсминец привели на буксире. Досадное происшествие едва ли украсило послужной список Рупперта, но вопрос об отправке «Трувора» с Дальневосточной эскадры отпал. Корабль поставили в сухой док на ремонт, а его временный командир запил горькую, жалуясь и проклиная свою невезучую звезду.
Однако в глубине души Рупперт Вильгельмович был доволен сложившимися обстоятельствами. Прежде всего он не питал никаких иллюзий по поводу боеспособности русского флота, полагая, что Вторую эскадру ждет участь едва ли лучшая, чем Первую. Успехи японцев на маньчжурском театре в известной мере даже радовали его. Уверенный, как и большинство остзейских баронов, в превосходстве прусской военной доктрины, он не мог – невольно, само собой разумеется, – не восхищаться столь очевидным ее торжеством. Наконец, у него были неотложные заботы здесь, в Курляндии, и меньше всего на свете желал он кинуть на произвол судьбы собственное имение. По крайней мере до той поры, пока не воплотятся в действительность все те грандиозные планы, которые были выдвинуты на памятной ассамблее в его родовом замке. Одним словом, Рупперт мог только благословлять небольшую аварию, которую потерпел в балтийских шхерах его новенький миноносец.
Повреждения удалось сравнительно быстро устранить, и в канун лютеранского сочельника «Трувор» снова спустили на воду. А тринадцатого января Брюген получил предписание отправиться в пробный поход вдоль побережья. Для Рупперта это явилось неслыханной удачей, поистине судьбоносной.
Близилось время, которое моряки называют «the dog watch» – «собачья вахта». Она длится с полуночи до четырех утра, когда ночь особенно непроглядна и расслабляющая сонливость подстерегает на каждом шагу. Новоиспеченный командир боевого корабля сам пожелал отстоять часы наиболее трудного дежурства на ходовом мостике.
В зюйдвестке, с «цейсом» на груди и рупором в руке, Рупперт Вильгельмович молодцевато поднялся по трапу и, цепко расставив ноги, ухватился за ручку машинного телеграфа. Перед ним ревело невидимое море и одичало покачивалась слабо освещенная картушка компаса.
Январь на Балтике – время циклонов, арктического тумана и ледяного шквального ветра. Моряки хорошо знают выработанные практикой признаки, по которым надежно и быстро удается определить направление на центр опасной зоны.
Послюнив большой палец, Рупперт, как истый морской волк, поймал ветер и сверился по магнитному компасу с курсом. Потом запросил гидрометеорологическую сводку. Выяснилось, что барометр падает, а ветер – чашечка анемометра вращалась с устрашающей быстротой – усиливается. По всем безошибочным признакам «Трувор» шел прямо на центр циклона. И это противоречило азбучным истинам навигации. Обычно, определив направление на центр и сектор, в котором находится судно, – в Северном полушарии особенно опасна правая половина циклона – капитаны спешат уйти в сторону. При первых признаках циклона для большей безопасности кораблям рекомендуют считать себя в зоне тревоги и немедленно ложиться на курс, который составлял бы с направлением ветра острый угол. Если маневр почему-либо невыполним, судно должно удерживаться против ветра, работая машинами.
Но Рупперт Вильгельмович подтвердил прежний курс, и «Трувор» продолжал свой самоубийственный бег в зону разреженного давления, ибо авторитет командира непререкаем. Кто знает, возможно, кавторанг хотел испытать свой эсминец в самых тяжелых условиях, когда крепчает штормовой ветер, натянутые, как струны, леера обрастают мокрым снегом, а в редких разрывах тумана с оста слабо серебрится отраженным светом замерзших заливов и бухт страшное «ледовое небо».
От бортовой качки, стремительной и порывистой, сама собой стала звонить судовая рында. Сигналом бедствия разливался в ночи жалобный вой обледенелой меди. Шипящие сокрушительные волны накрывали судно с кормы в прокатывались до штагового огня. Бронированные крышки люков и дверные пазы залепило снеговой жижей. Слепли иллюминаторы и ходовые огни. С каждой минутой у «Трувора» оставалось все меньше шансов выйти из бури. Поворот на новый курс, если бы Рупперт одумался и отдал такой приказ, превратился бы в маневр опасный и трудный. Ворочая под ветер, по волне, пришлось бы увеличить скорость, чтобы скорее миновать положение «лагом к волне». Но машины работали на полную мощность. Репитеры лага устойчиво держали семнадцать узлов. При повороте же, когда бортовая качка неизбежно сменится килевой, быстро идущий корабль может войти в резонанс. Оголенные, бешено вращающиеся над водой винты, смятые лопасти и рули, сокрушительные волновые удары в кормовой подзор, палуба, уходящая под воду. Катастрофа. Первым забеспокоился лейтенант Мякушков. Выцедив в офицерском буфете рюмочку малаги, он застегнулся на все пуговицы и полез наверх.
– Барометр упал еще на сорок миллиметров, Рупперт Вильгельмович, – сказал он, деликатно покашливая за спиной командира, – того и гляди стрелку зашкалит… Как бы, знаете, не накрыться…
– Знаю, Прокл Кузьмич, – холодно ответствовал граф Брюген, не отрывая бинокля, – за приборами слежу.
– Надеетесь рассмотреть что-нибудь в этаком-то столпотворении? Пустая, извините, Рупперт Вильгельмович, затея. Хоть глаз коли. Да и какой идиот, кроме нас, сейчас в море сунется?
– Есть еще один такой дурак. – Рупперт на мгновение опустил руку с биноклем и повернулся к Мякушкову. Из-под зюйдвестки колюче сверкнул мокрый позеленевший «краб». – Шли бы отдохнуть, майн херц, ваша вахта с четырех.
– Пойду, Рупперт Вильгельмович, куда деваться? – Он смущенно шмыгнул носом. – Только на душе неспокойно как-то.
– Отчего бы это? – насмешливо скривил губы кавторанг.
– Хоть бы знать, для чего, во имя каких высоких, так сказать, идеалов понадобилось нам дуть прямо в преисподнюю!
– При чем тут идеалы? – Рупперт раздраженно дернул плечом. – Мы в военном походе, Прокл Кузьмич, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Боевое задание, притом секретное.
Мякушков не нашелся что ответить. Он готов был держать любое пари, что во внутреннем кармане Брюгена нет запечатанного пакета, который полагается вскрыть лишь в определенное время и в месте с указанными координатами. А коли так, то все разговоры о секретном задании – не более чем пустая болтовня. Какие могут быть тайны от старшего офицера? Поведению графа он находил только одно объяснение. Как всякий самовлюбленный карьерист, тот просто играет в новую должность, всячески хочет продемонстрировать свое исключительное положение, полную и непререкаемую власть. Ну и черт с ним, раз он такой болван.
– Как только сменюсь, – пробормотал Рупперт, чтобы разрядить возникшую напряженность, – так сразу бокал мальвазии – и в койку. Кстати, Прокл Кузьмич, – обернулся он, протирая платком залепленные линзы, – вы хоть попробовали моей мальвазии?
– Не имел удовольствия, – сухо ответил Мякушков.
– Напрасно! Я же целый погребец в офицерский буфет пожертвовал по случаю… – Он запнулся, но быстро нашел нужные слова, – благополучного ремонта, так сказать. Отличнейшее вино! Из собственных погребов.
Тяжело переваливаясь с борта на борт, «Трувор» спешил навстречу циклону. Каждый раз, когда его накрывало тяжелой, словно из жидкого чугуна, волной, он надсадно скрипел и трясся мелкой противной дрожью. Казалось, что вот-вот расшатается клепка и в щели кинжальным напором ударит забортная вода.
– Счастливой вахты, – буркнул Мякушков, ныряя в люк.
Оставляя на голубом хорасанском ковре темные пятна стекающих с зюйдвестки струек, он распахнул дверь каюты и, щурясь на тусклый электрический свет, начал медленно раздеваться. Противно таял осевший на бровях снег. Прокл Кузьмич вытер лицо жестким вафельным полотенцем, переменил манишку и поплелся в кают-компанию. «Может, и вправду стебануть этой мальвазии? – тяжело вздохнул он. – Остзейские графы пивали… Ишь ты!»
В красноватом полусвете драгоценное дерево и штоф переборок казались куда более прочной защитой от взбаламученной стихии, чем полудюймовая клепаная броня. После кромешного ада ходового мостика необыкновенно милым представился ему этот изысканный и непрочный уют. Растроганным взором обвел он дорогие гобелены, розовый кабинетный рояль, черную бронзу клодтовских коней, китайские пепельницы и болезненные латании в керамических вазах. Ощущение было такое, будто бы он вернулся после долгого отсутствия в родной и забытый дом, где теперь заново узнает каждую вещь, припоминает самую незначительную, но такую дорогую подробность.
Покачивался и уплывал из-под ног покрытый коврами пол, и звенели поминутно хрустальные подвески на люстре, но это не могло развеять теплую иллюзию безопасности, ощущение грустной какой-то радости. Мякушков с наслаждением погладил холодную, накрахмаленную скатерть и, кликнув буфетчика, спросил мальвазии.
Сладкое, густое вино оказалось и впрямь отменным. Оно отдавало розовым лепестком, легкой горчинкой гвоздики и еще какими-то непонятными ароматами, пробуждавшими смутные воспоминания о заповедных озерах под полной луной, где распускаются в заколдованной тишине влажные, больные цветы.
Знаком показав, чтобы налили еще, Прокл Кузьмич закурил папиросу и долго любовался прозрачной вишневой тенью, которую отбрасывало на скатерть вино. Граненую ножку бокала он крепко зажал рукой, потому что судно бросало и все вокруг колыхалось и тряслось.
Около двух часов ветер достиг шквальной силы. Теперь даже Рупперту стало ясно, что дальнейшее пребывание в зоне циклона грозит кораблю неминуемой гибелью. Он начал маневр по расхождению и, надо отдать справедливость, выполнил его блестяще. Под углом в тридцать градусов «Трувор» виртуозно провел ветер справа по носу и во всю мощь своих новеньких турбин стал уходить из опасной зоны. Когда на мостик доложили, что барометр начал подниматься, Рупперт велел штурману спешно проложить курс на маяки пограничного Палангена.
– Дальним путем возвращаемся, однако, Рупперт Вильгельмович, – пророкотал с мягким латышским акцептом в переговорную трубу штурман.
– Ничего, Август Витольдович, дорога домой никогда не бывает достаточно длинной. Да и угля у нас полный запас, – сказал Рупперт и после долгой паузы спросил: – Ну как, вычислили уже?
– Айн момент, сейчас заканчиваю.
– Устали, Август Витольдович? – участливо осведомился граф и с коротким смешком посоветовал: – Хлопните бокал-другой мальвазии. Усталость как рукой снимет.
– У нас есть мальвазия?
– И какая! Сваренная по старым нашим курляндским рецептам! Настоятельно рекомендую. Господа офицеры в восторге.
– Откуда такое сокровище, Рупперт Вильгельмович?
– Презент моего старика. Целый погребец!
– Любопытно! – Штурман вкусно причмокнул и бесстрастным будничным голосом доложил: – Готово, Рупперт Вильгельмович.
– Благодарю.
«Трувор» лег на новый галс и вскоре ушел с пути летящего на курляндское побережье циклона. Напоследок судно обдало обильным снежным зарядом, и в зону мертвой зыби оно вступило как белый арктический призрак. Мачты, поручни и штормовые леера казались хрупкими фарфоровыми нитями. Задувал легкий зюйд-вест, обычный в этих местах. Эсминец, будто Летучий Голландец, скользящий против ветра, одиноко летел во мгле среди редеющих клочьев тумана. Температура понизилась, и белый налет начал оледеневать.
Рупперт подумал, что на полубаке можно было бы кататься на коньках. Эх, какие, бывало, выделывал он антраша на сверкающих никелем «нурмио» с барышнями в коротеньких, опушенных мехом юбочках! И как пленительно этот искрящийся мех дышал морозом, духами «Виолет» и еще чем-то невыразимо волнующим, свежим.
– Ну как, Нагоренко, держишься еще на ногах? – Граф резко обернулся к безмолвному матросу, застывшему у штурвала.
– Та трошки, ваше высокоблагородие.
– Обойдешься без смены? Продержишься лишних часика два?
– А шо ж! Выдюжим.
– Стакан водки получишь. – Бросив беглый взгляд на компас, кавторанг отвернулся и думать забыл про своего штурвального.
Когда «Трувор» пересек сопредельную границу территориальных вод, были отданы якоря. Тридцать шесть метров цепей с грохотом проскочили клюзы, прежде чем лапы зарылись в надежный глинистый грунт.
Уже в пятом часу утра командир спохватился, что лейтенант Мякушков не вышел наверх, чтобы принять вахту.
– Пусть набирается сил, – бросил Рупперт мичману. – Он еще с вечера раскис. Я обратил внимание. Вы тоже отдыхайте… Как-нибудь управлюсь сам. Мне, знаете ли, совершенно не хочется спать. И все после мальвазии! Сначала засыпаешь от нее как сурок, а потом целые сутки пребываешь свежехонек. Рекомендую проверить на себе, – он похлопал мичмана по плечу. – Кстати, распорядитесь, Генрих Николаевич, хорошо накормить экипаж. Макароны с мясом, какао и всем свободным от вахты – водку. Пусть на камбузе не скаредничают и дадут тминной. Все-таки «Трувор» выдержал серьезное испытание!
«А он ничего, этот „фон“, – подумал мичман Горлов, грохоча по железным пупырчатым ступенькам трапа, – с ним можно плавать. Старшим, на что шкурная должность, неплохо себя зарекомендовал и сейчас вон… Но все-таки жаль Зарубина, чертовски жаль Зарубина, чертовски жаль! При нем „Трувор“ никогда бы не сел на риф в проклятых эстляндских шхерах. Этот же прет на рожон и в ус не дует. В самый циклон зачем-то как очумелый гнал теперь вот на якорь у Палангена стали. Для чего, спрашивается? Поближе к фатерлянду потянуло, что ли?.. Ладно, не нашего ума дело. Пойду отведаю хваленой мальвазии. Рыцари в таких вещах толк знают. Не то что в морском деле». Туман окончательно развеяло, и проглянули мелкие зимние звезды. Маслянистая зыбь неприветливо била в стальные скулы корабля. На далеком невидимом берегу поблескивал маяк.
Рупперт вновь приник к биноклю. Устав всматриваться в неразличимый горизонт, потер глаза кулаком и бросил случайный взгляд на штурвального.
– Ты все еще здесь, братец? – удивился граф. – Можешь теперь отдыхать. Ступай вниз выпить водочки, и спасибо тебе за службу.
– Рад стараться, ваше высокоблагородие! – молодцевато вытянулся матрос. – Премного благодарим.
Едва он пропал в люке, сигнальная вахта доложила, что по левому борту замечены топовые огни.
– Вроде как военный корабль, и семафорят чегой-то, ваше высокоблагородие.
– Ну и бог с ним, – беспечно бросил командир, хватаясь, однако, за «цейс». – Можете отдыхать, ребята. Вам, верно, макароны оставили, да и захмелиться чем будет. Спасибо за службу!
Незнакомое судно с четырьмя огнями по вертикали медленно приближалось к «Трувору». Время от времени оно посылало прерывистый непонятный сигнал. Вглядываясь в острые короткие вспышки в сумеречном овале бинокля, Рупперт нетерпеливо притопывал ногой.
Посигналив и не получив ответа, неизвестный стал на якорь в кабельтове от «Трувора» и спустил на воду две шлюпки. Из-за облака выкатилась клонящаяся к горизонту луна и ровным, отчетливым светом залила море. Рядом с лунной дорожкой вспыхнули и обледенелые контуры незваного гостя. Это был номерной эсминец кайзеровского хохзеефлотте, недавно спущенный со стапелей Альтопы.
Командир «Трувора» вызвал наверх боцмана и команду матросов.
– Надо принять секретный груз, Фомич, – бросил он боцману. – Живо, тихо и не болтать!
На лунной дорожке уже качались скоро идущие к «Трувору» восьмивесельные шлюпки, нагруженные длинными ящиками.
Матросы кинулись спускать трап. Тонко заскрипели блоки талей.
Рупперт навел бинокль на капитанский мостик германского миноносца и долго с удовлетворенной улыбкой следил за тем, как вышагивает, чуть пританцовывая, высокий, прямой офицер, поигрывает хвостатой плетью – непременным атрибутом прусского моряка.
Корветтен-капитан Александр фон Брюген почувствовал, что за ним наблюдают, и приветственно помахал плетью.
Так состоялось это родственное свидание в пограничных водах. Оба брата были взволнованы. Более сентиментальный Рупперт настолько растрогался, что уронил слезу. Вот они, властительные узы крови, перед которыми все отступает на задний план: долг, присяга, наконец, осторожность. Конечно, всем рты не позатыкаешь и не зальешь глаза, ну и шут с ним! Главное, что дело сделано, а там пусть болтают сколько влезет. Даст бог, пронесет. В эту высокую, волнующую минуту Рупперт ощущал себя настоящим сверхчеловеком, чья всесокрушающая воля диктует потрясенному миру свой беспощадный закон.