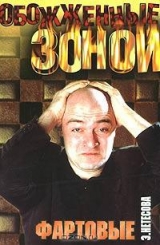
Текст книги "Фартовые"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
– Значит, снова в бега? – дрогнул голосом Федька.
– И чего ты прицепился? Ты что, прокурор иль кент? Дышишь и ладно. Не возникай на уши, – злился Берендей.
Поселенцы молча сидели у печки. Федька, закатив глаза к потолку, считал, сколько ему осталось до свободы. Берендей обдумывал, как по зиме, по снегу, на лыжах сбежит из Заброшенок при первом удобном случае.
Проверив в вороте рубахи, не завелись ли вши, Харя начал готовить завтрак.
Медвежатина уже сварилась, надо было пожарить к ней лук, сходить за хлебом в будку. Пока хлопотал, Берендей принес воду, подмел пол.
– Кажется, скоро мороз всерьез ударит, – вернулся Федька. И добавил – Носом чую. Первая пурга скоро будет.
Ф а ртов ы й повеселел:
– Что-что, а нюх у тебя – как у щипача отменного, не подводит.
– Это почему? – обиделся Харя.
– Медведицу через стенку застукал. Я и не услышал лярву, – признался Берендей.
– Так проохал, что она мне башку уже свернуть хотела. Думал, лиса иль кто помельче.
– Она только нарисовалась. Не успела оглядеться. А тут ты прихилял. Она и сграбастала, от тебя ж как от оленьих потрохов временами несет. Особо от копыт. Верно, вздумала их на десерт оста нить.
– Иди ты, – разобиделся Федька. Но решил для себя обязательно устроить к вечеру баньку в будке. Но Берендей категорически запретил ему натопить будку до тепла.
– Мясо до завтра пусть просолится. Опустим в ледник, потом хоть каждый день мойся, – сказал, будто отрезал, фартовый.
В этот день Федька решил в последний раз навестить свой шалаш. Знал, занесет его зимой по макушку. А Берендей не дает чифир варить. Вот и приходится делать его подальше от жилья, прячась да крадучись.
Харя шел меж облысевших берез. Белые-белые, они были похожи на безвременно состарившихся девчонок. Поредевшие их косы-ветки били худые плечи, зябли на холоде стволы-тела. И все ж смотрели березы на небо, закинув к нему головенки. У Бога, не у земных, прося понимания, поддержки и терпимости. Люди так не умеют… Люди, как сухая трава, в старости и в горе лишь под ногами видят.
Федька вытащил из шалаша жестяную банку из-под сгущенного молока, выколотил из нее старую заварку чая под березовый корень. Хоть это впрок пойдет. И, пошарив за пазухой, выволок оттуда трясущимися руками пачку чая. Глаза его лихорадочно загорелись. В горле пересохло.
Сбегав к ключу, Харя принес воду в банке, развел маленький костерок. Высыпал содержимое пачки в жестянку, залил воду так, что она едва покрыла чай, размешал для верности сухой веткой и поставил на огонь. От нетерпения крутился вокруг псом на привязи. Когда заварка стала подниматься вверх, размешал, поставил байку на угли: чтоб взяток был полным и первач полноценным. Чай медленно варился. Вот первые пузыри пробили варку, закрутили в банке черное месиво.
Подождав немного, Харя поставил банку на теплую золу, стал ждать, пока чифир настоится. Из-под закрытой крышки шел аромат чая. Чтоб ничего не пропало даром, прикрыл банку засаленной кепкой.
Федька был знатоком своего дела и для чифира брал лишь грузинский второсортный чай. Другие сорта для настоящего чифира не годились.
Едва пар перестал выходить из банки, Харя взял теплое черное пойло, сделал глоток.
Настоящие чифиристы не глушат варево залпом. Они цедят чифир через зубы, смакуя каждую каплю, чтоб получить полный кайф. И Федька тянул нестерпимую горечь, казавшуюся ему вкуснее и слаще меда.
Чифир получился отменный. Едва попав в горло, он ударил в кровь, в голову. Тело Хари расслабилось, глаза помутнели. Маленькая морщинистая мордашка стала похожа на увядшую свеклу. Рот открылся, обнажив коричневые пеньки от зубов. Из уголков рта побежали блаженные слюни.
Харя был в полубреду, в полусне. Маленьким, грязным комком он лежал возле остывающего костерка. И никто, никакие силы, не могли теперь вырвать его из одурманившего кайфа. Что грезилось Харе в это время? Пожалуй, хорошее. Вот как поплыли морщины с лица. Собранные еще недавно в жесткие пучки на лбу, висках, в уголках губ, они стекли к ушам, на шею.
Федька лежал, засунув грязную ладонь под щеку. Банку чифира он высосал лишь наполовину. Оставшееся выцедит позднее. Сразу все пить нельзя. Сердце не выдержит.
Вообще-то этой дозы с лихвой хватило бы на троих. Но Харя был старым чифиристом и малой дозы ему хватало ненадолго. Целая банка – это день кайфа. День забыться в своей, неразделенной ни с кем радости.
Как дорого ценился в зоне каждый глоток чифира, как нелегко он доставался! Зато теперь ни с кем не делит, ни у кого не выпрашивает. И появись сейчас хоть рысь, хоть медведь, Харя не узнал бы их. Горе тому, кто попытается вырвать чифириста из кайфа, разбудить, растолкать, вернуть к реальности.
Не человек, зверь получится из вставшего. Невидящие глаза нальются кровью. Коричневая слюна превратится в желтую пену, лицо станет белей березового ствола и тогда не сдобровать разбудившему. Будь это и родная мать.
Чифирист предпочтет смерть, чем неурочное пробуждение. Сам черт – ребенок перед разъяренным чифиристом. И хотя сам потом, придя в себя, будет горько каяться, жалеть о случившемся, с дурным гневом своим никогда не сможет совладеть.
Кайфует Харя. Перед глазами пляшет прозрачным видением тополиный пух над синей водой реки. А может, опадает черемуха. Что за диво это видение под тихую песню!
Засыпает Федьку снегом. Крупные хлопья повалили с неба внезапно. Туча роняла снег щедро, снежинки повисали на ветках проседью, вмиг укрыли землю. А через полчаса поднялся ветер, началась пурга.
Харя машинально влез в шалаш. Даже не обратил внимания на разбушевавшуюся непогоду. Допил остаток чифира и продолжал балдеть.
Берендей копал за зимовьем ледник для мяса и, занятый своими мыслями, совсем забыл о Харе. И только когда холодный ветер поднял коробом вспотевшую рубаху на спине, решил пойти переодеться в сухое.
Не найдя Федьки, окликнул его из будки. Никто не отозвался. Глянул на берег – тоже пусто. А ветер крепчал.
Решив, что Харя пошел за ягодами иль шишками, фартовый снова принялся за ледник. Он обдумывал новый план побега, когда его исчезновение спишут на гибель и не станут искать.
Берендей еще раз взвесил детали предстоящего побега. Этот план не мог, не должен был сорваться.
Довольный собой, Берендей решил перекурить и невольно вспомнил о Харе. Пошел в пристройку погреться. Волосы уже в ледяную шапку превратились. Значит, этот снег не растает.
– Харя, эй мурло, где ты, гад ползучий? – позвал фартовый. Но Федька не отозвался.
«Не ужель опять зачифирил? Я ж весь чай от него попрятал», – подумал Берендей. Но, заглянув в кирзовый сапог, куда попрятал пачки чая, понял, что Харя уже здесь побывал.
– Ну, падла, доберусь до тебя, вонючка облезлая! – накинул Берендей телогрейку на плечи и пошел за Федькой, продираясь сквозь пургу и тайгу, матерясь жутко.
А Федьке виделся ромашковый луг, а посредине дерево. Но что это за старик под ним сидит? Бородатый, белый, глаза улыбчивые. Зовет Федьку:
– Чего хочешь, человек? Что ищешь?
– Сам не знаю, чего хочу, – растерялся Харя.
– Домой дорогу ищешь?
– Нет у меня дома.
– Семью потерял?
– Никогда не обзаводился, – развел руками Федька.
– А хочешь семью, дом, детей?
– Зачем это мне? – удивился мужик.
– А где жить хочешь? – любопытствовал старик.
– Мне все равно.
– Ведь ты ж кровинка человекова, неужель людской мечты нет?
– Отчего ж, есть, конечно. Дай чифирку для кайфа. Чтоб забыться от человеческого…
Берендей выгреб Харю из шалаша вместе с обоссанной травой. Свернув ноги к рукам, бил Федьку по заднице так, что у Хари голова готова была отгнившей тыквой отвалиться.
– Сучья блевотина! Блядское семя! Козел вонючий, – орал Берендей.
Холод тому причиной или время кайфа прошло, – Харя не сопротивлялся.
Старые чифиристы после балдежа всегда впадают в апатию, на долгое время теряют аппетит, сон, желание к жизни, движению. Может, от того, что реальная жизнь кажется им куда скучнее и обесцененной кайфа.
Берендей бил Федьку, не жалея, как старую куклу. И не сразу смекнул, что Харя не двигает ни руками, ни ногами.
Принеся его за шиворот домой, кинул на койку с размаху. Харя не охнул. Так и продолжал лежать скомканной тряпкой.
– Чего дрыхнешь, придурок? А ну, разуйся, стерва!
Федька не двигался.
Берендей дернул за руку и отскочил в ужасе. Федька был бледный и холодный, как покойник.
– Иль пришил ненароком? – выпучив глаза, затаил дыхание поселенец и позвал тихо – Федька, Федь, не дури.
Харя и не пошевелился.
– Мать твоя дура пьяная, неужель гробанул? Да как же это так? – тряс фартовый Харю, звал, умолял, грозил и ругался одновременно.
Но ни звука, вздоха, движения в ответ не последовало.
– Да ты что, озверел? А как же я один останусь? Ты обо мне хоть вспомнил, дурья башка?
Харя лежал неподвижно. Берендей вытряхнул его из одежонки. Прислонился ухом к груди.
– Ни хрена не колотится! Разве это может быть? Чтоб до свободы не дожить? Как же так?
Фартовый принялся растирать Харю полотенцем. Потом закутал его в ватное одеяло. Растопив печь, насыпал соль в сковородку. Нагрев, засыпал в майку, связав снизу и сверху, положил Харе на грудь. Поставил на печку чайник.
От страха иль неожиданности у фартового душа тряслась.
– Федь, а Федь, очнись. Ну, хочешь, я сам тебе чифирку заделаю. Ну на хрен тебе сдыхать? Хочешь, я тут останусь с тобой. И в бега не пойду. Не веришь? И чтоб мне свободы не видать! Ну трёхни хоть что-нибудь, Харя гнусная. Ведь не должен ты от одной-то пачки копыта откинуть, стервец. Ты их за свою жизнь столько выжрал, малине на год хватило бы взахлеб.
Берендей теребил Федьку. Но тот лежал тихий, недвижный.
Фартовый удрученно сел к печке, обхватив голову руками. Харя… Как пережить это новое, неожиданное потрясение? Ведь он так привык к тому, что Федька всегда рядом, под рукой, как рубаха. И вдруг его не станет.
– Да нет! Не фрайер же он! Зэк был путевый, свой паек, положняк, отдавал фартовому… Федь, а хочешь, я тебя в малину возьму. К себе. Кентом. Ты не ссы, я тебя от мусоров сберегу. Жить станешь на большой. Без понта, впустую не ботаю…
Харя молчал. Но Берендею показалось, что у Федьки дернулось веко.
– Федор, очнись, кончай ваньку валять. Как кента, прошу! – взмолился Берендей.
Наклонившись к Харе, увидел, что глаза его едва приоткрылись.
Берендей перенес Федьку к печке, положил на лавку.
– Докайфовался, гад! – налил в кружку чай и, сунув в него пару ложек малинового варенья, стал вливать в рот – Глотан, мать твою в хвост пчела грызла. Хлебай! Я тебе не дам копыта откинуть, – суетился фартовый.
Федька сглотнул чай, с трудом открыл глаза. Слабо мотнул головой, отказываясь от чая.
– Я тебе навару налью. Медвежьего. От него даже жмуры
вскакивают, – и подойдя с миской бульона, он стал вливать его Федьке сквозь зубы. Тот закашлялся, зачихал.
– Давай, давай, дрыгайся шустрее, – радовался Берендей.
К вечеру Харя задышал ровнее, но, попытавшись встать,
упал.
– Да что это с тобой?
– Дышать тяжело. Все болит. Все будто чужое, – впервые пожаловался Харя.
К ночи у него начался жар. Берендей смекнул, что застудился Федька в шалаше. А может, замерзать начал. Да не дал ему окочуриться фартовый.
…Давно пришли в Заброшенки промысловики и ждали, когда море скует льдом. Берендей даже не обратил на них внимания.
Он не отходил от Федьки, который очень медленно шел па поправку.
Харя долго не мог самостоятельно повернуться на бок. Лишь через месяц стал вставать, садиться, ходить.
Берендей каждый день парил его в дубовой бочке, настояв в ней перед тем пушистую молодую хвою.
Медвежий жир и малиновое варенье тоже шли в ход.
За время Федькиной болезни научился Берендей стирать и мыть полы, прибирать в жилье и содержать в чистоте посуду, готовить еду и топить печь.
Недаром, настроившись побалагурить, сказал как-то:
– Теперь меня и замуж отдавать можно. Лихая беда всему научила.
Промысловики, изредка навещавшие поселенцев, обещали им по весне сложить русскую печь. А один из них, старый охотник, зауважавший Берендея, помог вынести все лишнее из будки и на следующий выходной привез десяток кур с горластым петухом. К ним – два мешка овса в придачу.
В тепле да в сыти куры вскоре занеслись. И Федька каждый день утром и вечером ел яичницу.
Берендей старался скорее поставить его на ноги.
Днем фартовый уходил с промысловиками на море, долбил во льду проруби. И, спрятавшись за набросанный лед, ждал появления нерпы. Едва та вылезала на лед, фартовый стрелял.
Желтый с черными пятнами короткий мех нерпы нравился всем. Берендею в диковинку были эти безобидные неуклюжие на льду звери. У них не было ни лап, ни ног, – вразвалку передвигались на ластах, не уходили нерпы далеко от проруби. Чем-то похожие на тюленей и моржей, они меньше всех боялись людей, видно, не ждали от них для себя беды.
Поначалу Берендей, не имевший опыта в промысле, горячил-
с я. И, едва завидев вылезающую из воды нерпу, стрелял. Та тут же ныряла в прорубь и уже не появлялась в этих местах.
Охотники научили Берендея терпению. Вылез зверь – пусть отойдет от полыньи. Чтобы не ушел в море быстро, накидай рыбьей мелочи у проруби.
Морскими ловушками назывались проруби. Их по три, иногда по четыре за день выдалбливал фартовый.
В иной по две нерпы за день вынырнет, из другой – ни одной.
В среднем за день по четыре-пять нерп убивал. Разделывал. Шкуры увозились на выделку, мясо – на норковую ферму, внутренности – на птицеферму, жир – для лекарств.
Привычные ко всему промысловики жили в меховой палатке. Они многому научили Берендея. И теперь в зимовье поселенцев горели до глубокой ночи светильники на нерпичьем жиру. А над лавкой на стене прибил Берендей громадную шкуру первого убитого сивуча.
Возвращаясь в сумерках с моря, нес фартовый свежую печень нерпы Харе на ужин. Накормив, обиходив Федьку, наскоро поев, садился к печке и, греясь, рассказывал о прошедшем дне.
Харя помнил, как радовался Берендей, что он уже не в обузу промысловикам. Работает наравне. А вскоре не сам фартовый, охотники признали, что удачлив Берендей, больше всех нерп отстреливает.
– Поначалу, знаешь, Федька, чуть не взвыл. Знаю, попал
II нерпу. А она слиняла в лунку. Я за ней. Ну, поймаю стерву. Подскочил, она из лунки высунула усатое мурло, зенки выкатила, как чифиристка, отряхнулась, фыркнула и опять в воду смылась. Полдня над прорубью сидел и все без понта. С тех нор жду, покуда на бок ляжет, спиной к лунке.
Федька замечал, что Берендей, общаясь с промысловиками, даже разговаривать стал иначе, не по фене. Меньше ругался, реже злился. Но… Харя понимал, что только его болезнь держит Берендея в Заброшенках. Чуть он встанет на ноги, фартовый тут же уйдет в бега.
Но Харя, хоть и предполагал такое, болезнь не симулировал. Когда ему становилось лучше, не скрывал.
– Знаешь, нынче я озверел, – пришел как-то Берендей с работы расстроенный.
– Что случилось?
– Не досмотрел. Нерпа с дитенком на лед вышла. А нерпенок беленький. Потому и зовут – белёк. Я ж его не углядел. И мать его загробил. Подхожу к ней, а у нерпы – молоко по пузу вперемешку с кровью. А рядом белыш сидит и плачет. Глаза большие, черные, а слезы – что у человека. И стонет,
хнычет. Увидел и больно стало. Вроде человека загубил. Как теперь малыш будет? Гад я! Вовсе пропащий, – досадовал Берендей.
– Это хорошо. Значит, не все ты в малине растерял, коль и на меня и на белька тепла хватило. Ничего, научимся мы с тобой отличать белое от черного, нужное от лишнего, – вздыхал Федька. И спросил – А куда ж белёк делся?
– Я его к другой лунке отнес. И нерпа, когда вынырнула, увидела белька. Хоть и чужой он ей, а уговорила, видать. Увела за собой в море. Я ее не трогал. Пусть живет и белька выхаживает, растит.
…Тот, кто жизнью своей и судьбой, вольно или невольно, связан с морем или тайгой, душою всегда чище других людей. Если жестокий в прошлом человек попал в тайгу, она излечит, очистит его душу от зла и обид, она накормит и приютит, обогреет и успокоит, вылечит и научит многому. А если, на счастье, сердце человечье окажется добрым, отзывчивым, – откроется, доверится ему тайга. Рассмешит и обрадует. Ну, а коль не осталось у человека тепла, если остался от сердца лишь пепел, не выпустит его тайга к людям, сгубит, спрячет надежно, навсегда.
Берендей в редкие выходные полюбил гулять по тайге на лыжах. Смотрел, наблюдал, радовался. Возвращался в зимовье возбужденный, как мальчишка.
Харя даже завидовал фартовому. Но каждый раз, когда тот уходил, Федька мысленно прощался с ним навсегда. Понимал, что надоело Берендею нянькаться с ним, выхаживать, жить так, как не жил никогда.
А Берендей приносил в зимовье причудливые чаги, бамбук. И Харя, постепенно научившись двигаться, сплел из бамбука кресло. О, если бы не ноги! Они надолго подвели Федьку. Даже по пристройке передвигался с трудом, волоча непослушные ноги.
Берендей ободрял, успокаивал. Он хорошо зарабатывал. И не скупился на расходы. С первой же получки купил одежонку. Себе и Федьке. А когда тот заболел, привез ему из Ново– Тамбовки толстый теплый свитер. Носки вязаные, до колен. Теплое белье, шарф, варежки и валенки.
Столько добротных и теплых вещей Федька не имел за всю свою жизнь. Он натянул на себя все. Даже варежки. С трудом вставил ноги в валенки и сел к печке. Хорошо, что Берендей был на работе и не видел, как плакал Харя. Плакал от того, что впервые в жизни оделся по-человечески. Тепло и удобно.
Федька гладил обнявший его тело свитер. Какой он красивый! И по размеру пришелся. А цвет-то, цвет настоящей морской волны…
Шерсть приятно покалывала. Харя чувствовал, как согреваются ноги в носках и валенках:
«Наверно, дорого все это стоит. Как же я с ним рассчитаюсь за все? Ведь работать не могу. Эх-хе-хе… За вещи – ладно, а вот за то, что вытащил из могилы, лечит, мучается тут со мной? Что это я навсегда его должник. Весь в подарках, ни за что. Хотя в свое время… Э-э, да что там. Ну, выиграл я Берендея у Медведя. А вот с чего прилепился к нему? Верно, тогда душа раньше разума почуяла в фартовом друга. Пусть не навечно. По сколько раз он меня выручал!» – улыбался Харя сквозь слезы.
Ему вспомнилась уползающая медянка, грохот волн и Берендеи, теряющий силы на скале. Предатель Берендей, подлец фартовый, беглец и матерщинник, самый дорогой, единственный на свете человек…
Харя сам себе растирал ноги, парил их в хвое, в морской воде, которую ему каждое утро приносил Берендей. И через тру недель ноги стали чувствовать тепло и холод, ныли от сырости. И фартовый радовался, что скоро Федька сможет не ползать, а уверенно ходить.
Из Ново-Тамбовки привез он Харе костюм. Недорогой, но хороший. Потом и шапку из кролика. Сам Берендеи расчувствовался, увидев, как воспринял Харя новую одежду.
Не имевший семьи и детей, фартовый заботился о Федьке, как о кровном. Может, годы сказались иль тайга очистила душу, пробудив в ней искреннее – быть хоть кому-то нужным и позаботиться о нем.
Здоровый, Харя не нуждался в опеке, а вот больной – стал совсем беспомощным. Не поддержи, не ободри его вовремя, не помоги ему, скис бы мужик, махнул бы рукой на себя, на здоровье. Такие приступы случались. Да Берендей их отвел.
– Жить надо, Федька, усеки это. Жизнь – одна у каждого. И ее нельзя укорачивать дурью, слабостью или похотью. Ее, как нежный цветок у сердца, беречь надо. Потому что вся жизнь на нас, мужиках держится. Это и в тайге, и в море, и у людей. Потому что мужики – везде сильные. Не станет нас, загробится все. Вот я сегодня в тайге был. Много чего увидел. Раньше бы и не приметил. Все торопился. Потому как считал, что у фартовых самые длинные только сроки и самая короткая жизнь. Эх, куда торопимся? Оглядеться надо, – закурил Берендей и продолжил – Оленуху мужики-охотники завалили. А она с олененком была. Тот, верно, неурочным оказался. Припозднился родиться на свет. Когда мать упала, из кустов и выскочил. Прямо па промысловиков. Нет бы смыться, зашился бы в чащу, в кусты, так нет, кричит всеми кишками. А тут на его голос старый олень примчался. Может и отец. Увидел олениху, дитенка, людей. Смекнул. Подтолкнул рогами в бок малыша и, загородив собою, в тайгу увел. Так-то… Хотя сам рисковал, а не струхнул. Вот те и старый хрен.
– Ты тоже меня от погибели уберег, – вставил Харя.
– При чем тут я? Бог тебя увидел. А я что? По нашему закону, того с кем в тюряге кентовался, оставить не должен. Вот и все тут.
Федька впервые сегодня смог сам приготовить ужин. Грибной суп, котлеты из медвежатины, нерпичья печень тушеная и компот из кишмиша.
Берендей, увидев накрытый стол, растрогался:
– Ждал, значит?
– Заждался уже, – признался Харя. И добавил – Я сегодня даже кур сам кормил. С петухом побазарил. Ему, паразиту, неплохо у нас живется. В тепле, в сыте, при гареме. Потому у него и горло за троих. Утром как заведется орать, ни за что не заснешь, целыми днями зиму прогоняет, солнце зовет, тепло, чтоб в тайге с курочками своими погулять.
– Это верно. Хавай, спи да о потомстве не забывай. Вот и вся его забота, – поддержал Берендей. И, посерьезнев, сказал веско: – Смотри, во двор не торопись выходить. Копыта береги. Нужды в том нет. Понял? Трофимыч обещал тебе врачиху поселковую привезти на днях. Чтоб осмотрела и сказала, как дальше тебя лечить.
– Врачиху мне? Да зачем теперь? Уже не надо. Хватит и одного идиота, которого ом вначале привез. У меня после его осмотра ноги вовсе задубели, слушаться не стали. Все командовал: поднимите, согните, поверните… Цирк ему тут, что ли? Я от боли чуть не уссываюсь, а он, гад, колени мне гнет. Я чуть криком не орал. Нет, никакой врачихи не хочу. Хватит с меня! – упрямился Федька.
– Зря ты ботаешь. Тот мужик дельное подсказал.
– Что?
– Да морскую воду. Как стал в ней ноги парить, дело на поправку пошло. Может и эта… между прочим, хоть одна баба у нас в гостях побывает. Не то от их вида совсем отвыкнем. Скоро забудем, что мы мужики! – хохотнул Берендей.
Трофимыч, навещавший поселенцев чаще других, не раз удивлялся, как смогли эти мужики прижиться в Заброшенках. Ведь вот и до них присылали сюда на поселение здоровых молодых людей. Все спились, всех пришлось вернуть обратно в зоны.
Начальник госпромхоза понимал, что условия жизни здесь не из легких. А потому выжить и зацепиться за это место суждено лишь сильным натурам.
«Может, прикипят они у нас и останутся в Заброшенках насовсем», – думал Трофимыч.
– Мне сегодня промысловики знаешь что предложили? Баб нам с тобой подыскать. Чтоб насовсем мы здесь остались. Навроде бугров Заброшенок. Ну и дома по теплу помогут построить. Настоящие. А в трехстенке корову, свиней держать, короче– целое подворье, – говорил Берендей.
– А ты что им сказал? – спросил Харя.
– Да на что мне свиньи иль коровы? Ну, бабу, на время, не мешало бы. А постоянно – нет. Они – как комарье. С виду безобидные. А чуть уши распустил, позудит да начнет кровь жрать.
– Так всегда вышибить можно, под сраку дать, – подал голос Харя.
– Тебе что, возвращаться некуда? – спросил Берендей.
– Не к кому, – невесело вздохнул Федька – Все потеряно. Никому я не нужен. И никакая баба за меня не пойдет. Какой ей от меня понт?
– Чокнутый ты, ей Богу! Да если захотим, таких баб отхватим! А чем мы не мужики? Все при нас! Неженатые были, не вовсе старые. Ну, то что морды малость помяты и сами не первой свежести, так это не беда. Зато все остальное в ажуре, – похлопал себя Берендей ниже живота. И спохватился – Врачиха ж к нам приедет, вот ее и закадрим. Хочешь? Давай зимовье приберем. Чтоб эта баба не ругалась.
Харя быстро смекнул, что врачихе может понравиться Берендей. А если у них склеится, то не уйдет отсюда фартовый. И его, Федьку, не оставит.
Харя помогал Берендею изо всех сил. Протирал окна, отскреб стол и лавку. Берендей, раскорячась, отдирал пол:
«Хоть чем-то время убить. Иначе в этой дыре спятить можно. Дай Харю встряхну, чтоб не зачифирил, паскудник».
А к ночи испортилась погода. Черные тучи загородили звезды. С моря рванул ветер.
Первое его дыхание прошлось по зимовью жесткой рукой. Задрожала, застонала будка. Встревоженно заквохтали в ней куры.
Второй порыв был сильнее.
«Выдержит ли будка пургу? – подумал Берендей. – Ведь тремя рядами поленниц загородил ее от моря. Вровень с крышей. Должна бы выстоять…»
В это время в зимовье открылась дверь, и охотники мигом заскочили в пристройку.
– Мужики, мы у вас пургу переждем. А то палатку может сорвать. «Старик» поднялся, кажется. Три дня не высунуться теперь.
Охотники садились кто где. Грели озябшие руки.
– Чайку бы сообразить, – предложил кто-то из них.
При этих словах, словно по команде, проснулся Харя.
Берендей уже затопил печь, поставил чайник.
– Мы свои пожитки в вашу будку положили.
– Если ее не унесет пурга, цело будет, – кивнул фартовый, ухмыльнувшись.
– А чего рыгочешь? Вон в прошлом году мы так же здесь были. Аккурат под новый год ветер-«старик» поднялся середь ночи. Палатку нашу вначале доверху замел снегом. А потом сорвал и унес в море. Мы и остались, как прыщи на заднице. Сунулись в будку. В ней тогда тоже поселенцы жили. А они, сволочи, в Маню – Ваню играют…
– Лидеры? – спросил фартовый.
– По вашему – педерасты, по нашему – скоты. Ушли мы в ту ночь в поселок. Пешком. Чуть не сдохли от холода. С тех пор на вашего брата, зэка, так и смотрели, ровно на нечисть, – говорил Подифор, самый старый в бригаде охотник. – Ты не обижайся, к тебе это не относится. Вот, глядя на вас, думаешь: побольше б среди свободных таких людей было, – он взял кружку с чаем из рук Хари.
Берендей, накинув телогрейку, носил в зимовье дрова. Топить придется всю ночь, нельзя же, чтоб люди мерзли.
Охотники, согревшись, легли вповалку на спальных мешках. Переговаривались вполголоса. И только Подифор сидел у печки в исподнем, курил самокрутку.
– Давно в промысловиках? – спросил Берендей.
– Всю жисть. Нынче уже тяжко лунки бить. Сам знаешь, море в иных местах до трех метров промерзает. Самое малое – на два. Ну и подумай теперь, каково мне на восьмом десятке приходится? Покуда одну лунку выдолблю, спина колом, руки в кровь, кишки до утра болят.
– А что на пенсию не идешь?
– Пенсия? Да мне той пенсии только на табак. А и без дела не смогу. Весь век работал. Как на пособие уйду, старуха чарку не даст. Запилит, окаянная, что без дела слоняюсь. Вот в промышляю, сколько сил есть. Покуда жив человек, свой хлеб есть должен. Не хочу заглядывать ни в чьи руки.
Харя заерзал на своей телогрейке. Берендей пил чай молча, смотрел на огонь, пылающий в печи. Он не слышал сказанного, думал о своем.
Выла пурга над зимовьем, смешав черноту неба с темнотой
тайги. Надувал ветер в ночи каждому дереву огромные сугробы, стегал по верхушкам и кронам жестким колючим кнутом. Деревья охали, стонали, скрипели. И одно рухнуло, задрав кверху гнилые корни.
Так и человек: в шторме жизни выстаивает лишь крепкий, сильный.
Там, поодаль, плачет на ветру старая пихта. Если б не ели, давние подружки, давно бы высохло сердце. Да ели не дают скучать, защищают, загораживают подружку. И как не горьки ее стоны в жестокую пургу, никогда дерево не просило смерти у неба. Жизнь! Она хоть и шла к закату, но радости тайги по– прежнему грели сердце.
Вот пурга уже над корягой, что срамным чертом из-за деревьев выставилась. Когда-то коряга была корнями могучей ели, но пришел срок и повалила ее такая же пурга. Задралась коряга рогами из земли. Всему живому насмех. Но вскоре и под нею жизнь закипела. Заяц нору вырыл. Глубокую, теплую. Л под корягу лиса не сунется. Боится. Лишь заяц знает в ней каждый сучок. Потому и живет спокойно.
Но и косой не знает великой радости коряги: этой осенью упало под нее семечко сосновое. И пригрелось. Полюбилось ему здесь. Коряга его теплой трухой присыпала. От чужих глаз мхом завесила. Пусть не кровной, а все ж мамкой стала. Значит, и рогатая, и старая, а нужна еще…
Плачет пурга над тайгой. Спит, свернувшись в клубок, белка. Животом троих бельчат греет. Уж совсем было хотела новое дупло искать этой осенью. Да дятел поработал, вылечил дерево. И не пришлось белке уходить из обжитого дома.
Спряталась в дупле, неподалеку от беличьего, старая сова. Сколько ей лет, никто вокруг не помнил. Все живое в тайге парами живет, и только она – одна. Потому что у нее характер– дрянь. Чуть задремлет зверье, сова, как назло, распустит крылья-метелки, полетит мимо гнезд, нор, дуплянок да как ухнет жутким голосом. Все птенцы просыпаются. Ругают эту сову на все голоса. Обзывают, а она знай свое. А все от зависти. Плохо ей, пусть другим хорошо не будет.
Вот эту жизнь никто, кроме старой елки, не любит. Никто ее в гости не ждет, не пожалеет. Но ель сове всех заменила. Плохая иль хорошая, а своею стала.
Нет в тайге лишней, ненужной жизни. Каждая дорога, любая– своя кровинка в большой семье. Всякая жизнь – цветок и украшение. Вот так бы у людей…
Свирепствует пурга. С тайгою ей трудно совладать. Тут все друг за друга держатся крепко. В одном кулаке. Его не разжать, не расщепить. С людьми куда как проще. Они не умеют
дорожить жизнью, а потому живут меньше тайги. Видно, от того, что тепла у них маловато.
Гудит пурга над зимовьем. Бьет по крыше ледяным кнутом. Рвется в подслеповатое окно, оскалив черную пасть. Ругается, пугает. Но бесполезно. Никто не боится ее.
Спят в зимовье охотники, раскинувшись на полу. В пристройке жарко, как в бане. Мужики до нательного раздеты. И лишь один, Берендей, не спит. Чтоб спали другие. Должен кто-то из людей заботиться об этом.
Фартовый… Буйная головушка. А вот теперь сидит у печурки, выстругивает топорище из березы, чтобы даром время не шло и не заснуть ненароком.
К спящему, безмятежному чаще всего беда подкрадывается. Хватает неожиданно за горло мертвой хваткой. Потому у покоя Других должен быть сторож.
– А ты чего не спишь? – поднял от подушки седую голову Подифор.
– На шухере я, дед. На стреме, значит. А ты спи. Я посижу.
Белые стружки крутыми завитками падают на колени, ложатся к ногам. Вот теперь, сложись жизнь иначе, были бы у Берендея внуки и внучки, ну хотя бы одна, светловолосая, вот в таких же завитушках-локонах, с глазами синей морской волны, со смехом звонким, прозрачней росы.
Но нет, никто не назовет его дедом. Не вложит теплую, как жизнь, дорогую ладошку в огрубевшие, жесткие руки. Упущено время. Промотал бесплодно годы по «малинам» и тюрьмам. Этого уже не вернуть. Лишь с виду мужик, но уже… Перестойный. Как дерево. Прошло время и нет от него проку. Высохнет и упадет молча, без крика. Была жизнь. Да что в ней вспомнить?
Вот этих, охотников, – каждого в поселке ждут. Жены и дети, внуки. Беспокоятся, переживают. А он? Отбрось концы, никто и не вспомнит. Разве только Харя матюкнет за то, что не сумел его хорошенько вылечить. Да в малине кенты удивятся, что не сумел откинуть копыта, как фартовый, в деле, на воле. Вот и вся память. Жизнь к концу, а итог – как пустой общак,







