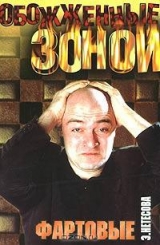
Текст книги "Фартовые"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
Глава третья
ВЕДЬМИН ЧАС
В Охе имелись три «малины». О том знали милиция и прокуратура. Прочие горожане могли только предполагать…
В других городах, что покрупнее, их, возможно, было куда как больше.
Но в Охе имелись всего один банк, три сберкассы и не так уж много магазинов.
Жители города в большинстве – геологи. Они хоть и хорошо зарабатывали, предпочитали иметь сберкнижку, а не домашние кубышки. Привычные к походной жизни, они не заводили в квартирах дорогих вещей. А потому поживиться в них фартовым было нечем.
Это печальное обстоятельство и заставляло блатных выезжать в другие города, чтобы хоть как-то пополнить общак за счет периферии.
И тогда на несколько недель в Охе восстанавливалось спокойствие.
Но поездки блатных не длились долго. И едва привыкнув к тишине, начинали замечать охинцы пропажу дорогого белья, вывешенного на просушку, исчезновение меховых шапок с голов прохожих.
– Вернулись! Чтоб вам пусто было! – ругались жители на фартовых.
Одна из таких «малин» окопалась на Сезонке. Жители не любили этот район города. Временные бараки первостроителей, будто тараканами, кишели пьянчугами всяких возрастов, девками сомнительного поведения и ворами.
Здесь ни днем, ни ночью не стихали пьяные песни с таким содержанием, что матери из приличных семей даже днем не разрешали детям гулять на улице. Крики, брань, топот пляшущих не стихали здесь и глубокой ночью.
Когда спала Сезонка? Этого никто не знал. Здесь и рождались и умирали под «Мурку» с «Чубчиком». Здесь «шумели камыши» зимой и летом. Тут «тонкая рябина» с детства и до старости никак не могла перебраться к дубу, видно потому, что во хмелю не видела дороги. А может статься, подмочила ей репутацию городская милиция, забиравшая с фингалами под глазами наиболее буйных в вытрезвитель.
Сколько раз на день вызывалась сюда милиция и прокуратура, сколько давалось предписаний, бралось подписок, писалось жалоб на ее жителей – Сезонка сбивалась со счета. Сколько пьяных мужей уводили бабы отсюда, щедро дубася кормильцев по головам и спинам; сколько здесь слез пролито, выпито хмельного, искалечено судеб и жизней – этого уже не счесть.
Зловонным раем, городской помойкой звали охинцы этот район и обходили его стороной.
Не приведись пройти здесь узкой улочкой в полночь – ведьмин час, да еще особе женского пола. На возраст и личность не глянут. Вмиг окажется жертвой какого-нибудь развратника, кой через час и не припомнит, что осквернил девушку.
Дурная слава о Сезонке закрепилась прочно. Может, потому и облюбовала это место для себя «малина» «Ведьмин час». Разгульные, похабные воры этой банды не решались на большие дела. Не взламывали сейфы, не обворовывали магазины. Занимались щипачеством, фарцевали, домушничали. Жили впроголодь. А потому на дело приходилось им выходить чаще. Не брезговали снять белье с веревок у забывчивых хозяек. А потом загоняли его по дешевке поблизости на базаре, тут же стащив у торговки курицу или банку кетовой икры.
Эта «малина» постоянно обновлялась. Сколько отсюда ушли по этапу в лагеря – никто не припомнит.
Ведьмин час…
Худосочный, низкорослый мужичонка, которого во всех лагерях и «малинах» звали Дамочкой, имел бабью походку, визгливый голос базарной торговки; он и был главарем «малины», в которую вор в законе пойти посчитал бы для себя за падло.
Мужики города звали его педерастом в лицо. А бабы – сучьим выкидышем.
Знали здесь и настоящее имя главаря – Колька Кириченко. Уж слишком часто судили его в Охе в открытом заседании. Да и вырос он здесь, на Сезонке. Тут родился под разгульные песни у состарившейся пьянчуги. От кого он у нее взялся – сама диву давалась не раз.
Колька молока с детства не видел столько, сколько выпил вина еще в грудном возрасте. Бывало, обмочит пеленки или чего хуже утворИТ по неразумению, мать ему – бутылку с ви– ном. Соску никогда не мыла. Глотнет малец пару раз и спит. Так и рос. До двух лет даже не ползал. Лишь в три года на ноги начал вставать. А уж как заговорил к пяти годам, вся Сезонка животами со смеху маялась. Отборным матом свой запропастившийся горшок выбранил.
Та, что матерью стала по воле случая, всему базару своей радостью поделилась:
– Заговорил сынок. И сразу по-нашему, серьезно. Знать, настоящим мужиком станет…
Колька с детства не садился есть без хмельного. Любил гор
ланить блатные песни, плясать до стона в коленях, пугать в ночи случайных прохожих. А когда стал взрослеть, уже не орал кошачьим визгом в темном переулке. Бросался под ноги, чтоб упал человек. Остальное доделывали воры.
Постепенно совершенствуясь, он научился ловко потрошить сумки и карманы, снимать часы, кольца и цепочки. Приловчился моментально сбывать все это. И – пропивал барыш в один день.
Дамочка считал себя счастливым человеком. Он ни над чем не задумывался, ни о чем не беспокоился. Да и что могло терзать этот маленький лоб? В нем едва хватало места, чтобы запомнить десяток блатных песен, пять дюжин матюгов, да кликухи кентов.
Да, он не раз был судим. Но за мелочи много не давали, И посидев года два-три, снова возвращался на Сезонку, где его приход обмывался и ворами, и пьянчугами.
Дамочка, как и все воры, не хотел обзаводиться семьей. К чему лишние хлопоты? Девки не перевелись. За поллитра на двоих и уговаривать не приходилось. А что будет завтра или через год – его не заботило.
Когда умерла, сгорев от спирта, мать, он даже не перестал петь свою излюбленную:
Как родился я на свет, дал вина мне старый кент.
И теперь всю жизнь свою я вино, как воду, пью.
Кто-то похоронил старуху, увезя в телеге обшарпанный дощатый гроб. Колька даже не оглянулся.
– Умерла? Ну что ж, мне больше достанется, – хлебнул из горла портвейн.
О матери он и потом ни разу не пожалел, не вспомнил о ней по-доброму.
К Дамочке приходили все, кто любил выпить на халяву. Главарь открывал счет долга. Сумму сразу не называл. Ждал, пока по уши завязнет новичок. А там и финач к горлу – гони долг. Нечем? Отработай.
Так и застревала в «малине» зелень. Вначале бездумно. Потом и прирастала, приживалась. Пускала свои корни.
Почему назвали «малину» «Ведьмин час»? Да может потому, что брали фартовые на гоп-стоп прохожих не раньше полуночи и не позднее трех часов ночи. Дьявольское время. А может потому, что Дамочка родился ровно в полночь. И не раз хвастался, что родившийся, как он, в ведьмин час – заранее обручен с воровской судьбой.
Промышляла эта «малина» не только у себя на Сезонке. А и на Дамире, и в горсаду. Там, в городском парке, обрывала с припоздавших девчонок серьги и кулоны. Раздевала донага влюбленных.
Но вот однажды случилось непредвиденное.
Распивал Дамочка с тремя кентами бутылку вермута, отнятую у двоих парней из духового оркестра. Расположились все под кустом. Удобно, тепло. Вечер дал хороший улов. Несколько часов сняли с парней. Три дорогих перстня. Уже подсчитывали, сколько водки и вина на утро купят, как вдруг услышали звук шагов по тихой темной аллее. Кто-то шел прямо к фартовым.
Дамочка привстал. В свете отдаленного фонаря увидел одинокую девушку. Та беспечно шла по аллее. Видно, возвращалась с работы, с нефтепромысла. Одета была не по-праздничному. В рубашке, куртке. И мелькнула пошленькая мыслишка. Мол, с худой овцы – хоть шерсти клок.
Колька, махнув рукой, позвал кентов. Сказал тихо:
– Побалуемся под кусточком с пташкой. Время имеем…
А когда девушка, ничего не подозревая, поровнялась, выскочил Дамочка ей наперерез.
За ним остальные вышли. Встали на пути.
– Пошли, милашка, отдохни с нами, – вкрадчиво, слащаво пригласил Дамочка.
– Иди-ка ты! – услышал в ответ.
Кент, стоявший сбоку, молча ударил девушку кулаком в висок. Та резко повернулась. И удар страшной силы – в челюсть – откинул фартового в затрещавшие кусты.
Не дав опомниться, тут же поддела в солнечное сплетение Дамочку. Тот, грохнувшись головой о дерево, не мог продохнуть. От дикой боли в затылке сверкали искры в глазах.
Третьего мужика девчонка ногой в остроносой туфельке в пах ударила. Он нож было вытащил… Последний, трепыхаясь, пытался убежать. Но куда там? Далеко за ним понесся душераздирающий стон. Ему показалось, что остался он на всю жизнь с одной по/говиной лица и головы.
А девушка позвонила в милицию. Попросила приехать.
Вскоре в горсад примчался «воронок». Всех четверых воров, не успевших далеко уйти, задержали.
Лишь на следствии узнали кенты, как им не повезло. Ведь напали они в тот вечер на единственную во всей Охе боксера– девушку. Ту, которой гордились все геологи.
Когда в заседании суда она давала показания, публика в зале, глядя на насильников, смеялась от души.
Защита ссылалась на сломанную челюсть у одного, выбитый глаз у другого, на сотрясение мозга у Дамочки. И все это утво-
рила девушка. Один на один с целой бандой. Охинцы неиство– вали, хлопали в ладоши, кричали:
– Браво, Ольга!
Лишь в день вынесения приговора узнали фартовые, что и боксерка привлекалась к уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны. Но суд признал такое Обвинение прокуратуры ошибочным и вынес определение, где было сказано о праве причинять нападавшим вред, вплоть до физических увечий, а не убегать от них. О праве пресекать йреступные посягательства всеми возможными средствами. «Что действия потерпевшей служат примером правильного понимания гражданского долга, когда защита своего достоинства и безопасности является одновременно и защитой общественного цорядка в целом, а потому такие действия не образуют состава Преступления», – глянул судья на Ольгу. Та облегченно вздохнула. Из глаз выкатились две прозрачные бусинки-слезинки. Опр авдана. В назидание всем бандитам оправдана!
Дамочка ликовал: все ж не прошло бесследно для этой лошади… Помотали ей душу на следствии. А то повадится каждая йот так на мужиках тренироваться.
Наличие прежних судимостей увеличило наказание. А потому недолгой и несерьезной была радость Дамочки. И когда блатных уводил на пять лет конвой, проходя мимо Ольги, обронил:
– Еще встречусь с тобой, сука.
Услышав угрозу, подняли люди из зала шум. Стали возмущаться слишком мягким, по их мнению, приговором. А одна старуха, что сидела на лавке ближе других к выходу, замахнулась на Кольку сумкой. И если бы не милиционер, разбила бы вздребезги еле склеенную врачами головенку Дамочки бутылками с молоком.
– Чтоб ты сдох в этой тюрьме, собачий выродок! – кричала она.
Дамочка вобрал голову в плечи. Откуда ему было знать, что эта старушка – бабка Ольги…
Дамочка отбывал наказание в Вахрушево.
В длинном, продуваемом всеми ветрами бараке тянули сроки мужики, этапированные со всех концов Сахалина и даже с материка.
Разношерстная публика говорила на десятке языков. Но особо выделялся здесь голос бугра.
Тот был груб и зол на всех. Не работая, он заставлял «пахать» других. Львиную долю из посылок и передач забирал Себе. Даже не просил, не спрашивал. Брал – будто делал одолжение.
Колька, не новичок среди зэков, кипел от ярости, видя такое. В прежних зонах с ним, вором, считались. Не кричали на него. Не унижали перед шестерками и сявками. А этот и днем, и ночью его, фартового, глазами, словно шилом, сверлит.
– Зэки, видя неприязнь Дамочки и бугра друг к другу, молчали. И все же каждый из них понимал: развязка обязательно наступит.
А случилась она в тот день, когда Дамочке пришла посылка от кентов.
Колька принес ее в барак, уселся кузнечиком на шконке. Ящик – рядом. Первым делом взялся письмо читать, – что-то там они на свободе делают? Как живут? Что у них нового?
Читая письмо, он то смеялся, то дрыгал ногами. Иногда почесывал затылок. Еще бы, снова двоих кентов взяли мусора. А когда дошел до того места, где кенты писали о развлечениях с девахами, и вовсе раскис. Лег на шконку помечтать.
Вот такого, разомлевшего, оторвала его от шконки жилистая волосатая рука бугра.
– Кайфуешь, падла? – выпученные от злобы глаза бугра, кажется, готовы были испепелить яростью Дамочку, беспомощно болтающегося в железной пятерне: – Иль забыл, что надо? – указал на посылку.
– Это мое! Не дам! – кричал Колька сдавленно.
– Чего? Не дашь? А я у тебя еще спрашивать должен? – бугор выхватил посылку из шконки, сунул подмышку.
Дамочка рассвирепел:
– Верни! Не то пожалеешь Я фартовый!
– Какой ты фартовый? У тебя какая статья? Иль забыл?
– Верни, говорю! – наливался злобой Дамочка, шаря по углам глазами, ища чем можно огреть по башке бугра так, чтобы он с катушек слетел на виду всего барака.
Не найдя ничего более подходящего, схватил чей-то сапог и со всего размаху хотел ударить им в лицо.
Бугор вырвет сапог. Спокойно поставил его на место. Когда разогнулся, лицо его было серым, губы подергивались.
Ухватив Дамочку за грудки, крикнул:
– Эй, Седой, возьми эту гниду. Сделай из него обиженного. Потешься с ним вдоволь!
Колька и рта не успел открыть, как десятки рук схватили его. Поволокли, сдирая с него на ходу рубаху и брюки.
– Я фартовый! Не смейте! Не имеете права! – визжал Дамочка.
– Да ты для этого рожден. Уже сколько месяцев соблазняешь нас вертлявым задом своим, – успокаивал Дамочку прыщавый старик, на ходу гладящий его по голому заду.
Дамочку затащили в дальний темный угол. Голого поставили лицом к стене. Стали тащить жребий, кто будет первый. Им стал тот старик.
Колька вырывался, кричал. Но руки зэков веревками впивались в него.
– Стой, падла! А ну, раздвинься! Иль забыл, как сам девок паскудил! Сколько наших баб испоганил! – впился в Дамочку старик.
Колька завизжал от боли.
– Заткни ему пасть! – кинул кто-то услужливо Дамочкину рубаху, ставшую кляпом.
Сколько их в ту жуткую ночь терзали его тело и душу, Дамочка уже не помнил.
Его петушили все, кому была до того охота. Даже сявки и те отметились.
Дамочке с того дня уже не разрешалось спать на шконке, как всем зэкам.
Вместе с другими двумя педерастами он ночевал на полу в самом углу, куда его теперь загоняли пинками после долгой утехи зэки всех возрастов и званий.
Обиженные… Они поделились с Дамочкой хлебом и горестями.
– Тебе этого рано иль поздно не миновать было. Так со всяким бывает, кто по этой статье приходит в лагерь. За утехи на свободе здесь собственной задницей рассчитываться приходится. Такова уж наша судьба, – вздохнул молодой гладколицый, как баба, обиженник. И добавил: – Я уже третий год в Нюрках хожу. От своего имени отвык. Одно плохо – кишка прямая теперь выпадает. Чуть не до колен. По нужде – все само по себе выходит, без моего ведома. А уж боли от этого сколько натерпелся – сил нет. Прошу их пощадить, так ни в какую.
– Сейчас он нас заменит. Свежина. Нам роздых вышел. Не то снова мучили бы, – подал голос второй.
– А ты-то как обиженным стал, вроде бы не для твоего возраста такое или тоже за изнасилование угодил? – удивился Дамочка.
– Лет пять попетушат тебя всей зоной, погляжу, каким ты станешь. Я на семь лет тебя моложе, – обиделся тот, кого Колька принял за старика.
– Бугор таких, как мы, терпеть на дух не может. У него сестру изнасиловали трое. Он их всех насмерть уложил. За это и дали ему на всю катушку. Сначала к вышке суд приговорил. Но жена жаловалась и добилась смягчения приговора. Он в камере смертников полтора года сидел. Теперь вот тут уже пя-
тый год тянет. Спасенья от него нашему брату нет, – жаловался Нюрка.
Дамочка на себе почувствовал что такое – презренье зэков. Им, педерастам, не разрешали есть за одним столом со всеми и вообще сидеть за столом. Не давали пить из общей кружки и пользоваться общей посудой.
Их передавали друг другу, как обмусоленный окурок. Зэки не упускали случая поглумиться над обиженниками.
– Не могу я больше так жить. Уж лучше повешусь! – заплакал однажды Нюрка, избитый здоровенным зэком за пассивность.
– Ну и дура! Не реви. Вот выйдешь на свободу, все забудешь. Тебе уж немного осталось. Лишь бы голова была цела. Остальное вылечишь, – успокаивала Симка, которую на свободе величали Семеном.
Кольке казалось, что этот срок станет для него последним в жизни.
Нет, не годы и не месяцы, даже не недели – дни считал. Каждый был отмечен болью, горестями и даже слезами.
Да и как тут не заплачешь, если письма от кентов, не дав прочесть, рвал в клочки бугор на глазах у Дамочки. И съедая содержимое посылок, давал Кольке нюхать пустые ящики. Из них пахло копченой колбасой, чесноком. От этого запаха к горлу тугой комок подкатывался.
Но… Дамочка уже знал – злить бугра нельзя и даже опасно.
Однажды, когда Нюрка неловко задел бугра, возвращаясь с работы, тот вскочил, схватил обиженного за шиворот и несколько раз сунул лицом в парашу.
Нюрку после этого зэки выгнали из барака. В ночь, на январский холод… Утром нашли его, обмороженного, уже без сознания.
В больнице обиженный лежал с полгода. У него начался активный туберкулез. Это и спасло. Отпустили домой. На волю, па свободу.
Бугор в этот день впервые смеялся, хвалил себя, что помог мрази живым из зоны выйти.
И глянув в угол, где сжавшись в комки от холода, лежали на цементном полу Симка с Дамочкой, сказал твердо:
– Этих падлюк живыми не выпущу, пусть не надеются на такую лафу.
Колька даже зубами перестал стучать. В эту секунду он решил для себя во что бы то ни стало прикончить бугра. Где придется, чем удастся.
Укрепившись в своем намерении, Дамочка стал придумывать
план, искать способы. Они были такими нереальными здесь, в зоне.
Ведь стоило бугру подать голос, и зэки разнесли бы Дамочку в клочья. В этом уже пришлось убедиться.
О! Сколько раз проклинал он тот день в горсаду и Ольгу. Не будь ее, как хороша была бы сегодня жизнь! Но судьба за что-то наказала его. А за что? С кентами он всегда был честен в расчетах. Никого не обидел, не обделил и не ударил.
Бабы? Да разве стоит о них говорить всерьез! Но ведь именно из-за них, за всех скопом, так люто ненавидят его бугор и зэки, будто те – родные сестры им.
Дамочка верил и не верил в то, что когда-нибудь вернется снова на Сезонку.
Однажды, словно услышав слезы обиженных, осыпался пласт породы в угольном карьере, где работали зэки. Бугор оказался там случайно, – пришел, как говорили, из кого-то должок вытряхнуть. Его и еще некоторых обидчиков похоронили на следующий день.
Через три дня в бараке появился новый бугор. Свой, фартовый. И уже в первый же день выволок из-за параши педерастов. Велел отмыться. Отвел им шконки. Запретил всякие утехи.
Был он сильнее прежнего бугра. Уже в первый же день тряхнул зэков, пытавшихся роптать по поводу обиженников. А прыщавого старика, кричавшего больше других, поместил спать рядом с парашей.
– Станешь хвост поднимать, пришью, плесень, – пообещал коротко.
Найдя Дамочку на шконке, сказал ласково:
– Выйдешь на волю, помни, что должок за тобой водится. Ты мне его вернешь немедля. Иначе все «малины» Севера будут знать, как ты тут паскудно выжил. Любой фартовый на твоем месте задавиться должен был. Я даю тебе возможность дышать здесь, чтобы ты помнил, о том, когда выйду на волю я. Иначе с живого шкуру сниму. Понял?
Колька кивнул согласно. И спросил робко:
– А какой у меня будет долг?
Когда бугор назвал сумму, Дамочка до ночи не мог продохнуть. Он и во сне, даже самом пьяном, не видел такой суммы денег.
Но с бугром не спорят, да еще в бараке. Где тот одним словом мог вернуть его к прежней жизни. Этого Дамочке вовсе не хотелось. Потом, поразмыслив, решил не переживать. До конца срока оставалось еще добрая половина. Как знать, что случится завтра?
Но ни завтра, ни потом ничего не произошло. И когда подо
шел конец срока, вылечившийся, окрепший, счастливый Дамочка зашагал к воротам лагеря: «Домой! На Сезонку! К своим!».
– Стой, падла! А должок? – нагнал бугор.
Колька писал торопливо под диктовку бугра, что он, Дамочка, обиженник, клянется вернуть долг за свою поганую шкуру.
За воротами, а тем более в поезде, Колька забыл об обязаловке. Бугру оставалось сидеть пять лет. За такое время все в жизни может измениться.
А сегодня гуляет Сезонка, пьет и пляшет. Вернулся Дамочка. Живой. Здоровый. Снова главарь «малины» с кокетливым названием «Ведьмин час».
Глава четвертая
кляп
Появилась с некоторых пор пришлая банда в Охе. Непостоянно проживающая в городе. Но уж если заглядывала сюда, то милиция лишалась сна.
Пятеро воров было в этой «малине». Главарь, по кличке Кляп, был страшнее Привидения. О Дамочке и говорить не приходилось.
Родом из Львова, Кляп гулял по Северам от зоны к зоне, от ювелирного к банку. Ворочал миллионами в рублях и в «рыжухе», сроками – не менее четвертака.
За годы жизни высчитал, что на Севере его реже сыпят кен– ты, да и сроки здесь, с учетом условий зачетов, отбываются вдвое короче. Зато банки и магазины солиднее материковских. Меньше конкуренции – сюда не заглядывали одесские и ростовские воры.
Круглый лысеющий мужичок, он никогда не унывал, не расставался, во всяком случае на свободе, со своими фартовыми, любил хорошо поесть и основательно выпить. Но даже когда язык его начинал заплетаться, голова оставалась ясной.
Умел Кляп многое, разбирался одинаково хорошо в оценке предметов старины и изделий послевоенной промышленности.
С закрытыми глазами мог назвать, что за материал у него в руках, когда и где изготовлен, сколько стоит. Среди нумизматов Кляп считался выдающимся знатоком.
В отношении его знаний мехов – любой товаровед мог бы позавидовать.
Мельком глянув на бриллианты или якутские алмазы, тут же определял их величину в каратах, стоимость в рублях и валюте. А признавал – только твердую валюту: на доллары, франки и йены выменивал в портовых городах у фарцовщиков и моряков с иностранных судов все ценное, чем владела его «малина». Лелеял Кляп давнюю мечту: захватив какое-нибудь рыбацкое судно, удрать на Аляску либо в Японию. А потому – сжигал мосты, безбоязненно убивая и разбойничая. Был уверен, что бегство за кордон с миллионами все спишет…
Вором он стал, как сам считал, по зову злого гения, попавшего в него неведомо каким путем.
Воровать он стал не от голода Не от нужды. Да и откуда им было взяться в профессорской семье, где над двумя детьми дрожал весь дом.
Родителей бросало в дрожь, если их сын Владик вдруг решит напиться воды из крана.
Мать, известный уже тогда врач, потом всю ночь вставляла ему в попу градусник.
Отец, профессор математики, мечтал вырастить сына экономистом либо астрономом. На худой случай – знатоком юриспруденции.
Последнее Владик постиг неплохо. В лагерных зонах. Бывалым зэкам такие жалобы на приговоры сочинял, что вся камера или барак вокруг него на цыпочках ходили. В уплату за столь интеллигентный труд отдавали посылки и все ценное, что имели.
Владик не отказывался.
Случалось, что его жалоба срабатывала и зэк выходил на свободу. Тогда другие липнуть начинали.
И если смолоду выторговывал, то потом стал требовать для себя привилегии. Не работал. За него старались другие. Лучший кусок даже бугор отдавал ему. Ум у воров всегда ценился особо высоко.
Зэки, от мужиков до фартовых, считались с ним. Доверяли самое сокровенное. Защищали от начальства. И Владислав чувствовал себя в зонах совсем неплохо.
Ему отводилось уютное место, подальше от дверей и окон, у него был такой набор и запас продуктов, что и лагерное начальство позавидовало бы.
Он мог спать сколько хотел, и в это время никто не мог горланить песни, бить сявку или греметь парашей.
Он знал все обо всех. Так что если начальство зоны захотело бы заглянуть в его картотеку памяти, то не раз бы вздрогнуло. Как мало знали следствие и суд о тех, кого прислали сюда!
Но Владислав не был сукой, ему и без стукачества неплохо жилось. Даже ежедневное выполнение двух норм выработки
бригада записывала на Кляпа. Мол, так работает ззк, чтобы выйти на волю по половинке срока.
Зная много о других, он никогда ничего не рассказывал о себе. Это никого не удивляло, многие фартовые переживали про– палы в одиночку. А то, что Владислав был вором, подтверждала статья, по которой он загремел в зону.
Вором он стал из-за неприятия плюшево-мещанского благополучия родителей и тяги к риску, к возможности возвыситься над другими, чтобы повелевать не только судьбами, но и жизнями.
Поначалу все было безобидно. Выпивки в ресторанах. Потом – девочки. Эти – из низов. Одна, малолетка, забеременела. Кто мог уверенно сказать – от кого из компании таких же, как Нладик, лоботрясов? Мать девицы судом стала грозить именно Владику. Ведь он из зажиточных: потребовала денег на запрещенный в те времена аборт. Для медиков. Много. Больше, чем парень мог дать.
Просить деньги у родителей? Но как объяснить зачем? А рассказать начистоту – начнутся охи, нравоучения… Посоветовавшись с собутыльниками, которых не раз угощал коньяком, решил раздобыть деньги сам. И – вместе ограбили еврея. Тот ростовщичеством промышлял.
Взяли рос, но столько, сколько требовалось. А едва отдал деньги, чтобы замазать общий грех, милиция накрыла.
Как потом Владислав сказал, не было опыта: оставили ро– гтшцпка живым, пожалели. А тому денег жаль стало.
На этот раз не откупились. Не захотел ростовщик простить. Мтп» с отцом едва живы остались после суда.
… Через три года вернулся домой. И уже на третий день, поздним вечером, направляясь к подружке, столкнулся возле старой ратуши с ростовщиком нос к носу. Тот узнал, хотел сбежать, но… Владислав был молод и силен. Затащил в подворотню. Одно усилие – и что-то хрустнуло в горле старика.
Забрав деньги, а их немало наскреб по карманам ростовщика, продолжил путь. В груди все пело: отомстил…
А па утро арестовали его. Едва к своему дому подошел. Выдали отпечатки пальцев на портмоне бедолаги-еврея. За умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах – так была квалифицирована месть вчерашнего зэка – просил прокурор в обвинительной речи высшую меру наказания. Но маститый адвокат, Кляп всегда помнил его фамилию – Левин, убедил суд дать возможность убийце искупить вину тяжким многолетним принудительным трудом.
Па этот раз не обратили внимания на мольбы матери и отбы– H.Iи, срок отправили не в Одессу, как в первый раз, а в Сибирь.
Владислав не унывал. Ведь и там живут люди. А значит, он не пропадет. И не пропал.
К зэку с пятнадцатилетним сроком, да еще с такой статьей, отнеслись по-разному. Начальство – строго, зэки – с уважением и едва скрываемым страхом. А что если он к тому же и малахольный? Кинется среди ночи, коль что не по нему, – и поминай как звали. Ему, видать, терять нечего. Вон какой молодой, а уже – душегуб. Бог даст, минует нас чаша сия…
Но Владислав оказался свойским парнем. Уже через месяц в бараке признали его. Особо – душегубы. Как родного опекали. Видно, жалели молодость.
Вскоре он научился понемногу чифирить и в балдежах с душегубами, которые под кайфом были особо откровенными, многому от них научился, многое перенял.
Ни с кем не делился мечтой своей о побеге из лагеря. И удивлялись зэки, когда Владислав сам попросился на самую тяжелую работу – на дальний участок в тайге на лесоповал. Начальство, убедившись в спокойном нраве новичка, не возражало. Однажды, когда началась пурга и зэки сбились в кучу, а видимость стала почти нулевой, кинулся Владислав к прикуривавшему конвоиру, прижал к ели, ударил по гортани, не дав крикнуть, сунул в рот рукавицу-кляп и убежал в глушь. Вслед стреляли, но пурга укрыла от прицельного огня.
Его поймали через неделю. Собаки нашли. Одну успел задушить. Но две другие одолели ослабевшего от голода зэка. А подоспевшая охрана заковала в «браслеты». [7]7
Наручники.
[Закрыть]
Вернулся Владислав в прежнюю зону. Кинули в шизо нд полгода. Срок, конечно, добавили. Молоденький конвойный жив остался. Иначе снова над беглецом повисла бы «вышка».
Душегубы потом просветили, что из этой зоны надо убегать кучей. Кому-то и пофартит. Так, мол, уже бывало.
Но лагерное начальство уже не спускало глаз с Владислава, успевшего получить кличку Кляп. Помнила зона о кляпе, который не убил солдата и сохранил жизнь зэку.
И все же через две зимы ушел на пенсию старый начальник лагеря, а новый, увидев Владислава на пилораме, возмутился: мол, тут место пожилым. Почему с эдакой мордой не на повале?
Кляпу только этого и хотелось. Через месяц, сговорившись с фартовыми, повалил спиленное дерево так, что оно придавило зазевавшегося охранника. Второго, кинувшегося вызволять товарища из-под ствола, придавили зэки. Закидав умирающих еловыми лапами, ринулись в тайгу. Лес здесь валили выборочно, иа разных делянках, и беглецов хватились не сразу. И все же погоня не промедлила, но поймала охрана лишь стариков, тех, кто из сил выбившись не мог идти дальше. Они и держали ответ за убийство двух солдат роты охраны. Своими жизнями, взяв нею вину на себя, заплатили.
Кляп хорошо помнит то пасмурно-комариное утро в тайге, когда, заслышав далекий собачий брех, разбудил троих кеп– тов – молодых, сильных. И, велев не шуметь, чтоб не разбудить остальных, свалившихся от усталости, увел их за собой через болото. Помнилось Кляпу, как хорошо держат след натасканные овчарки.
Проснувшиеся сразу все поняли. И не удивились. Сами учили правилу: выживает сильнейший. Вот и сами наживкой стали. Впрочем, и сами не раз выживали за чей-то счет. Да вот с годами за то расплата пришла. Хотя чему удивляться? В этой жизни за все платить надо. И за чью-то отнятую жизнь, и за миг свободы – собственной головой.
– Хотелось в стари побыть хоть немного на воле. И помереть свободным. Хотя бы и от пули. А свобода – как призрак, была – и нет ее… Как эхо в тайге, бродит меж деревьев, а к хозяину не вертается, – сказал потом самый старый беглец начальнику лагеря перед строем зэков, когда увозили его с остальными и тюрьму, где ждала их камера для смертников.
Па остальных сбежавших был объявлен розыск. А приговоренные к расстрелу беглецы и перед смертью желали сбежавшим не словиться, не попасть в руки мусоров. До последнего смсртлого часа – жить на свободе в свое удовольствие. Когда-то и им желали такое же уходящие. Не было обид… Ведь должен же кто-то загородить собою молодых. Не беда, что не совсем по собственной воле приходилось идти на это. Да и жалеть тут не о чем. Все равно в зоне померли бы. Кто ж такой срок в старости осилит? А и жить – уже невмоготу. Может, оно и лучше, считали, что вот так быстрее все кончится.
Несколько лет мытарств по городам, знакомства с «малинами» Приморья прибавили опыта. Кляп боялся подолгу задерживаться на одном месте, а потому никогда и нигде не был дольше нескольких дней. Это спасло его от многих неприятностей.
Но все же произошла и с ним роковая случайность.
Приглянулась баба – продавец из ювелирного. Хотел у нее нынсдать полезное для себя. Ну и слово за слово. Познакомились. Встретились у нее дома. Выпили. В постели кто о советах старых кентов помнит! Задержался. А раненько, чуть светать стало – милиция.







