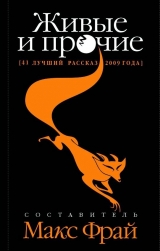
Текст книги "Живые и прочие (41 лучший рассказ 2009 года)"
Автор книги: Елена Хаецкая
Соавторы: Александр Шакилов,Алекс Гарридо,Юлия Зонис,Елена Касьян,Линор Горалик,Юлия Боровинская,Марина Воробьева,Оксана Санжарова,Лея Любомирская,Марина Богданова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
Юлия Сиромолот
ПОЛКОВНИК И ПАННОЧКА
Гай Грыцюк, полковник Воздушных Сил, выборный от округа Манивцы, очень аккуратно пренебрегал обязанностями. Он поступал так каждое утро, кроме выходных и тех двух дней в неделю, когда читал лекции в Школе Воздухоплавания. Свежий после крепкого сна, зарядки и обливания холодной водой, в парадной форме летчика, при всех наградах – скромно, колодочками, – полковник садился на веранде, благо мягкий климат Манивцов тому способствовал круглый год, и ждал. Пускал ароматный пар горячий настой душицы и мяты, точила прозрачный сок нежная домашняя колбаска… но полковник не спешил завтракать. Обычно вскоре на углу улицы появлялась пани главная секретарка Думы. Она следовала на утреннее заседание. Останавливалась за низкими кустами бирючины, здоровалась и протягивала через изгородь повестку дня. Пока полковник читал, остро оглядывала веранду и сельский завтрак: «Пан полковник, конечно, и сегодня пренебрегает?» Грыцюк вежливо кланялся, не поведя ни бровью, ни усом, возвращал повестку и всегда очень спокойно и даже кротко отвечал: «Так точно, дорогая пани секретарко, пренебрегаю». На том они расставались, и полковник выпивал наконец чаю. Затем он раскуривал трубку и, попускав немного дым в сиреневое утреннее небо, возвращался в дом.
На заднем дворе, выходившем в луга, в хорошем каменном амбаре у него была устроена мастерская.
Там пана полковника ждал второй завтрак – покрепче, чтобы сил хватило на добрых полдня: каша, молоко в глиняной кружке, свежий хлеб. И много работы, до самого вечера.
Полковник Грыцюк собирался лететь на Луну.
Он давно об этом мечтал. Еще совсем молодым в ночных полетах навсегда запомнил, как растет, приближается белый круг с переменчивыми тенями на нем, если удерживать руль высоты. Но маршрут… но запас горючего… но бурный на таких высотах воздух… но… но…
Потом были боевые вылеты, Луна стала опасна, ее предательского спокойного света летчик Грыцюк должен был избегать. После войны снова получалось так, что его всегда кто-то ждал: грузы, почта, люди. Теперь вот жизнь разлилась покоем, только заседатели-законодатели попытались вонзиться шипом в задницу, но не тут-то было.
Полковник точно знал, чего хотел.
В мастерской у него в две стены шли полки с книгами по воздухоплаванию, с научными журналами, переплетенными по выпускам в синюю кожу. Самодельный прибор зловещего оружейного вида нацеливался в небосвод – и самодельным он звался только потому, что не был куплен готовым: детали для него по заказу пана Грыцюка изготавливались на лучших заводах Охримании и Венделандов, да потом еще приезжал специалист, собирал и налаживал. В тихих Манивцах появление чернокожего человека произвело большое оживление: среди стариков и старух – полусуеверное, среди молодежи – опасливо-любопытное, а манивчане средних лет были довольны тем, что пиво иноземец пьет, колбасой с чесноком закусывает и не морщится, а в «дупеля» в свободное время играет, как честный и свой, да так, что только стол не разваливается. Правду сказать, в «дупеля»-то он с соседями только раз и поиграл: заморское время дорого, а деньги свои и чужие полковник считать умел.
Кроме книг и научных приборов, вычислителя и ящиков с записями, было там место и для небольшого горна, и для универсального станка, и для сварочного аппарата. Свободное же пространство занимала вот уже многие недели растущая конструкция аэростата. Как пчелиная матка в ячейке королевских сот, пряталась она в лесах, в тонкой зеленой сетке, которой для пущей безопасности полковник затянул свободные пространства между балками, но, внимательно приглядевшись, можно было различить внутри нечто, напоминающее не то корзину для цветов, не то цветочную же чашечку.
Полковник постоял немного у сооружения, оглядывая его придирчиво, обошел вокруг и заглянул в смежную комнатку.
Там под большим выходящим на юг окном стояла швейная машинка. Пол вокруг нее, чисто подметенный, устилали волны крепчайшего сурового шелка. Белого. Полковник вычислял, высчитывал и решил: белому шелку быть. В самом сердце этих волн твердой рукой вела строчку панна Дарина, домоправительница.
– Панна Дарина, доброе утро.
– Доброе утро, пан полковник.
Не слишком уже молодая, панна несколько лет заведовала домашним хозяйством полковника, а когда он начал строить летучую машину, приняла в будущем полете живое участие и вызвалась, кроме обычных своих дел, сшить оболочку для аэростата. Полковник нарадоваться не мог, глядя, как спорится у нее работа. Так каждое утро и шло уж много недель: сначала пани секретарка с повесткою, потом завтрак, потом «доброе утро, панна Дарина» – и за дело.
Манивчане полковника Грыцюка не то чтобы боялись или не любили – напротив, относились с уважением к его геройскому боевому прошлому и к давности его славного рода. К пренебрежению им депутатскими обязанностями были весьма снисходительны: сроду не бродил в Манивцах политический дух, а что водопровод работает и школьную крышу починили – то и хорошо. Но вот то, что полковник у себя дома некими тайными трудами занят, для чего к нему чернокожие люди приезжают, отчего из сарая на всю округу ухающие звуки раздаются, и по какой такой надобности повозками добро привозят – и куда девают, например, керосин, или новенькие рельсы, или канаты целыми бухтами… это все манивчан настораживало. Городской голова приходил к полковнику, пили на веранде и чай, и что покрепче, полковник показывал – не вдаваясь особо в подробности, но и секрета из своих целей не делая – мастерскую и приборы. Объяснял, что занимается исследованиями в области воздухоплавания. Но и это не успокоило общественность. Воздухоплавание – это, конечно, славно, но летать на Луну – это ж, помилуйте, детская выдумка, блажь, вон иные тьмутараканские ученые считают, что Луны и нет совсем, одна видимость на сфере небесной, да и пользы от этого никакой, даже если бы и не видимость, а в самом деле Луна… По этой причине добрые манивчане избегали полковничьей усадьбы сами и детям заказывали поблизости играть. Мало ли что, вдруг и вообще. Оттого в последние полтора года пан Гай сделался в некотором смысле затворником. А затворник, у которого по хозяйству управляется особа хотя и не юная, но все еще красивая, статная, расторопная и молчаливая, – это уже почти совсем подозрительно: в прежние времена сказали бы – колдун и ведьма. А в нынешний просвещенный век только вздыхали: странный у нас выборный, и хозяйка у него того… этого…
Так что чаще всего из местных жителей у калитки полковника бывал почтальон. Раз в неделю с «Ведомостями Манивецкого края», дважды в месяц – с научными журналами со всего света, тяжеленными, без ярких картинок, время от времени – с бандеролями и квитанциями на посылки. А сегодня с повесткой пришел.
– Повестка вам, пан полковник, распишитесь отут, будьте добры.
Грыцюк расписался, не ожидая ничего хорошего. Прочел бумагу, сердито хмыкнул.
– Вот, панна Дарина, остаетесь на хозяйстве, – сказал, входя в мастерскую.
Домоправительница отвечала:
– Да я ж и так все время на хозяйстве, пан полковник. Что у вас там?
– В Лебедянь вызывают, в самую столицу.
– Вызывают? – Панна Дарина перестала качать педаль, подняла от шитья чуть покрасневшие глаза.
– Ответ держать, – сердито сказал полковник. – Почему это я обязанностей выборного лица не исполняю.
– И что… накажут они вас?
– Да помилуйте, моя панна! Ну самое большее – выведут из списка выборных, ну так мне того и надо. Я ведь этой обязанности не искал, держава решила, что пан Гай Грыцюк за народ воевал в небе, так и на земле теперь пусть повоюет. А я ведь что, за школу или, там, за водопровод наш – голос отдавал, но сидеть целыми днями, насчет ихних фондов да подкомитетов балагурить и народные деньги по разным карманам рассовывать – слуга покорный… Да что это я оправдываюсь, в самом деле!
– Вы, пан полковник, поезжайте спокойно, – отвечала домоправительница. – Я за вас помолюсь. А уже приедете – и как раз все будет готово.
– Понимаете вы меня, дорогая панна, – вздохнул полковник. – Столько дел, а тут изволь все бросить и явиться. Кабы не ждал такого случая развязаться с их выборной ерундою, поверите, не поехал бы ни за что. А так – что же, оставляю все на вас с легким сердцем.
И оставил. В столице полковник скучал невероятно, завершение трудов и отлет становились все желаннее, задержка – все досаднее с каждым часом. А тут еще и вопрос «о деятельности выборного полковника Грыцюка» шел последним в повестке дня, так что пан Гай, чтобы занять разум, принялся в который уже раз высчитывать подъемную силу своего аппарата, вводя всякие хитроумные поправки на изменение свойств воздушной среды вблизи Небесной Тверди. Делать такие вычисления при помощи одной лишь счетной линейки было сложно и увлекательно, и к той минуте, как председатель объявил о слушании отчета полковника, у того уже все цифры сошлись, и по всему таки выходило, что даже в самом скверном случае уж Тверди-то достичь удастся. Поэтому на трибуну он вышел в отличном настроении и в коротких словах разъяснил собравшейся перед ним громаде, что должность его почетная, однако же он ее осуществлял неуклонно в том, что касалось насущных дел округа. Поскольку таковых у нынешнего состава Манивецкой думы находилось все меньше, полковник счел возможным сосредоточиться, как он выразился, «на преподавательской и научной деятельности».
– Ничего себе научная деятельность! – воскликнул кто-то из земляков, – полковнику в глаза било высокое солнце из окон, и он против света с трудом различал, кто где. – Наш пан Грыцюк, понимаете, собрался на Луну лететь!
В зале поднялся шум и хохот. Председателю пришлось трижды постучать булавой по столу, прежде чем паны выборные утихомирились.
– Уважаемые паны сотоварищи, – продолжил Грыцюк сурово, – в достижении Луны нет ничего ни смешного, ни невозможного. Один только недостаток знания и избыток суеверий, а также слабость нашей воли долгие годы преграждали нам путь к пределам нашего мира. Если вы собрались выслушивать мой доклад, то я имею вам честь доложить, что мною сооружен… почти уже закончен аппарат, который, согласно расчетам, способен достичь Небесной Тверди и самоё Луны.
– Вздор! – на сей раз не утерпели на столичной скамье. – Алхимический бред! Со школьной скамьи мы знаем, что Луна не более как пятно на Небесной Тверди, какой смысл в ее достижении?
– Любезный пан, не вижу вашего уважаемого лица… в школе такую ерунду учили разве что триста лет назад, – парировал полковник. – Едва ли вы такой долгожитель… Новейшие исследования, точно, говорят о том, что свойства сего, как вы выразились, «пятна» отличаются от свойств окружающей Луну Тверди, и это, несомненно, самостоятельный объект, достойный изучения и внимания.
Далее полковник слегка вдался в подробности того, каким образом были определены свойства Луны, и отчет его вполне превратился бы в подобие лекции в Школе Воздухоплавания, но тут слово для вопросов взял депутат Ковинька, и полковник помрачнел. Пан Кристофор Ковинька был не какой-нибудь замшелый протиратель казенных штанов, а ученый и инженер, создатель аэропланов, и на иных из его творений пану Гаю приходилось летать. При этом пан Ковинька был, можно сказать, заядлым противником идеи о полетах к пределам Небесной Тверди.
– Если пана Грыцюка не затруднит, – спросил Ковинька, – то я хотел бы знать, какого рода аппарат пан предполагает использовать для достижения… эээ… упомянутого небесного тела?
– Со всем уважением, пан Ковинька, – отвечал полковник, – я таки признаю и соглашаюсь с вами заранее в том, что никакая современная авиамоторная техника не позволит осуществить мое предприятие. Ввиду ряда известных особенностей воздушной оболочки… сильной циркуляции воздушных масс в верхних слоях…
– Следовательно…
– Следовательно, решение напрашивается само собою. Это аэростат.
Ученый присвистнул и покрутил пальцем у виска.
– Аэростат!
– С частичным рулевым управлением.
– Вы таки шлимазл, – заявил ученый муж. – Бог мой, пан Грыцюк, вы же были такой летчик, такой летчик! Слов моих нет, как жаль видеть вас в таком плачевном состоянии ума. Ну расскажите же мне, как вы намерены преодолевать фронт циркуляции?
– А я и не намерен, – почти весело отвечал полковник. – Я буду его использовать, поскольку имеются сведения, что фронт не просто связан с фазами Луны, но непосредственно некоторым образом порождается ею. Я воспользуюсь восходящим потоком воздуха именно для того, чтобы достичь Луны, а затем спущусь при помощи нисходящего тока и оболочки, трансформируемой на этом этапе в конструкцию наподобие тормозящего крыла…
И, повернувшись к доске, на которой секретарь выписывал порядок заседания, полковник схематично изобразил то, о чем только что сказал.
Кристофор Ковинька поглядел на схему, побледнел и махнул рукой.
– Все равно, пан Грыцюк, вы сущий безумец. Ну на что оно вам надо?
– Небось для решения продовольственного вопроса, – ехидно крикнул кто-то из столичных. – Думает, наверное, что Луна из сыра сделана!
Зал взорвался хохотом. Ковинька поморщился. Полковник, залившись недоброй бледностью, выждал, пока веселье утихнет, и жестко проговорил, адресуясь к «столичным»:
– Паны острословцы, я вашу шутку оценил. Я полагаю, чужой сыр и чужое сало кушать всегда приятно. Но нет, я не надеюсь повстречать на Луне молочные реки и кисельные берега. Я опираюсь на науку, а наука провидит иные пределы возможного, вам, судя по всему, не слишком понятные. И я намерен их достичь – и по мере сил расширить. Что же до консистенции матушки Луны, то я уверен, – тут он повернулся и стал размашисто писать на доске, – что сие небесное тело достаточно твердое, чтобы нога человека могла запечатлеть на нем свои следы.
И подписался.
Тут сверкнул магний дежурного фотографа, и снимок запечатлел коренастую набыченную фигуру полковника на фоне надписи: «Полагаю, что в силах человека ступить на Луну, ибо она твердая. П. В. С. Г. Грыцюк».
Домой полковник возвращался в приподнятом настроении. Отлет, можно сказать, был назначен, сроку оставалось около недели. На проверку и настройку рулей и горелки времени много и не понадобится. Лишь бы оболочка была уже готова…
После столичной суеты и шума полковник наслаждался малолюдьем на перроне, и даже то, что не каждый фонарь вдоль дороги от станции к дому светил, его не огорчало. Он решил не брать авто, пошел пешком, на ходу поглядывая с улыбкой на прибывающую Луну над левым плечом.
– Пан полковник…
Грыцюк замедлил шаг и подобрался. В тени что-то слабо блеснуло. Полковник остановился.
– Кто там?
– Та это ж я, Топилко, прошу прощения за беспокойство. Я ж как раз форсуночку вам приносил, а ото на смену иду.
Форсунку полковник, точно, заказывал наново у механиков в железнодорожных мастерских: нужно было уменьшить размер отверстий… Бригадир Топилко, один из немногих в Манивцах, относился к полковниковой затее с пониманием.
– Спасибо, – отвечал Грыцюк. – Я ж вам за работу заплатил?
– Та что вы такое говорите, – засмеялся Топилко, – конечно, сразу ж заплатили. От они вас там, в столице, укатали совсем?
– Не так оно просто – меня укатать, – заметил полковник. – Пошумели и разошлись. И вообще, Топилко, все сладилось хорошо. Неделя еще – и отправляюсь. Мне бы ваша помощь была нужна весьма – горелку наладить, подвижную часть еще раз просмотреть.
Топилко, выйдя к тому времени из тени, округлил глаза и хлопнул себя по карманам:
– От это дела! Та ну… пан полковник… ну конечно! Ну такое говорите… Уже? Через неделю?
– Уже. Ну как, получится у вас?
– Та конечно… Ну если что, подменюсь там с хлопцами… От если бы еще вы меня и с собою на Луну взяли! Так не возьмете ж?
– Нет, не возьму, и просить нечего. Машина на одного. А подмениться на работе – это хорошо, если получится, буду очень рад.
– Завтра прямо утречком со смены к вам приду. – Топилко радостно потирал руки и от волнения еще сильнее благоухал соляркой и домашней колбасой. – Ну, я тогда побёг. Доброй вам ночи.
И он в самом деле побежал, торопясь успеть к гудку, и на ходу подпрыгивал и сам гудел от избытка чувств не хуже, чем маневровый паровоз.
Полковник был счастлив. Это не совсем приличное для его лет счастье, должно быть, ярче осветило швейную мастерскую, где панна Дарина будто бы и не вставала из-за машинки с той минуты, как пан Грыцюк уехал в столицу. Белый шелк все так же громоздился вокруг, только его было больше, очень много белого шелка.
– Ой, пан полковник, вы уже вернулись. А я вот… видите… не успела немного.
«Это ничего», – хотел сказать Грыцюк, размягченный тем, что после стольких лет глухой упорной борьбы все наконец-то складывается и решается, но слова нашлись совсем другие.
– К следующей пятнице бы нужно закончить, панна Дарина, – сухо заметил он.
– К пятнице, – повторила домоправительница, и переменчивый свет лампы бледной тенью упал на ее лицо. – Хорошо, пан полковник, я поняла вас, ступайте отдыхать, а ужинать хотите – там на столе хлеб свежий, молоко – рушничком накрыты…
В среду панна Дарина расправила плечи, распрямила затекшую поясницу и неверными от утомления шагами вышла из мастерской. Она позвала жену механика, Топилкову Ганну, и вдвоем они весь остаток дня в среду и до обеда в четверг складывали и собирали огромную оболочку по линиям швов, ползая по ней с подоткнутыми юбками, точно поломойки.
– От матерьял-то какой, прямо хоть платье в церкву шей, – ворчала Ганна. – И не порвется, и сносу нет. У тебя отрезика не осталось, часом?
– Не осталось, – отвечала Дарина. – И то своего еще добавить пришлось.
Закончив с оболочкою, панна Дарина отдыхать не ушла, а приготовила полковнику и Топилке обед: всю неделю они кормились Ганниной стряпней, надо же и честь знать. Когда полковник уже и чаю выпил, и пирожкам с вишней воздал, что положено, и покурил на свежем воздухе – словом, когда уже пора было ему возвращаться в амбар и там что-то еще доделывать и докручивать с неутомимым механиком, панна Дарина вошла на веранду.
– Пан полковник. Задержу вас на пять минут.
«Как она устала, бедная», – подумал Грыцюк, – панна была бледна, даже голос у нее был какой-то бесцветный. Он хотел было усадить ее в кресло, но домоправительница сурово покачала головою, и оба остались стоять.
– Пан полковник, вы завтра… улетаете.
– Точно так, моя панна, и…
– Ну так вот. Я пришла попрощаться.
Полковник задрал бровь.
– Мне… нужно уехать.
– Так срочно?
– Да. Завтра утром.
Полковник растерялся. Он привык к панне Дарине, привык, что она всегда тут: только окликни – отзовется, руку протяни – а в ней уже и пирожок или вареник, или кружка свежего молока, или чашка крепкого чаю. Надежная, да что там – незаменимая панна Дарина, уже почти родная… А он-то собирался ей перед отлетом сказать, как он благодарен, при всех собирался – мол, если бы не ваша верность да труды… Вся картина завтрашнего торжества как-то потускнела в воображении полковника.
– И что ж за надобность такая, моя панна, – с досадой сказал он, и поперхнулся даже, и охрип, – видно, важнее нашей с вами минуты радости…
– То ваша минута радости будет, – тоже не в полный голос отозвалась панна Дарина.
Углы губ у нее опустились, выглядела она совсем усталой. Полковник жалел ее, и себя вдруг стало жалко… Нет, неправильно это было – ей уехать сейчас.
– Напрасно вы так говорите, панна. Без ваших рук, без вашего участия… да разве ж бы я… разве ж всё бы так… А, да что говорить. Если уж вам так нужно…
Она кивнула.
– Не могу вам в том препятствовать. – И полковник церемонно наклонил голову.
– Спасибо, пан полковник, – тихим, почти нежным голосом отвечала панна Дарина. – Доброй вам ночи и доброго полета.
И вышла, оставив полковника в смутной растерянности и с тяжестью на сердце. «Не сказала ведь, куда едет и надолго ли, – подумал Грыцюк. – Так говорила, будто не вернется… или думает, что я не вернусь?» Ох, панна, панна. Но нет, не может быть. Да и не таков полковник Грыцюк, чтобы предательские слова (какие слова, она же ничего как раз и не сказала), да еще женские, могли бы его сбить с толку. Отогревая враз застывшее сердце ладонью, он походил туда-сюда, вытряхнул золу из трубки и побрел в амбар. Там на ящиках из-под измерительных инструментов храпел Топилко. Полковник посмотрел на список дел, примерился было ключом к шейке манометра, но рука соскользнула. Грыцюк покачал головой, присел на упаковочную солому рядом с механиком. Пять минут спустя они уж храпели на два голоса.
Утро прежде всего напомнило об отсутствии панны Дарины. И завтрак второпях был совсем не тот, и дом отзывался пустотою. Полковник, правда, быстро отвлекся на суматоху последних приготовлений, среди которых совсем не простым делом было вытащить корзину аэростата из амбара на открытое пространство при помощи целой системы лебедок, закрепить оттяжками и уложить сверху тяжеленную оболочку. Топилке разрешили для такого великого случая забрать с собой целую бригаду железнодорожных рабочих. Еще неделю назад полковник был местным чудаком, чуть ли не городским сумасшедшим. Теперь им уже гордились – хотя он еще не взлетел и на вершок. Шума от десяти железнодорожников, привыкших орать на все мастерские, было столько, сколько не от всякого аэроплана бывает. Но постепенно все работы окончились. К тому времени стала собираться толпа – норовили не только поглазеть, но и потрогать, так что Топилко огородил место взлета колышками с красно-белой лентой: «Опасно! Проход воспрещен». О том, что панна домоправительница уехала, полковник вспомнил, когда настало время приводить себя в порядок и одеваться к отлету. Помывшись, как в детстве, в деревянном корыте, потому что ванну устраивать было уже недосуг, полковник прошел к себе и там из шкафа достал чистую рубашку. Застегивая пуговицы, вдыхая запах отглаженной панною Дариной ткани, Грыцюк подумал: «Ничего. Это ничего, что ее нет сейчас здесь. И суток не пройдет – я вернусь… да, я вернусь, а мир весь не будет так велик, чтобы я тебя не нашел, моя светлая панна, зоря моя».
Вот как он думал.
Парадную форму полковник надевать не стал. В старом боевом кителе и в широких пилотских штанах он чувствовал себя удобнее. Да и сидела эта одежда на нем как влитая – пивного брюха, как некоторые другие отставники, пан Грыцюк не нажил. Он навел глянец на высокие ботинки, разложил по карманам кое-какие приборы попроще вроде барометра, несколько карандашей, блокнот, спички, складной нож и серебряную фляжку с целебной горькой настойкой.
И почувствовал себя вновь молодым, будто не отдал своей мечте всех этих дней и ночей, будто ни седины, ни прострела под лопаткою… Ничего иного, только чистая радость. Сегодня. Вот сейчас.
Полковник надел шлем, пригладил усы, плотно обмотал горло белым, тонкой шерсти шарфом. Меховую куртку еще несколько дней назад упаковал – она уже дожидалась в корзине. Напоследок оглядел спальню – на столике в поливной кружке стоял букетик пурпурных с золотом цветов. «Ее чернобровцы», – подумал полковник. Вздохнул и вставил один, попышнее, в нагрудный карман. «Панна моя…» – прошептал беззвучно и вышел из дому.
Уже близился вечер, в тяжелых косых лучах солнца аэростат и сам напоминал диковинный цветок: темно-зеленая брезентовая обшивка корзины в черном, блестящем лаком ажурном переплете, а сверху, точно лепестки, – многократно сложенное белоснежное шитье панны Дарины – могучие паруса, крылья.
Полковник огляделся. За красной лентой и дальше, за колючей живой изгородью участка толпился народ. Лица были одинаково белые, плоские – так полковнику показалось. Явились не запылились. Ее вот только нет. Полковник сердито фыркнул, поправил без нужды усы и шагнул к корзине. Топилко спрыгнул через борт.
– Всё як у доктора в кабинете, – сказал он хрипло, обнял полковника и прижался к его щеке своею, перемазанной солидолом. – Держите, Ганнуся на дорожку дает…
Он сунул в руки Грыцюку глиняную четверть с домашней горилкой, обвязанную пергаментной бумажкой. Полковник негромко поблагодарил и забрался внутрь.
Почти тотчас же наружный мир перестал для него существовать: солнце катилось к закату, манивчане затаили дух, а он стоял, чуть расставив ноги, на светлой дубовой палубе своего летучего корабля, и это уже был целиком его мир: сладко пахнущие доски, черный лак, добрые канаты – пеньковые и стальные, крепкая ковка и сварка, надежное шитье и честный самолетный керосин. Полковник несколько раз глубоко вдохнул – самый воздух в машине был уже полон чудес и опьянял не хуже тройной домашней водки. Сквозь это великолепное чувство силы и радости до полковника, однако же, стали долетать звуки извне: манивчане согласным хором выкрикивали одно короткое слово, и полковник, разобрав его, несколько очнулся.
– Речь! Речь! Речь! – кричали люди.
Полковник взобрался на один из ящиков, покрепче ухватился за растяжку левой рукой. В правой он так и держал бутылку от Топилковой Ганны.
– Люди! – начал полковник и сбился, потому что собравшиеся замолчали и обратились в слух. Полковник смотрел на них и видел то чуб, то соломенную дамскую шляпку, то рыжие от табака усы, то чью-то руку с тремя кольцами на тонких пальцах… Глаз он не различал, но все смотрели на него. Откашлявшись, Грыцюк снова начал: – Люди! Соотечественники! Веками ученые мужи все спорили, что за явление такое сия Луна? Сколько догадок было – от смелых до нелепых! И вот нынче я, Гай Грыцюк из Манивцов, пользуясь расчетами лучших мировых умов и благодаря трудам своих рук и… и помощи добрых друзей, ну и вопреки шипению недругов, – тут в толпе зашумели и захмыкали, – собираюсь доподлинно все это узнать и проверить. Десять лет отдал я вычислениям и наблюдениям за нашим ясным месяцем, два года сооружал этот вот аэростат, много преград было преодолено, много трудов положено, а мечтал я об этом с детства. Теперь вот – лечу.
– Ура! – закричали собравшиеся. – Ура нашему полковникууу!!!
– Пан полковник, пан полковник… – Вперед, отчаянно пинаясь, выбрался Кузьма Гоношец, писатель заметок в «Ведомости Манивецкого края». – Для истории! Как зовется ваша дивная летающая машина?
«Дарина», – чуть было не вырвалось у полковника. Но нет, нельзя, ни славы в том бы не стало панне Дарине, да и себе удачи полковник не ждал бы от этого. Скорей бы все осталось позади… внизу…
– Так как же называется? – упорствовал Гоношец.
– Этот аэростат, – раздельно выговорил полковник, – этот аэростат я нарекаю… «Небесной уточкой»!
И, будто так и предназначалось, ударил по стальной растяжке топилковской сулеей. Глина глухо треснула, сильно запахло смородиновым листом. От свежего этого запаха полковник встряхнулся и стал искать, чем бы вытереть руки. «Ветошки я в углу… там… – долетел сдавленный голос Топилко; то ли механику было горько, что полковник летит один, то ли смородиновку было жалко до слез. – Пане Гаю, горелку… горелку на первых порах перекачивайте чуть-чуть, клапан новый, чуете меня?» – не унимался славный железнодорожник. Грыцюк отыскал его взглядом – бледного, мокроусого, кивнул: «Чую» – и достал из кармана спички.
Топилко зря волновался, горелку он отладил на совесть. Когда к запаху смородины примешалась, перебивая его, острая керосиновая струя, полковник снова ощутил себя как бы в молодости, и это было великолепно. Он столько раз садился за рычаги совершенно новых машин, и вот – еще одна, пожалуй что и понадежнее тех, давних; и точно так же манил предстоящий путь.
Уже никого и ничего не замечая, Грыцюк сел в пилотское кресло, специально оборудованное вблизи горелки, и сделал первую запись в бортовом журнале. Когда он дошел до стартовых параметров и приподнялся, чтобы записать положение регуляторов, «Небесную уточку» слегка качнуло.
Манивчане разразились криками. Совершенно не по-геройски морщась, полковник перегнулся через борт – да, несомненный клиренс. «Земля, прощай! В добрый путь!» – вспомнилось ему из детской сказки, и недрогнувшей рукою он отдал причальные концы.
Конечно, стараниями Кузьмы Гоношца было об отлете полковника Грыцюка понаписано немало в самом героическом духе, вроде того, что «он стоял на палубе аэростата, высокий и стройный». На самом деле полковнику было не до стояния на палубе: с самой первой минуты, как только «Уточка» расправила шелковые свои крыла, он тщательно записывал температуру воздуха, расход топлива, скорость и направление ветра, и только на двадцатой минуте – «полет нормальный» – заметил, что вокруг синий простор, привычный смолоду, а все Манивцы – да что там, весь округ можно окинуть одним взглядом. Однако «Уточке» предстояло подняться куда выше, нужно было задраить борта корзины, превратив ее в закрытую гондолу, но прежде полковник решил надеть куртку. Он откинул крышку рундука, и только крайняя теснота помешала ему как следует отпрянуть в изумлении.
В рундуке, свернувшись калачиком, укрытая его меховой курткой, спала панна Дарина.
Никакие слова, пожалуй, не смогут передать в достаточной мере произошедшее затем. Полковник тормошил домоправительницу, панна Дарина кротко улыбалась; полковник дергал себя за усы и клял на все корки неверного Топилку – без его ведома не обошлось, конечно же, в таком предательском деле, а панна клялась, что ни Топилко, ни Ганна знать ничего не знали, что она сама, все сама решила и сделала.
– Но как же вы могли, панна! – восклицал полковник. – Зачем же вы, чорт бы вас… ох, простите, зачем же вы так со мной поступили? Я ж бы…
– Вы ж бы меня и слушать не стали, пан полковник. А стыдиться мне нечего, в моих словах и неправды-то, если подумать, не было. Сказала, что уезжаю из Манивцов, а вы уж сами решили, что одна… А вышло, что с вами.
Полковник только сопел. Дыхание облачком вылетало из ноздрей.
– Вы… вы куртку-то наденьте, панна, – сердито сказал он. – Застудитесь, не хватало еще.
– Не застужусь, – отвечала панна Дарина. – У меня тут кожушок припасен.
Она подала полковнику его одежду, выбралась из рундука и облачилась в кожушок и в вязаную шапочку с наушниками.
– Ох и хитра вы, панно. Ох и хитра… Это ж надо такое… А вот знаете ли вы, что в вас, простите меня, конечно, но не меньше трех пудов весу… и что лишние эти три пуда аэростат мой не понесет? Я его на это не рассчитывал. Эх, панна, не видать мне из-за вашей глупой выходки Луны. – И полковник сердито стукнул по борту.
– Ну вы и не рассчитывали, – сказала панна ласково. – А я так хотела лететь… с вами… что сама и посчитала по вашим же тетрадкам. И от себя немного добавила.
– Чего вы, горе мне с вами, добавили еще???
– А вот же. – И панна Дарина указала вверх, на светящийся розовым дольчатый купол над «Уточкой». – Я женские курсы закончила, а объем сосчитать да поправки внести дело нехитрое. Вот я все и учла, и шелк, и керосин. И заплатила, вы не думайте.







